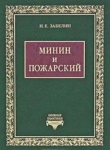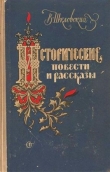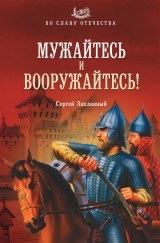
Текст книги "Мужайтесь и вооружайтесь!"
Автор книги: Сергей Заплавный
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
С того и началась необъявленная война шведов с государством Московским. Первым делом они к Кареле подступили. Хотели ее сходу взять, да не вышло. Поставленная на гранитной скале, снизу она скрытым под водой частоколом загородилась. Остров – да и только, а на нем две тысячи защитников, которым ни русский царь, ни шведский король, не указ.
Надолго шведы запнулись о Карелу. Ее защитники вконец оголодали и оцинжали, огромные потери в схватках с неприятелем понесли, но чести своей не уронили. Когда их осталось не более ста человек, решили они взорвать крепость. Узнав об этом, двадцатисемилетний шведский военачальник Якоб Делагарди, по происхождению своему француженин, дал слово, что выпустит их с миром и почетом, если они от своего намерения откажутся. Так и сталось. Ушли они в Орешек беспрепятственно – с гордо поднятыми головами.
Орешек – тоже изрядная крепость. Но взять ее Делагарди так и не удалось. Обломав об нее зубы, он отправился грабить Ижорский погост, дважды брал приступом Ладогу, но так и не взял. А возле Яма, Копорья и Гдова кружил другой шведский ястреб – Еверт Горн.
К тому времени, когда шведы к стенам Великого Новгорода подступили, многое в Московском государстве переменилось: Скопин-Шуйский, отогнавший от Москвы тушинцев, был предательски отравлен, его венценосный дядя Василий Шуйский свергнут с престола, насильно пострижен в монахи и увезен пленником в Польшу, его место заняли седьмочисленные бояре, Тушинский царик Лжедмитрий-второй был убит, восставшая Москва сожжена войском Гонсевского, новгородцы, как и жители многих других городов, поневоле принесли присягу польскому королевичу Владиславу. Они меж двух огней оказались: с одной стороны ляхи хозяйничают, с другой – шведы. А тут еще Смоленск после двадцатимесячной героической обороны пал. Как тут быть? С какой стороны избавления от неисчислимых бедствий ждать?
Пользуясь распрями в русском стане, шведы стали шептунов и перелетов в Великий Новгород засылать, щедрыми посулами его лучших людей приманывать: Новгород-де так же богат и велик, как Москва, а потому волен жить своим государством; для процветания ему следует призвать на царство одного из сыновей шведского короля Карла Девятого; принц же, который будет прислан из Стокгольма, православную веру приняв, добрым отцом Новгородскому государству станет…
Однако ждать, когда плод созреет и сам в руки упадет, шведы не стали. Делагарди решил события убыстрить – силой захватить Великий Новгород. Но не тут-то было. Получив сокрушительный отпор, он неделю залечивал раны у Колмовского монастыря и чуть было не ушел за Волхов. Если бы не предатель Ивашка Шваль, тайно открывший шведам Чудиновские ворота, нового приступа могло бы и не быть. Но что случилось, того не переменишь. Наемники разграбили и сожгли большую часть города, а тех казаков, стрельцов и посадников, что укрылись в неприступном кремле, стали голодом морить.
Видя, что сопротивление смерти подобно, престарелый воевода Иван Одоевский и убеленный сединами митрополит Исидор сдали неприятелю свою твердыню. «Лучше владеть городом, а не умирать голодом», – решили они. Ради этого и договор об искренней дружбе и вечном мире со Швецией заключили. Он обязывал их всякие отношения с заклятым врагом, польским королем Сигизмундом Третьим, его подданными и наследниками не медля прервать, присягнуть на верность одному из шведских принцев, а до его прибытия на царство повиноваться графу Якобу Делагарди.
Договор был составлен явно в пользу шведов, но имелись в нем и такие вот уступки состоятельным и служилым новгородцам:
«Всяких чинов люди сохраняют старые права; имения их остаются неприкосновенными; суд совершается по-прежнему; для суда беспристрастного в судебных местах должны заседать по равному числу русские и шведские чиновники… Между обоими государствами будет свободная торговля с узаконенными пошлинами. Казаки могут переходить, по их желанию, за границы; но слуги боярские останутся по-прежнему в крепости у своих владельцев…».
Не удивительно, что многие поместные дворяне пусть и не очень надежной, но все же опорой для шведов стали, от Москвы решили отделиться, о создании Новгородского государства всеместно объявить.
Нынче, по свидетельству Степана Татищева, Новгород мало изменился, да вот беда, изнутри на него будто порча напала. Люди друг на друга чужими глазами глядят, чужими ушами слушают, чужими умами думают. Словно на чужой пир с похмелья попали…
Стараясь не углубляться в подробности, Кирила сделал обзор новгородским событиям от Выборгского договора до дней нынешних. В него он, не удержавшись, вставил народное присловие о том, что легче запустить тараканов в дом, чем после их оттуда выкурить. А закончил примирительными словами Минина, которыми он всем приказным дьякам велел положение дел в Новгородском государстве описывать. Будто порох медком подсластил. Еще и похвалил себя мысленно: «Вроде складно получилось. Не мое дело – колесо гнуть, мое дело – ступицы сверлить. Авось и проскочит…»
Напомнив тобольским воеводам, что сборочная казна и добровольники нижегородскому ополчению и завтра, и послезавтра нужны будут, Кирила закончил грамоту призывом изложить в ответ состояние дел сибирских и свои насущные заботы, не скупясь при этом на отечественные слова. На отечественные – значит, на природные, одномысленные, доверительные. Но отец-то Кирилы, Нечай Федорович, сразу поймет, о каких словах речь. О тех, вестимо, что от него сын в Ярославле ждет.
Под настроение Кирила и в Томской город грамоту набросал – давним своим недругам: Василию Волынскому и Михаилу Новосильцеву. Они на воеводстве уже пять лет без смены кукуют. Уквасились, поди, на одном месте сидючи, нахапали всякого добра с верхом, а вывезти к себе в подмосковные имения не могут. Не зря Кирила в годы своего томского дьячества их казнокрадами в глаза называл. Вряд ли они это забыли. А если забыли, не худо и напомнить. Не впрямую, конечно, а тех чиновных и промышленных людей безымянно обличая, что от помощи земскому ополчению уклоняются. Прочитав такое, они сразу поймут, кто эту грамоту составлял и кого при этом в виду имел. Подпись князя Пожарского с соизбранниками покажет, что его сила им теперь не под силу, а может, даже и побольше.
Томская грамота получилась намного короче и строже тобольской. Не стоят Волынский с Новосильцевым того, чтобы на них душу тратить. Да и рука от долгого писания заныла.
Стащив с нее отпотевшую изнутри перстянку, Кирила спросил Афанасия Евдокимова:
– Читать будешь?
– Зачем? – удивился тот. – Ты сам себе голова. Неси сразу Семейке Самсонову. Он Пожарскому передаст. Ему лучше знать, когда князь из стана на Пахне вернется и за дела земские с Минычем засядет. Может и до завтрева задержаться. Его не угадаешь.
– А что там такое на Пахне?
– Казаки Прошку Отяева словили. Не слыхал про такого?
– Как же, знаю! Он у Тушинского вора спальником был, но потом в стан к Ивану Заруцкому переметнулся. Боевой атаман. Литву бил беззаветно.
– Кабы только литву, и разговора бы не было, – дернул бровями Евдокимов. – Он же с мирными людьми войну затеял. Собрал вокруг себя всякую шишголь и пошел грабить окрестные имения, монастыри и посады. Где ни пройдет, там плач и позоры. В страх многие уезды вогнал. Нынче, вишь, в Кехомской волости Суздальского уезда расхищал и пустошил. Но это дело ему с рук не сошло. Князь Пожарский над ним суд на казацком кругу убыл делать – чтоб другим неповадно было. Он за порядок в войсках отвечает, а Миныч за корма, одежу, тягло. И мы, заметь, вместе с ним. Оттого у нас среди казаков и земцев тех безобразий, что в таборах Заруцкого и Трубецкого творятся, давно нет…
Семейка Самсонов оказался на месте. Высунув от усердия язык, он старательно выводил на исписанном ровными, красиво зауженными буквами новую строку.
– Над чем потеешь? – весело полюбопытствовал Кирила.
– Не мешай, – сердито откликнулся тот. – Собьюсь же.
Кирила послушно замер у него за спиной. Глаза сами побежали по написанному:
«…Как вы, великий государь, – читал он, – эту нашу грамоту милостиво выслушаете, то можете рассудить, пригожее ли то дело Жигимонт король делает, что, преступив крестное целованье, такое великое христианское государство разоряет, и годится ли так делать христианскому государю! И между вами, великими государями, какому вперед быть укреплению, кроме крестного целованья? Бьем челом вашему цесарскому величеству всею землею, чтоб вы, памятуя к себе дружбу и любовь великих государей наших, в нынешней нашей скорби на нас призрели, своею казной нам помогли, а к польскому королю отписали, чтоб он от неправды своей отстал и воинских людей из Московского государства велел вывести…»
Кирила сразу понял, к кому обращена эта грамота. Ясное дело, к австрийскому императору Рудольфу Второму. И повезет ее в Вену тот самый Грегори, которого Мирон Вельяминов чучелом огородным по прибытии в Ярославль обозвал.
– А что о Максимилиане Рудольфу напишешь? – полюбопытствовал Кирила.
– То и напишу, что к Москве его примут с радостью. Главное сейчас – Австрию на свою сторону перетянуть. У нее вес в Европах немалый…
В тот же вечер вернувшийся с Пахны воеводский дьяк Андрей Вареев за трапезой в столовой избе рассказал, что казачий круг приговорил разбойника Прошку Отяева к битью кнутом и к высылке в Соловецкий монастырь под самый тяжелый тюремный затвор. По татю и наказание. Как аукнется, так и откликнется.
А на другой день Семейка Самсонов доверительно сообщил Кириле, что князь Пожарский к писаным в Сибирь грамотам руку приложил.
– И все? – взволновался Кирила. – Нешто ничего к этому не добавил?
– Сказал, что рука у тебя легкая, но с заносом. В ближние города так писать не следует, а в дальние можно.
– Что еще?
– Что ты ему пригодишься, когда новгородские послы в Ярославль явятся. А пока больше Миныча слушай. Он зря не скажет… Или ты еще чего-то ждал?
– Как бы тебе сказать, Семейка, – замялся Кирила. – Родитель мой в Тоболеске уже пять лет дьячит, а положено два. Пора бы его и сменить.
– Не все сразу, – вздохнул Самсонов. – Время нынче такое, что и неположено жить приходится. Но мысль у тебя дельная, зря только с семейного конца поставлена. Или ты забыл, что дьяки вместе с воеводами меняются? Лучше с Ивана Катырева начинай. Он и чином повыше, и в Сибири, чай, не меньше твоего родителя служит.
– Значит, одобряешь?
– Одобрять-то одобряю, но не обнадеживаю. С воеводами у нас нынче не густо. Знати хватает, да толковых послужильцев среди нее наперечет. Еще когда из Нижнего Новгорода в Ярославль шли, князь Дмитрий в Костроме и Суздали воевод сменил, потом в Устюжне, Угличе, Переяславле-Залесском, Ростове, а на Белоозере – дьяка. На очереди Владимир, Кашин, Тверь, Касимов. Так что придется тебе с Тоболеском в очередь стать.
– Ничего, – повеселел Кирила. – Я подожду. Было бы чего.
Ермакова хоругвь
Тем временем, миновав Тюмень и Туринский острог, дружина Василия Тыркова двинулась к Верхотурью.
Во всех этих крепостях сидели на воеводстве сородичи злосчастного царя Бориса Годунова – в Тюмени Матвей Михайлович, в Туринске Иван Никитич, в Верхотурье Степан Степанович. Первый и третий Годуновы прежде думными боярами были и купались в лучах своей знатности, а второй так и застрял в московских дворянах. По сравнению с ними это не больше, чем серый воробышек. Еще один высокоименитый боярин, в прошлом кравчий, Иван Михайлович Годунов правил в стороне от Сибирского тракта в полынь-городе Пелыме. Однако с месяц назад наскочил на него другой серый воробышек – Федор Алексеевич Годунов: я-де послан тебе на смену вождями московского ополчения Дмитрием Трубецким и Иваном Заруцким! Тот ему в ответ: меня на Пелым природный государь Василий Иванович Шуйский посадил, а потому негоже мне с места сходить, пока другой избранник на царство не повенчается; но коли так вышло, оставайся у меня гостем, Федька, только в воеводские дела не лезь!
«Ах, так! – взвился ставленник Трубецкого и Заруцкого, – Это мы еще поглядим, кто у кого в гостях! Хоть ты и высоко летал, Иван Михайлович, да, видать, отлетался. И Федькой меня больше не кличь, не то сам Ванькой станешь! Не посмотрю, что ты в кравчих был, влет срежу!»
Словом, нашла коса на камень. А разбираться в этой заварухе кому? Не Москве же. Там поляки с седьмочисленными боярами хозяйничают, под Москвой казацкие таборы Трубецкого и Заруцкого. А ближняя власть в Тобольске находится. Вот и пришлось Годуновым свои челобитные большому сибирскому воеводе Ивану Катыреву слать: рассуди, дескать, нас по мудрости своей, иначе мы за последствия не ручаемся. А Катырев дьяку своему Нечаю Федорову разбираться с Годуновыми поручил, но так, чтобы Ивана Михайловича с воеводского места не сгонять и с Федором Годуновым при этом не разругаться. Мало ли как судьба повернется. Ветры-то нынче на Руси в разные стороны дуют. Не дай бог между ними оказаться – голову вместе с шапкой снесут.
Тех же Годуновых взять. При царе Борисе они столько земель и власти нахватали, что казалось, конца и края их всесилию не будет. Но от сумы да от тюрьмы не зарекайся. Стоило на Москве Лжедмитрию Гришке Отрепьеву воцариться, все Годуновы разом угодили в опалу. Одних это сблизило, других, напротив, перессорило. Одни больше потеряли, другие меньше. Пережив многие гонения, бывшие царедворцы мало-помалу стали восстанавливать свое положение. Наиболее удачливые из них оказались на службе в Сибири. Здесь не только отличиться можно, но и покормиться вволю, и Смутное время в относительной безопасности пересидеть.
Радоваться бы Годуновым, что так для них дело повернулось, поддерживать друг друга во всем, не чинясь былым положением, а они меж собой свару затеяли, чье воеводское место выше. Матвей Михайлович себя рядом с большим сибирским воеводой Иваном Катыревым ставит, ведь Тюмень – первый город [42]42
Тюмень построена в 1586-м, Тобольск – в 1587 году.
[Закрыть], срубленный за Камнем. Не зря его в деловых бумагах поначалу Старой Сибирью называли, а Тобольск – Новою. Значит, и заслуг у него не меньше. Остальные сибирские города [43]43
Березов, Пелым (1593), Сургут, Тара (1594), Обдорск (Салехард) (1595), Нарым (1597), Верхотурье (1598), Туринск (1600), Мангазея (1601), Кетск (1602), Томск (1604).
[Закрыть]– последыши, с первыми их равнять не следует. Степан Степанович на этот счет иного мнения придерживается. На втором после Тобольска месте он числит Верхотурье. Без него в Сибирь ни войти, ни выйти. Не зря его сибирскими воротами зовут. При них большая государева таможня через свои заставы все торговые и прочие потоки процеживает. Иван Никитич на это самолюбиво огрызается: «Все сибирские воеводства равны, понеже одному делу служат». А Иван Михайлович на том стоит, что не стоило бы Тюмени и Верхотурью перед Пелымом выставляться, ибо на нем весь сибирский север держится.
Дальше – больше. Посчитавшись степенями своего воеводства, Годуновы и степенями родства принялись считаться: кто из них от братьев и сестер царя Бориса прямую линию ведет, а кто от сестер и братьев его деда и бабки, кто больше от Лжедмитрия Гришки Отрепьева пострадал, а кто с самозванцем в это время якшался, у кого какие вины и заслуги при Тушинском воре нажиты и как это на их судьбу повлияло. Стоит одному неосторожное слово в запальчивости обронить, другой, узнав об этом из третьих или четвертых уст, в обиду впадает: иная-де родня хуже горькой редьки; держаться за нее – себе дороже; и дальше в том же духе. С глазу на глаз они редко видятся, вот и норовят вклеить в текущую переписку какую-нибудь издевку. Один ущипливо заметит: на чужой-де лавке легче сидится, чем на твоей, родственничек! Другой его тут же отбреет: у меня теперь своя лавка не хуже, но я тебя на нее не зову…
Замаялся Нечай Федоров отношения между родичами-соперниками улаживать. А тут на Пелым еще один Годунов заявился. Вот уж и впрямь пятое колесо у телеги. Легко Катыреву расплывчатые указания давать: разберись-де с Иваном и Федором по-умному, ни того, ни другого при этом не оттолкнув, против тобольского началия не настроив, а как это сделать, да еще на расстоянии, даже не намекнул.
Однако Нечай Федоров и не такие узлы привык распутывать. Первым делом он в Тюмень, Туринск и Верхотурье именные грамоты отправил. В них, после принятых в таких случаях славословий, говорилось:
«…И тебе бы, господине (имя рек), встретить нашего походного воеводу Василея Тыркова хлебом-солью и готовыми ночлегами, понеже идет он не на погулянье бездельное, а в подмогу Совету всей земли и князю Димитрию Пожарскому, ставшему ныне с нижегородским ополчением на ярославском дворе для скопа сил и животов [44]44
Движимое имущество, богатство.
[Закрыть]. И собрать бы тебе, не мешкав, серебро, зипуны и прочие доброхотные вклады, и людей с Васильем отрядить, сколько сможется. Ведь ты, воевода, человек царского корени, а посему больше других должен понимать, что дело о жизни и царстве идет, что руский народ быть без государя не привык и не может, как не может он терпеть нашествие нечестивых жидов-поляков с литвою и наемными иноземцами, раззорение нашей веры православной. И помыслить бы тебе (имя рек), о том, что лишь торжество руского оружия вернет тебя в царь-город Москву, покажет, что в буреломное время слез и бедствий не изродились семена рода Годуновых, что крепки они меж собой и людьми, поелику сибирская служба важна и почетна. И помнить бы тебе, воеводе, что всякий из нас должен свое малое посильное дело так делать, чтобы от этого большое засветилось и напитало Русию волей и силой, аки солнце животворящее. И порадеть бы тебе со всеми вместе на благо отеческое!».
То же самое Нечай Федоров написал пелымскому воеводе Ивану Михайловичу Годунову, но с таким дополнением:
«Хоть и не близко ты к Верхотурью-городу обретаешься, господине, а все ближе на треть, чем твой туринский сокровник Иван Никитин. Ну и решай, чем ты других Годуновых плоше. От мудрости слово так поставлено: коли большая дорога к тебе не прилегла, ты к ней приляг. Захочешь нижегородскому ополчению помочь – успеешь! Быть тебе, как и прежде, на воеводском месте в Пелыми. С тем же гонцом отдельное послание Федору Алексееву сыну Годунову отправлено. Писано в нем, чтобы твоего места не домогался. Прочее он сам тебе изглаголит, ежели глупота ему ум не затмит. На ваше здравомыслие и досужество уповаем. Да будет посему…».
А Федору Годунову большой сибирский дьяк за подписью Ивана Катырева такую отповедь дал:
«Это похвально, соискатель, что в пору междоусобной брани ты оказался в стане тех, кто под Москвой польских людей и их приспешников крепкой осадой осадил, но как быть, если веры началию этого стана не стало? Ведь по всем городам от них грамоты шли, чтобы без Совета всей земли государя не выбирать, псковскому лжецарю Сидорке крест не целовать, малолетнему отпрыску паньи Маринки, прижитому от Тушинского вора Богдашки, не прямить. Но они, свое честное слово не сдержав, страдниками божиими [45]45
Оборотнями.
[Закрыть]себя явили. Много на них и других неправд, разбоев и похищений. Вот и скажи по совести, как тебя, радетеля за прирожденного христианского государя, угораздило от них ярлык [46]46
Грамота татарского хана; в данном тексте употреблено в переносном значении, с издевкой.
[Закрыть]на пелымское воеводство принять и со своим сродственником тяжбу затеять? Ведь сам знаешь, что две головы на одной шее не растут. Опомнись, пока не поздно, с Иваном Михайловичем с души на душу объяснись, понеже он не враг тебе, а ты ему; а когда сызнова породнитесь, либо в Тоболеск к нам на службу явись, либо с Васильем Тырковым к князю Пожарскому в Ярославль ступай. К нему нынче весь народ повернулся. Вот и ты повернись, подспорником в деле соединения московских таборов с нижегородским ополчением будь; тогда тебе дорога не токмо на Пелым, но и куда повыше ляжет. И помни: лишь благоразумие в словах и поступках к благоденствию и благостоянию ведет…».
Перед тем как отправить эти грамоты, Нечай Федоров Василию Тыркову их показал. Пусть знает, что ему от Годуновых ждать, пусть на любой поворот в отношениях с ними настроится, особенно с Федором…
От Тобольска до Верхотурья путь неблизкий. Но это смотря какой мерой считать. Можно верстами: кружным путем через Тюмень их без малого пять сотен наберется. Можно поприщами, иначе говоря, суточными переходами по двадцать верст каждый: их получится около двадцати пяти. Но бывалые обозники проходят это расстояние за шестнадцать дней. Само собой, день на день у них не приходится. Ведь если проезжая полоса более или менее чищена, ямины на ней засыпаны, мосты через реки и речушки исправны, а сама она по равнинным местам следует, вот как от Тобольска до Тюмени, то не диво и за пять дней десять поприщ отмахать. А попробуй столь же быстро идти, когда дорога в гору повернет, начнет рыскать по каменьям и заломам из пней, хвороста и бурелома, то приближаясь к реке Туре, извивами стекающей с югорского хребта, то удаляясь от нее, вот как от Тюмени до Туринского острога. Тут больше одного поприща за день не каждый обоз одолеет, а тот лишь, что опытный голова ведет.
Василию Тыркову опыта не занимать. Он Сибирь вдоль и поперек исходил и изъездил, а уж на Сибирском тракте ему хоть глаза завязывай – не оступится, не заблудится, через самое опасное место возы, словно по чистополью, проведет.
Однако в совершенстве знать дорогу – полдела. Не менее важно так людей расставить, чтобы каждый знал свое место и дело.
Конечно, таких разбоев, как в Московской Русии, на Сибири нет, но и здесь порой налеты на обозы случаются. Стоит сойтись на каком-нибудь глухом перекрестке двум-трем беглым душегубам, тотчас начинает собираться вокруг них ватага из ссыльных и гулящих людей. Сделав несколько удачных пограблений, она дружно рассыпается, чтобы так же нежданно возникнуть в другом месте. Нападает она чаще всего вроссыпь, с разных сторон, хватает все, что под руку попадет. Каждый заботится лишь о своей поживе, спасает лишь свою шкуру. Сброд он и есть сброд – от него больше переполоха, чем урона. Но и переполох на походе чреват потерянным временем, сбитым настроением и ненужными пересудами.
Чтобы оберечь от дорожных шишей возы с упрятанными в брусяные днища серебряными слитками, Тырков поставил пообок цепочки конных казаков и пеших посадников, вперед выслал конный разъезд Стехи Устюжанина, а замкнул строй охранным десятком Треньки Вершинина. Еще один десяток возглавил тележник Харлам Гришаков по прозвищу Лымарь. Чуть какой воз захромает, он со своими людьми тут как тут – на этом колесо проворно сменит, на том ходовую часть починит. А за коней на походе велено отвечать крещеному татарину Ивашке Текешеву и близнецам Игнашке и Карпушке, сыновьям кузнеца Тивы Куроеда.
Все до мелочей предусмотрел Василей Тырков, одно из вида выпустил: походный стяг. Спохватился уже перед самым отходом из Тобольска. Но тут ему на выручку атаманы старой ермаковской сотни Гаврила Иванов и Третьяк Юрлов пришли. На Троицкой площади прилюдно вручили они ему расписную хоругвь. На левой ее стороне изображен святой Дмитрий Солунский, небесный покровитель Дмитрия Донского. Своим острым копьем он пронзает золотоордынского хана Мамая. А на правой стороне писан архангел Михаил, покровитель воинов. Он вострубил к небесным силам, призывая их на помощь русскому оружию. Солунский сидит на земном коне, архистратиг – на небесном, с распахнутыми в полете крыльями. Лик одного обращен вперед, лик другого – назад. Одного венчает золотой нимб, другого – государская корона. С такой точно хоругвью большой казачий атаман Ермак Тимофеевич вернул Русии ее сестру Сибирь. Еще при царе Иоанне Грозном, спасаясь от домоганий бухарского Кучум-хана, приняла она русийское подданство, но не смогла Москва тогда уберечь Сибирь от ордынцев. Девятнадцать лет пришлось ей жить под пятой Кучума, лишь затем пришло освобождение…
– Так пусть же напоминает это знамя, – сказал на прощанье Гаврила Иванов, – те незабываемые годы, когда русский дух Сибирью воспрянул! Верю: воспрянет он и теперь. Другой враг у Москвы ныне, но сердце-то у нас в груди одно. Одно на всех и освобождение будет!..
Хранить и воздымать заветный стяг выпало Ольше Лукьянову и Савоське Бородину, самым дюжим из ермачат. Оба статные, русоголовые, выносливые. Им будто на роду написано знаменщиками быть.
Великое дело – ермакова хоругвь. Казалось бы, всего-то кусок струящейся по ветру материйки, а гляди, какая могучая сила в нем заключена – шаг сам собой тверже делается, дыхание ровней, душа полетней. Чувствуя это, подлаживаются под мерное движение кони. Даже скрипы колес становятся мягче.
Не менее важна в пути общая песня. Давно замечено: она дорогу коротает. Однако не всякий походник сильным и раздольным голосом наделен, а только избранные. Остальные душой за ними тянутся, стараясь украсить напев своими далеко не всегда стройными и приятными подголосиями. И не важно тогда, кто как поет, а важно, что каждый про усталость забывает и всем своим существом начинает чувствовать, что новые силы обрел.
Поначалу Василей Тырков в песенные дела своей дружины не вмешивался – другие заботы его занимали. Потом вдруг стал замечать, что певуны у него не так расставлены: в конце обоза густо, в середине пусто, а тем, кто впереди, задора и выдумки не хватает. Вроде бы голосисты, а подпевать им не тянет. Наверное, потому, что каждый своим песенным даром упивается, о товарищах по дружине забывая. Вот и решил Тырков растянуть певунов по всему строю – через три воза на четвертый, чтобы песня ровно по строю текла, всю дружину собой разом обнимая. Так больше лада будет. А впереди, сразу за ермаковой хоругвью, двух наилучших запевал поставил. Пускай других за собой ведут.
Уже на переходе из Тобольска до Тюмени стало ясно, кому головными запевалами быть. Ну, конечно, Михалке Смывалову и Микеше Вестимову. У Михалки голос серебром рассыпается, у Микеши – медью звенит. Один к бодрящим песням склонен, другой к задушевным. Один матерый мужик, другой молодяга. Но именно эта непохожесть их и объединяет.
Кто таков Микеша, всем ведомо: сын Вестима Устьянина, зять Василея Тыркова – высокий чернобровый казак, не привыкший себя вперед выставлять. А Михалка Смывалов – человек пришлый. Его Тренька Вершинин, следуя на посылках из Томского города в Тобольск, где-то возле Тары подобрал, а когда Тырков Треньку к себе в дружину взял, и Смывалов тут оказался. Родом он из Беломорья – с реки Пинеги; сиротой в кабале у монастырского рыбника вырос; сбежал от него в Устюг Великий, плотничал там на судострое, потом качальщиком варницы в Соли-Вычегодской был и много еще где спину гнул, пока не потянуло его гулящим бытом в Сибирь – вольного воздуха хлебнуть, спину хоть немного распрямить.
Однако, глядя на Михалку, не скажешь, что судьба его очень уж замучила. Напротив, взгляд его ясен и улыбчив, будто вся его жизнь из шуток-прибауток и погуляний состоит. Вот и свой переход из десятка Треньки Вершинина, замыкающего обоз, в головные запевалы Смывалов улыбкой сопроводил:
– Не мной сказано: последние будут первыми! Так оно и вышло. Жаль только, что первее первых на свете не бывает…
Михалка с Микешей без труда общий язык нашли. Всего за один день они не только спелись, но и старые песни на новый лад переиначивать стали, да так, что заслушаешься.
Из-за леса, леса синего,
Из-за рек лукоморских с озерьями,
Изо славного города из Тоболеского
Путь-дорога к Москве нарождается.
Через лешие места она торена.
Потом насквозь, как рубаха, пропитана.
Лютым холодом она проморожена.
Ярым солнышком она разукрашена.
Высота ли, высота поднебесная.
Красота ли, красота придорожная.
Широко раздолье по всей земле.
Не насмотришься им, не надышишься…
Заслышав ту песню, завидев ермакову хоругвь, встречные обозники спешат посторониться, а угнездившиеся на новых землях крестьяне-переведенцы снимают шапки и почтительно смотрят вослед, пытаясь угадать, что это за воинство такое и куда оно путь держит. Сходятся на том, что кроме бусурман [47]47
Неверный, нехристианин.
[Закрыть]сибирских есть бусурмане московские и заморские. На них тоже, видать, укорот приспел.
Встретить дружину Тыркова у Тюмени, напоить-накормить с дороги, разместить на ночлег у Ямской слободы под раскидными пологами первый тюменский воевода Матвей Годунов перепоручил своему напарнику, второму тюменскому воеводе Федору Боборыкину. Ему же велел Тыркова к себе в хоромы на вечернюю трапезу звать. Но Тырков отказался: негоже-де мне от своих людей отлучаться да и недосуг – ночь коротка, перекушу наспех да спать лягу, уж не обессудь…
А про себя при этом подумал: «Раньше ты меня, боярин, у порога стоймя держал, худородство мое всяко подчеркивал. Ну так и не взыщи. Притомился я нынче, чтобы с тобою праздное застолье разделять. Спасибо и на том, что встретить распорядился. Коли так дело в Туринске и Верхотурье пойдет, дней за двенадцать Сибирь проскочим».
Но вышло, за тринадцать. Первая задержка на реке Узнице вышла. Это приток Туры. Здесь переправу размыло, пришлось подходящий брод искать. А там один из возов на камнях опрокинулся. Конь биться стал да и перешиб копытом спину зазевавшемуся дружиннику. Едва живого доставили его в Туринскую слободу. Хорошо, там знахарь оказался. Оставил он пострадавшего у себя за щедрое вознаграждение, обещал выходить к тому времени, когда дружина назад возвращаться будет.
А в Туринском остроге пожар случился. И произошло это не раньше и не позже того вечернего часа, когда головная часть дружины, проследовав через Ямскую слободу мимо Спасской церкви, на мост через речку Лахомку вступила. За нею на горе высилась сама крепость. И вдруг над той ее частью, что обращена к Туре, в клубах черного дыма вскинулось розовое пламя.
Не успел Тырков распоряжение походникам дать, как из строя под началом быстроумного Афанасия Александрова, сына Черкасова, вынеслась шестерка конных ермачат. Вслед им Тырков отправил десяток конных казаков Стехи Устюжанина.
Уже в стенах острога они поняли, что горят амбары, поставленные на береговом уступе, и, вооружившись невесть откуда взявшимися крючьями и пехлами, вместе с туринцами стали разваливать и скидывать вниз стреляющие огнем бревна. Бревна сшибались, переворачивались в воздухе, отскакивали от выступов крутого склона и, шипя, падали в темные воды Туры. Со стороны посмотреть, захватывающее зрелище: будто кто-то невидимый в сумерках жрение языческое сотворяет. Тут и не захочешь, а вспомнишь, что прежде на этой горе находилось остяцкое городище Епанчин. По нему и теперь Туринский острог нередко Епанчином называют.
Пришлось на отдых дружине остаток ночи и утренние часы дать.
Невелик Туринский острог, вдвое меньше и малолюдней Тюмени, однако, получив грамоту из Тобольска, Иван Годунов успел пять ратников в ополчение выкликнуть и полтора воза добровольных вкладов собрать – столько же, сколько выставил Матвей Годунов. Днем, провожая дружину Тыркова, туринский воевода, будто ненароком, обронил: