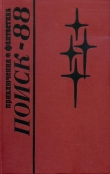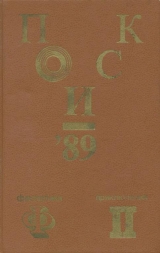
Текст книги "Поиск-89: Приключения. Фантастика"
Автор книги: Сергей Другаль
Соавторы: Андрей Щупов,Игорь Халымбаджа,Владислав Романов,Герман Дробиз,Дмитрий Надеждин,Виталий Бугров,Татьяна Титова,Владимир Блинов,Александр Чуманов
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
– Если мы вовремя успевали у него выхватить! – уточнял Дождь.
– А что происходило дома, когда мы приходили! – продолжала вспоминать она. – Он просто набрасывался на еду, и его Катерина потом не могла добудиться, чтобы получить толику положенных ей ласк!..
Зазвонил телефон. Лена дернулась, но, вспомнив Чугунова, решила не подходить. Однако телефон не умолкал, и ей пришлось взять трубку. Звонили из райотдела милиции. Лейтенант Луков передал трубку Баратынскому.
– Ленка, это я, Дмитрий Баратынский! Скажи, ты летала сегодня с этим, ну… сама знаешь?!. А?!.
– Летала, – помолчав, сказала Лена.
– Во! – вдруг дико заорал Баратынский. – Она летала! А я что говорил! Что и требовалось доказать!
Трубку взял Луков.
– Это товарищ Неверующая? – спросил он.
– Да, – ответила Лена.
– На чем вы летали? – спросил Луков.
– Ни на чем, просто так…
– Понятно, – усмехнулся Луков. – Извините за беспокойство, до свидания!..
– До свидания, – сказала Лена и положила трубку.
Вечером у себя дома Баратынский плакал, уткнувшись лицом в пухлые Дусины колени, плакал из-за того, что не помнил ни строчки из «Каменного гостя», все вылетело из-за этого дурацкого происшествия, и он совсем не может играть, не ощущает ничего, пусто все в душе и на сердце.
– Это она, она накаркала! – в слезах кричал он, тыча пальцем вниз. – Она, ведьма чертова!
– Да уж какая из нее ведьма? Из Ленки-то?!. Ну, чо ты придумываешь?!. – улыбалась Дуся.
– А кто это со мной все проделал?!. Значит, он, летальщик или дьявол, как его там?! Я же чувствовал роль, чувствовал и Верку эту, ну, которая Лауру играет, прямо затискивал, так и горел весь, пылал, был счастлив, как идиот, а сейчас…
– Я этой Верке глаза выцарапаю! – вдруг оттолкнув его, взвилась Дуська. – Я те покажу горение, ты у меня потискаешь, уродина плешивая! На порог больше ДК не взойдешь, вражина, понял?!.
– Ты чего, чего взбеленилась, оглашенная?! Озверела совсем?!. – поднимаясь и хлюпая носом, возмутился Баратынский.
– Я те озверею, гад ползучий! Я те покажу Верку-Лаурку! – И Дуська, схватив поводок Дженни, принялась нахлестывать мужа. Он бегал по комнатам, вопил, собака лаяла, и жизнь продолжалась.
Дождь, Лена и Петр Иваныч, сидя в комнате, играли в лото. Раскрытое окно выходило в сад, цветы яблонь осыпались, и запах кружил им головы. И совсем не чувствовалось жары.
Откуда-то доносились вопли и ругань. Ругались Баратынские, и эта семейная ссора очень кстати вписывалась в тихий вечерок, напоминая о реальной, грубой, но в общем хорошей жизни.
– Квартира на нижней, – мурлыкал Петр Иваныч, напевая: «Огней там много золотых на улицах Саратова, парней так много холостых, но я люблю женатого…», все повторяя и повторяя последние строчки. Потом он кончил на низ, и они стали играть еще одну партию, и опять выкрикивала Лена, а Петр Иваныч перешел на второй куплет.
Дождь смотрел на Лену, а она ловила эти взгляды, и сердце ее замирало. Теперь уже все – и экзамены, и институт, и мечты – все отошло куда-то в сторону и не имело ровным счетом никакого значения. Был он и его любовь, ее восторги, их будущая семья, вот что имело теперь значение – с ним она готова была ехать, идти, лететь куда угодно. Ее лицо теперь светилось этой простой мудростью, она вдруг из девочки превратилась в женщину и невольно думала о детях, и груз будущих забот уже волновал ее. Она входила в эту новую жизнь, как входят в теплые воды моря.
– Квартира на верхней, – мурлыкал Петр Иваныч.
– У меня на средней, – вторила Лена. – Одиннадцать, барабанные палочки!..
И Дождю казалось, что все бессмертие не стоит вот такого тихого и теплого вечера, похожего на море…
Старик, приникнув ухом к небосводу, слушал его мысли и грустно покачивал головой, словно и вправду соглашаясь с ними.
Шилов не ходил, а летал. Он так это и чувствовал: ле-та-ю! И утром он влетел к себе на пятый этаж, ворвался в квартиру и долго ходил кругами по комнате, размахивая руками, как крыльями, напевая: «Джонни, ты меня не знаешь, ты мне встреч не назначаешь, в целом мире я одна знаю, как тебе нужна, потому что ты мне нужен!» В его голове еще звучал дерзкий голос Капитолины Лазаренко, и Шилов от восторга даже подпрыгнул на месте, как вдруг сердце сжалось и день потемнел в глазах.
Лев Игнатьич ухватился рукой за стул, но он упал, и Шилов полетел на пол.
– Боже, как это… хорошо, только больно почему-то, – проговорил Шилов.
Было утро шестого, а может быть, седьмого дня. Дождь уже потерял им счет, ибо решил окончательно возвратиться. Он входил в подъезд, когда вдруг услышал стон Шилова с пятого этажа. Не раздумывая Дождь взлетел на балкон Шилова и прошел в комнату.
У Баратынского к тому времени совсем пропал голос. Он говорил шепотом, и Дуська подставляла ухо, чтобы его услышать.
– Все, отбегал за юбками! – веселилась она. – Теперь за мою держись, а то в дом глухонемых сдам! – и сама же хохотала во всю мочь от собственных слов.
– Дура, вот дура! – возмущался Баратынский, но Дуська его не слышала, и это бесило слесаря больше всего.
Баратынский, воспользовавшись недугом, взял больничный. Врачи говорили разное. Одни утверждали, что всему причина печень и как следствие – осложнение на связки, другие доказывали, что, наоборот, связки сами по себе, а печень в порядке. Но Баратынский чувствовал: без Него не обошлось. Сейчас, увидев, как что-то взлетело за окном, он бросился туда и чуть не выскочил следом. Вовремя одумался – третий этаж, падать больно.
Дождь быстро разбил тромбик, образовавшийся в одном из сосудов, бегущих к сердцу, и все обошлось без разрывов. Лев Игнатьич даже поднялся и сел.
– Что это было? – спросил он.
– Да так, – Дождь улыбнулся, и десятки морщинок разбежались по лицу. – Пустяки! Я вас как-нибудь почищу.
– Чем это? – не понял Шилов.
– Щеткой! Как трубочисты чистят трубы, так и я…
– Спасибо. Я – Лев Игнатьич! – Шилов подал руку.
– Дождь…
– Интересное имя… А как вы зашли?..
– Через балкон, – объяснил Дождь.
– А-а-а… – плохо понимая, кивнул Шилов. – Это у меня, наверное, от перевозбуждения… Давайте я вам что-нибудь подарю, а? – Он оглянулся в поисках подарка, увидел статуэтку чугунного литья, еще того, старинного, и обрадовался. – Вот, это хорошая вещь, каслинское литье, редкая штука, возьмите.
Шилов схватил статуэтку и протянул Дождю.
– От чистого сердца!.. Вы меня спасли, я не могу!.. – Шилов улыбнулся.
Из чугуна был отлит старик с веслом в лодке. Он замахнулся, чтобы сделать гребок, и застыл… Дождь молча смотрел на старика, не в силах шевельнуться. Точно холодок пробежал по спине.
– Что с вами? – удивился Шилов.
– Не дарите никому эту вещь, – грустно сказал Дождь. – Хорошо?
– Не понял… – У Шилова даже рот открылся от изумления. – Это же Касли!..
– Можно, я спущусь по лестнице, а то что-то знобит…
– Да-да, конечно!.. – Шилов проводил гостя, захлопнул дверь и долго, не понимая ничего, смотрел на старика с веслом.
Почти в то же время, когда стало плохо Шилову, Петр Иваныч входил в просторный кабинет первого зама начальника управления Сергея Прокофьевича.
Будучи человеком весьма осторожным, Черных посоветовался относительно Неверующего со своим начальником. Рассказав про телефонный звонок, он сообщил, что факт письма в горком не подтвердился и, скорее всего, это злой недоброжелатель из тех, кого прижимает главбух. Начальник управления выслушал и спросил:
– Ну, а… отношения-то сами есть?
– Отношения есть, – улыбнулся Черных. – Весь птицекомбинат говорит!
Начальник покачал головой.
– И жена есть?
– И жена, и дочь…
– Ну, так чего еще ждать? Когда действительно она письме напишет и на нас всех собак спустят?! Действуйте!..
И вот Неверующий сидел в кабинете Черных.
Сергей Прокофьич был человек мягкий, округлый, и все в его лице и манерах говорило об этой мягкости и округлости. Поэтому и разговор поначалу зашел о планах, трудностях, сверхнормативных запасах, – словом, о вещах производственных и обычных. Наконец Черных спросил:
– А как дома, все в порядке?
– В порядке, – улыбнулся Неверующий. – Дочь замуж собралась! Восемнадцати нет, а хочу, и все! А он парень вроде неплохой. Историю знает как пять своих пальцев! Особенно старинные времена. Воспитывался в те годы…
– Кто воспитывался? – не понял Черных.
– Да он, жених-то… Дождем зовут!..
У Сергея Прокофьича удивленно изогнулись бровки.
– Извините, не понял, в какие времена он воспитывался?
– В давние, в Италии. Был такой правитель во Флоренции – Козимо Медичи, а потом внук его Лоренцо, по прозвищу Великолепный. Ну вот, они дружили все…
– И сколько же ему лет?
– Ну, и выходит, что пятьсот! – Петр Иваныч рассмеялся, покрутил головой. – Забавники! И она туда же! Я, говорит, родилась в Венеции.
– Кто? – не понял Черных.
– Ну, дочь-то! И доказывают, черти! Она вот говорит: ей снится Венеция, будто идет по площади Святого Марка, заворачивает за Старые Прокурации, а там ямочка такая в ступеньке – и точно! И Мост Вздохов, и все, все сходится! А здесь, в городе, однажды заблудилась! Может, действительно мы жили когда-то еще?.. Кто знает!.. Мне тоже иногда снится совершенно незнакомая обстановка: и город, и дома. Захожу в дом и знаю: здесь лестница наверх, поднимаюсь, открываю дверь и могу с завязанными глазами взять любой предмет. Откуда такая память, а?.. Вот и Надежде часто такое снится! Видимо, что-то в этом есть!..
– Какой Надежде? – не понял Черных.
– Да Боборыкиной, моей подчиненной. Влюбился я тут на старости лет, – Неверующий улыбнулся.
– Не понял, – нахмурился Черных.
– Влюбился, говорю, чего тут не понять! За этим ведь и вызвали, наверное?..
Сергей Прокофьевич помолчал, потом, не зная, как лучше ответить, сказал:
– Ну, не столько за этим, но и за этим отчасти. Вы же руководитель и сами понимаете…
– Она уже заявление подала, уходит, работу я ей подыскал. Это, конечно, не дело, чтоб такое в одном коллективе. Я понимаю. Так что не волнуйтесь.
– Я не волнуюсь, Петр Иваныч, просто по-дружески хотел вам сказать, что поздно нам менять что-то в своей жизни! Годы не те.
– Ну, годы ни при чем, – возразил Неверующий. – Жизнь в любом возрасте есть жизнь! Такая, что чувствуешь себя мальчишкой перед ней! А вы: поздно! Нет, Сергей Прокофьевич, нико-гда! Да и вам не советую. Оглянитесь вокруг! Кроме этого кабинета есть еще масса удивительных вещей. Как говорил Маяковский: ненавижу всяческую мертвечину, обожаю всяческую жизнь! Так?
– Так! – неожиданно для себя согласился Черных и вспотел.
– Ладно, пойду я! – Неверующий поднялся. – Работать надо! Вы не волнуйтесь, сверхнормативные сократим! – пообещал он и вышел.
«А я ведь его не отпускал, – подумал Черных. – И сказать ничего не успел… А что я мог сказать? Да и нужно ли?.. Неужели я кажусь мертвым?» Он вдруг вспомнил эту строчку о мертвечине и внутренне содрогнулся. Ему показалось, что он не только никого не любит, но и не в состоянии любить. Жена, дочь, сын – он был нужен им в качестве сумы. Дать денег, достать дефицит, протолкнуть, поднажать, попросить. И Сергей Прокофьич делал, что мог. Когда он что-то не мог, то и у жены, у детей интерес к нему пропадал…
Вошла секретарша Полина Матвеевна. Ей было за тридцать, она успела развестись с мужем и воспитывала сына двенадцати лет. Это он знал. Но ему никогда не приходило в голову ни поухаживать за ней, ни спросить о сыне. Для него она была человеком, приносящим бумаги и уносящим их. И все.
– Как сын, Полина Матвеевна? – спросил Черных.
– Что? – вздрогнула она.
– Сын как учится? – Черных улыбнулся.
Секретарша долго не знала, что ответить, потом, вдруг покраснев, пробормотала:
– От рук совсем отбился, Сергей Прокофьич, на тройки съехал…
– Это плохо, – сказал Черных.
– Да, – закивала она и перед тем, как уйти, неожиданно взглянула на него по-новому, будто с удивлением, что ли, а может быть, с надеждой…
Чугунов гонял по переулку на красной «Яве», и Баратынский в который раз с раздражением высовывался из окна: его этот рев нервировал.
Алгебру Чугунов неожиданно сдал на четверку. И то натянули, ибо отвечал он плохо, и математичка Елизавета голосила по этому поводу весь день в учительской. Литераторша Вера Васильевна молчала. Она знала, в чем дело, – в разрыве с Леной, это ясно, и ее решении выйти замуж за какого-то заезжего артиста филармонии. «Боже, эти Курагины просто заполнили мир! – думала Вера Васильевна. – А Чугунов – такая ранимая натура. И так все переживает!..»
Вера Васильевна тайно была влюблена в Чугунова. Тайно и безответно. Ну, во-первых, она педагог, классный руководитель и старше Чугунова на шесть лет и два месяца, что в общем-то совсем не страшно, такое бывает, сколько угодно, тем более что выглядела Вера Васильевна лет на девятнадцать-двадцать, особенно когда снимала очки. Правда, у нее минус шесть и без очков она ничего не видит, но это не главное! Главное то, что он красив, а она совсем нет. Но теперь ее сердце не так болит, – он страдает, и она, как старший товарищ, просто обязана ему помочь. Но как это сделать?
Вера Васильевна вздыхала и начинала обдумывать вариант нечаянной встречи на улице. К примеру, она прогуливается, и вдруг идет он с авоськой из магазина: хлеб, молоко, яйца, конфеты. Он, конечно, огорчен, и вид уныл. На чистом ангельском лике хмурая тень.
– Что поделываешь, Вадик? – спрашивает Вера Васильевна.
– Да вот, учу физику, – он кивает на авоську. – Надо питаться…
– Да, с таким энергетическим материалом физику не одолеешь! – замечает Вера Васильевна. – Пойдем-ка, я тебя накормлю!..
И она ведет его к себе, кормит бульоном, котлетами… Или нет! Делает отбивную! Он же мужчина! Да, отбивную, чесночный соус. Или нет: отбивную с жареным луком! Это блеск! Он, насытившись, благодарит ее, она ставит пластинку Вивальди, они переходят в комнату, потом она предлагает ему помочь подготовиться по физике, они готовятся, спорят, читают стихи, он ее провожает, уже вечер… Они прощаются у подъезда, она подает руку, и он особенно пожимает ее… Они дружат, он сдает экзамены, начинает готовиться в институт, она ему помогает, они по-настоящему узнают друг друга, он поступает, часто заходит к ней и однажды зимой, когда он, замерзший, забежал к ней после института согреться, попить чаю, узнать, как ее дела, увидеть, он вдруг говорит ей: «А ты знаешь, Вера, я ведь люблю тебя, и уже давно, с того самого летнего дня, когда ты встретила меня с авоськой…»
– И накормила! – улыбнется она.
– Да. И я еще тогда отметил: какая ты красивая… – Он подойдет к ней, снимет очки и… поцелует ее.
– Не надо, Вадик, я старше тебя на шесть лет, не надо!..
– Я люблю тебя и буду любить всю жизнь! Всю жизнь!
– Вадик, не надо!..
Он задушит ее в своих объятиях, зацелует…
– Вера Васильевна, что это с вами? – Елизавета Михайловна, математичка, в упор смотрела на нее. – Вы что это шепчете?
– Я шепчу? – удивилась Вера Васильевна.
– Да, – прокуренным, глухим голосом сказала Елизавета, – шепчете: «Не надо, не надо» – и сжимаетесь вся, будто бить хотят. Сны наяву, голубушка! Начитаетесь всякой ерунды в этих журнальчиках и бог знает что себе воображаете! И детей портите… Поэтому они и по алгебре ни бум-бум!
Вера Васильевна встала и ушла. Пройдя квартала два, она услышала рев мотоцикла и оглянулась. Перед ней на красной «Яве» восседал, точно Аполлон, Чугунов и улыбался.
– Хотите прокачу, Вера Васильевна?
– Меня?.. – удивилась она.
– Вас, конечно! Садитесь! Вот шлем! – И он, не дожидаясь ее согласия, надел на нее шлем и кивнул на сиденье сзади.
Она села.
– Обхватите меня и держитесь крепко! – крикнул он, перекрывая рев мотора. – Вперед!
Она обхватила, прижалась к нему, и они понеслись. Уже давно Вера Васильевна не испытывала ничего похожего на столь рискованное, но в то же время до головокружения радостное состояние души. Она летела! Летела, прижимаясь к нему, и ей вдруг – на миг – захотелось разбиться. Да-да, разбиться, чтобы их тела нашли рядом, вместе, чтобы они лежали обнявшись. Обнявшись навсегда.
– О-хо-хо-хо! – закричал он, и она тоже закричала. Они летели по загородному шоссе, и горячий воздух бил им в лица.
Он поцеловал ее сразу же, как только они вошли к нему в дом. Грубо привлек и поцеловал в пыльные губы.
– У тебя на губах песок, – отплевываясь, сказал он. – Иди умойся.
Вера Васильевна колебалась.
– Иди, иди, – подтолкнул он. – Не стесняйся, родители на даче.
Она пошла умылась, и он снова поцеловал ее. Она не сопротивлялась. Полеты на мотоцикле вконец ее измотали. Он повел ее в спальню, и только здесь она очнулась и попыталась оказать сопротивление, но он вдруг сказал ей:
– Я люблю тебя! Я люблю тебя с первого класса!
– С восьмого, – поправила она.
– Пусть с восьмого. Люблю и буду любить всю жизнь! Ты красивая! Ты самая красивая из всех, ты чудная, ты не знаешь, какая ты, ты…
И она сдалась. Она сдалась, ибо ей показалось, что уже прошло полгода, уже зима и он вбежал к ней замерзший после института…
Потом они пили чай. Пришел Крупенников. Она была не совсем одета, а Крупенников открыл дверь собственным ключом и вошел так тихо, что она не услышала. Он вытаращил от удивления глаза, застыв как изваяние.
– Здрасте, Вера Васильевна, – пробормотал Крупенников.
– Здравствуй, Сережа, – грустно сказала она.
Ей хотелось плакать. И сколько бы она себя ни уговаривала, что они уже не ее ученики и больше никогда не встретятся с нею на уроках, сколько бы ни убеждала себя в том, что ничего особенного не произошло, эти уговоры лишь прибавляли грусти и стыда. Она ушла в ванную, оделась и ушла. В комнате громко звучала музыка, Чугунов с Крупенниковым слушали какой-то ансамбль, и ей удалось выскользнуть незаметно.
К вечеру она даже успокоилась и стала ждать его. Ведь он сказал, что любит, значит, придет. У нее не было телефона, но адрес он знал: несколько раз заходил к ней. У него почему-то не оказалось дома Блока, а потом Заболоцкого, Вера Васильевна их задавала, и Чугунов брал книги на вечер, аккуратно возвращая на следующий день. О Блоке он сказал:
– Ну, это уже устарело, к тому же там много о пьянстве, а пить сейчас нельзя, так что я не понимаю, зачем вы нам его задавали…
Правда, Заболоцкий ему понравился, и это обрадовало Веру Васильевну. Она даже простила ему нелюбовь к Блоку.
Он не пришел ни в шесть, ни в восемь. Но было еще светло, еще стрижи так высоко кружили в безоблачном небе, предвещая и завтра сухую погоду, что она верила: он придет в девять или в десять. Она знала, что он придет. И она мягко, но тактично поговорит с ним о будущем.
– Я понимаю, ты любишь меня, ты любишь сейчас, но это отчасти еще и потому, что я твой педагог, а в учителей положено влюбляться… Но это пройдет. И, кроме того, я все же старше тебя на шесть лет…
Он фыркнет, он встанет, он скажет: какое это имеет значение!
– Все так, Вадим, но мы не должны, не можем, я не имею права ошибаться. Мы должны проверить себя, а лучший судья – это время, поэтому я хочу предложить тебе дружбу…
Вера Васильевна задумалась. Она вдруг подумала, что если он подойдет к ней и обнимет, то что будут стоить ее слова?.. И она улыбнулась и снова заплакала, но уже светло и радостно. Нет, подумалось ей, она его просто любит, и любит так, как любят впервые в жизни, ведь то, что было в институте, это не в счет… А тут она л ю б и т. Любит!
Баратынский перехватил Дождя у подъезда. Он схватил его за рукав, потащил в сторону.
– Помоги, а? – захрипел он. – Ты видишь, что происходит!.. Что я сделал-то вам? Ну, что?..
– Я не понимаю, о чем вы? – удивился Дождь.
– Кто меня околдовал?!. Это ты, ты и твоя ведьма, с которой летаешь, это вы развели тут притон колдовской!.. Ну, ничего, я вас всех выведу на чистую воду! Вы у меня еще попляшете!
– Пустите меня, – попросил Дождь.
– Ну, что тебе стоит, а? – заскулил Баратынский. – Ну, помоги! Ну, травки, скажи, какой попить, а?..
Дождь уже шагнул в подъезд, но, обернувшись, вдруг сказал:
– Ты только сам себе можешь помочь! Искупи то зло, что причинил людям, и, может быть, небо и простит тебя…
– Чево? – скислился Баратынский. – Колдун чертов! – прошептал он. – Да я лучше сдохну, чем некоторым одно место лизать начну! Тьфу!
Баратынский даже повеселел после этого разговора.
«Ну, погоди! – проскрежетал он зубами. – Я на тебя еще милицию натравлю! У нас не Запад, здесь эти идейки не пройдут! Мы тебя живо скрутим и – улицу подметать! Верно, Евграфыч?» – прошептал он, подмигнув вышедшему из подъезда дворнику.
– Я тебе скручу, – сурово заметил Евграфыч. – Ты Ленку и парня этого не трожь, понял?!.
– А ты чо, кум или сват?! Чо лезешь?!.
– Мало тебя, Митька, отец драл! – вздохнул Евграфыч. – Ох, мало! Иди, не порти воздух!..
– Чево?!. – Но Евграфыч уже пошел дальше.
Баратынский постоял немного, и так жалко ему стало себя, что он застонал. Душа болела. Поплакаться бы кому, выговориться, может быть, и полегчало бы, но он был один, один на весь мир. «Стоп! – вдруг сказал себе Баратынский. – А Валька-то? Валька Кузин?!.»
Баратынский оглянулся и быстро побежал в жэковскую слесарку.
Кузин был на аварии. Прорвало трубу, и Валька один барахтался в подвале.
– Давай помогу! – крикнул Баратынский и вдруг обнаружил, что он к р и к н у л, а не прошептал.
– Ты же больной! – отмахнулся Кузин.
– Да ерунда, насморк, – вздохнул Баратынский и поплыл навстречу другу.
Баратынский боролся со стихией, а Вера Васильевна еще ждала. Отсутствие воды ее огорчило, но она знала, что аварию ликвидируют и воду дадут попозже. В чайнике вода есть, и они смогут попить чаю. Она думала, что он снова примчится на мотоцикле, поэтому вздрагивала от каждого приближающегося шума мотора, бежала к окну и, краснея, выглядывала из-за занавесок.
В одиннадцать вечера она не выдержала и пошла звонить. Долго не решалась набрать его номер, наконец набрала, но трубку снял не он, а Крупенников. В доме было шумно, слышались женские голоса, и от этих голосов она онемела и не смогла выговорить ни слова. На другом конце бросили трубку.
«Может быть, кто-то из класса или помирились с Леной, – подумала она. – А может быть, шумел телевизор, они все любят запускать на полную мощность…»
Ей почему-то сделалось зябко. Она вернулась домой. Ее била дрожь, и она долго не могла согреться. Выпила чаю, и ее тотчас бросило в жар. Градусник показал 38,5.
Старик читал Петрарку: «В юности страдал я жгучей, но единой и пристойной любовью и еще дольше страдал бы ею, если бы жестокая, но полезная смерть не погасила уже гаснущее пламя. Я хотел бы иметь право сказать, что был вполне чужд плотских страстей, но, сказав так, я солгал бы, однако скажу уверенно, что, хотя пыл молодости и темперамента увлекал меня к этой низости, в душе я всегда проклинал ее. Притом, приближаясь к сороковому году, когда еще было во мне и жара и сил довольно, я совершенно отрешился не только от мерзкого этого дела, но и от всякого воспоминания о нем, как если бы никогда не глядел на женщину; и считаю это едва ли не величайшим моим счастьем и благодарю Господа, который избавил меня, еще во цвете здоровья и сил, от столь презренного и всегда ненавистного мне рабства…»
Старик любил читать поэтов и мыслителей не столько даже за мысли, которые те высказывали, чаще всего они неслись на поводу своих страстишек. И как ни набрасывали изящное покрывало слов на сию разгоряченную склонность, как ни украшали ее цитатами и примерами, собственными метафорами и сравнениями, она все равно проглядывала, как уши из-под колпака. Старик любил их читать за обмолвки, за те сорвавшиеся с языка невольные слова, которые, если их найти, уже сами по себе являли гораздо большее значение, чем та общая мысль, на каковую их заставляли работать. И вот Петрарка, всю жизнь только и писавший о любви, о жаре чувств, расписывает свое отвращение к нему! Впрочем, если б жар всерьез стал мучить его, возможно, не было бы стихов, каждому свое…
Старику понравилось его выражение: «Жестокая, но полезная смерть». Так сказать о своей возлюбленной, да еще радоваться при этом, это уж совсем любопытно и, пожалуй, более под стать закоренелому цинику, чем трепетному поэту и лицу духовному.
Жестокая, но полезная смерть… Поэт мыслил шире, чем монах. Он умел сопрягать светлое и черное, и вот формула, которую искал Старик. Боже, как многие проигрывают оттого, что живут дольше, чем нужно, и уже настолько надоедают человечеству, что оно не чает, как от них избавиться. Бывает и другое. Но то, что смерть в иных случаях полезна, это несомненно, и, кто знает, проживи Лаура дольше да еще выйди замуж за Петрарку, он бы, пожалуй, строчки для человечества не написал, а кропал бы свои сонеты в альбом. Разве мало было таких поэтишков?.. Вот действительно полезная смерть!
Из всех новых подопечных Старику больше всего понравился Неверующий. Не ожидал он от него такой прыти. Впрочем, если честно, испытание Петру Иванычу он подготовил из рук вон плохо. Ну, что это за фигура, Черных? Теперь вот и сам поплыл, и в результате родится еще один грешник. А ведь Черныха готовили в праведники. Взяток он не брал, на уговоры не шел, дачи не строил. Даже мясо покупал у себя в буфете по государственным ценам. А воспитать праведника, да еще в торговле, – это подвиг! И Старик очень этим гордился. Праведники и без того все на учете, а тут такая редкость. И вот на тебе… Поначалу Старик надеялся, что твердый праведнический характер Черныха обрушит великий гнев на голову Неверующего и сам еще укрепится после этого, а оказалось наоборот. И теперь эта Полина Матвеевна, уже давно выискивавшая случай совратить бедного Черныха, сделает свое колдовское дело.
«Но черт с ними, с этими неприятностями, – вздохнул Старик. Феномен Петра Иваныча полностью все искупает. Как он воспарил душой! Старик даже пошел (сам!) в канцелярию и спросил, как у них с планом, он даже готов был взять к себе Катерину Ивановну, даже придумал ей работу – пыльные бури, этот участок захирел, а сил у Катерины Ивановны много, она быстро наведет здесь порядок, а у Петра Ивановича не будет никаких хлопот с разводом, а то Неверующий стал уже тосковать, подумывая о том, какой шум произведет его развод, вести же двойную жизнь он не мог. Да и Катерину Ивановну было жалко. Куда она теперь, кто ее возьмет?.. И Ленке переживания. Впрочем, Петр Иваныч все равно это сделает, а Старику очень хотелось, чтобы Неверующему повезло, улыбнулось счастье. Старик знал, что у них с Надеждой могут быть и дети… Но про то он даже себе не смел признаваться. Чтобы не сглазить.
Итак, Старик посетил канцелярию, но, как и следовало ожидать, план был выполнен давно, а сверхплановых жертв, безвинно убиенных, кои поступали к нему на Участок Стихий, уже множество толпилось в предбаннике, и Старик не знал, что с ними делать. Мест свободных у него почти не было, а человечество до того озверело, что истребляло безвинных толпами. Из Африки, Азии шли колоннами! Войны вроде большой не наблюдалось, а истребление шло полным ходом. Между делом к Старику привели уже пятого претендента на место Дождя, скрипача лондонского оркестра, которого нечаянно убили в уличной перестрелке гангстеров с полицией. Скрипач даже внешне походил на Дождя, и Старик, отметив это обстоятельство, недовольно хмыкнул.
– Что вы знаете о Козимо Медичи? – спросил Старик и тотчас пожалел о своем вопросе. Ну, конечно же, претендента натаскали как следует, выболтав все о жизни деда Лоренцо. Н-да. Тут и не узнаешь, что за фрукт.
– А кем вы хотели быть в детстве? – спросил Старик.
– Я? Я хотел быть пожарным!..
И здесь чувствовалась бдительная рука Первого Помощника. Уж не заговор ли он готовит, вербуя своих людишек в аппарат? Вон какую продувную бестию подсовывает… Да, но Старик тоже не может до бесконечности тянуть. После девяти дней отсутствия новый Дождь должен быть назначен, а ведь надо оформить еще тысячу справок, а сегодня уже седьмой день (шестой для Дождя). Старик отдыхает, но обстоятельства поджимают. Куда деваться! И это уже последний претендент, после чего Старик должен будет взять любого, кого предложит Первый. А он, чего доброго, выберет такого головореза, что весь участок будет лихорадить. Придется уж оставлять этого оболтуса, чего еще расспрашивать?
И Старик его отпустил, приказав готовить документы. Первый облегченно вздохнул. Но когда Старик дал понять, что хочет побыть один, Первый обиделся. Он был шустрый, этот Первый. Слетел с откоса на машине. Старик спросил его потом: «Куда ты мчался?» И Первый ответил: «На свидание с девушкой…» И как-то незаметно он выдвинулся. А поначалу гонял облака. Нудная работа. Но потом у Старика обнаружился ревматизм, и он тут как тут. Старый любитель бани. Вылечил, и пошло-поехало. А работал администратором в филармонии. Вообще-то Старик нетворческих людей не берет, но при регистрации посчитали, что поскольку филармония, то это к Старику. Так он и попал. Был Семнадцатым помощником, стал Первым. Старик сам удивился. Но работает четко. Дождя невзлюбил. И Дождь его тоже. Но Дождь в Совете старейшин, и Первому его не укусить. Теперь и старается. Ничего, похоже, уже недолго осталось…
Старик вызвал Седьмого.
– Ну, что? – спросил Старик.
– Фактов много, – ответил Седьмой.
– Что значит много? – пробурчал недовольно Старик. – У тебя всегда на всех есть улики! И на меня, уверен, тоже! Ну, есть же?!.
– Есть, – помолчав, вздохнул Седьмой.
– Ну и что это за улики?!
– Да несущественные… – отмахнулся Седьмой.
– Ну, хватит, хватит! – рассердился Старик. – Выкладывай!
– Во-первых, вы сами определили Дождю размер капель два миллиметра.
– Два-полтора, – поправил Старик.
– Записано: два.
– Ну, хорошо! Дальше!
– Вот, а он все время играет тоньше! По 0,5, а то и по 0,1, а то и вообще по 0,05. А то вдруг сыплет по 6—7 миллиметров, то есть пользуется правами всех Дождей, о чем они докладывают. И вы даже пошли на то, что не просто разрешили ему это от себя, а объявили, что добились специального разрешения, что, увы, совсем не так. Согласно же параграфу второго Небесного Устава, за превышение полномочий вам грозит высылка на вечное поселение за пределы Вселенной… – Седьмой замолчал, глядя на Старика. Губы его были плотно сжаты. – Вы сами просили… Дождь путает все наши метеорологические карты и расстраивает метеонауку на земле. А мы же обязались им не вредить, это даже записано в Уставе. А получается, что вредим, ибо то там засуха, то заливает сплошняком. А даже за неумышленное вредительство предусмотрено наказание…
– Знаю! – оборвал его Старик.
– Ну, вот…
Старик задумался.
– А Первый знает?
– Да… – помолчав, ответил Седьмой.
– И он знает, что ты знаешь?..
– Да…
– И что?..
– Я перехватил его донос, но ждать больше нельзя. Мне все труднее его контролировать, он повсюду запускает своих людей.