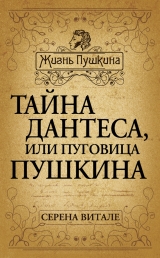
Текст книги "Тайна Дантеса, или Пуговица Пушкина"
Автор книги: Серена Витале
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Exegi Monumentum
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
Он обладал – по крови, веку и божественной печати – даром отстранения. В искусстве это позволило ему отодвинуть то, что все еще иссушает плоть и кровь, на расстояние, измеримое эрами, веками – расстояние, которое заставляет вещи казаться вечными. Хрустальный шар поэзии позволил ему дистанцироваться от событий сердца и мира, – то, что простым смертным достается только через страдание и забвение. Это удивительное ускорение, эта удивительная алхимия, которая сворачивает кровь открытых ран при первом контакте с разреженным воздухом поэзии, были его тайной. В жизни это придавало его поведению налет пресыщенности и превосходства, который многих раздражал. Он хорошо знал себе цену, и шуточный, скромный, уничижительный тон, в котором он любил говорить о себе – «я написал немного кое-чего», – это о прозе и стихах, созданных в Болдине, – был неким противовесом его вкусу и интеллекту, управлявшими его чувством собственного достоинства: «Я встретился с Надеждиным у Погодина. Он показался мне весьма простонародным, vulgar, скучен, заносчив и безо всякого приличия. Например, он поднял платок, мною уроненный».
«Холод гордости спокойной» был земным вариантом типичного архетипа совершенства, которое управляет поэзией Пушкина из отдаленного, вечно тайного места. Это – отрицательное божество, обратная сторона всего беспокойного волнения, всей борьбы, усилий, тоски и страсти людей. Нам дарованы только мимолетные отражения этого – в искусстве, в величественности природы, в гармонии общественных форм, в порядке ритуалов. Его голос никогда не достигает нас, не учит, не командует и не наказывает. Он не вмешивается в человеческие дела, он полон собой и доволен собой. Он не ищет ни жертвы, ни священников. Он холоден и закрыт, далек и недвижим. Его нельзя найти, нельзя следовать за ним или любить его; о нем можно только размышлять.
Графа Кочубея похоронили в Невском монастыре. Графиня выпросила у государя позволение огородить решеткою часть пола, под которой он лежит. Старушка Новосильцева сказала: «Посмотрим, каково-то будет ему в день второго пришествия. Он еще будет карабкаться через свою решетку, а другие давно уж будут на небесах».
Его меняющиеся поэтические маски смущали и сбивали с толку. Его шедевром был рассказчик в «Евгении Онегине», романе в стихах и в бесконечном движении. Он начинает в почтовой карете, несущей Онегина к его умирающему дяде в провинцию, но затем резко меняет направление, возвращаясь в Петербург, чтобы следовать за молодым героем, когда он прибывает на санях в самое модное место встреч и ежедневных прогулок, спешит к ресторану Талона, летит к театру, мчится домой поменять одежду, едет в наемной карете на бал в общество, и наконец, отправляется домой в своем экипаже, чтобы отдохнуть после лихорадочного дня. Верно, роман на двух бегунах и четырех колесах. Даже когда утомленный герой останавливается, беспокойное воображение его создателя продолжает бежать, преследуя мимолетные ассоциации и вспышки памяти, делая отступления в признаниях, размышлениях, лирических излияниях. «Замечу кстати…» – и любой предмет подходит для обсуждения в дружеской беседе: женские ножки, волшебство театра, женские сердца, деревенские привычки, альбомы провинциальных девиц, законы судьбы, бесплодная душа современного человека, ужасные российские дороги. Наш молодой путешественник никогда не умолкает.
Он ошеломляет нас своими принципами простой мудрости. «Врагов имеет в мире всяк, / Но от друзей спаси нас, Боже!» «Чем меньше женщину мы любим, / Тем легче нравимся мы ей». «Кто жил и мыслил, тот не может / В душе не презирать людей». «А милый пол, как пух, легок». Время от времени он похож на старого, угрюмого мизантропа, нападающего на скучное, злое общество, мир холодной жестокости, тирании моды. Являются ли они действительно детьми своего века, романтиками, русскими байронами? Время от времени он звучит подобно ностальгирующему старику, поющему дифирамбы добрым старым дням. И все же его голос полон юным изяществом и сверкающей радостью. Он никогда не молчит, этот наш странный путешественник, и даже приглашает нас сказать свое слово:
Гм! Гм! Читатель благородный,
Здорова ль ваша вся родня?
Позвольте: может быть, угодно
Теперь узнать вам от меня,
Что значит именно родные.
Родные люди вот какие:
Мы их обязаны ласкать,
Любить, душевно уважать
И, по обычаю народа,
О Рождестве их навещать
Или по почте поздравлять,
Чтоб остальное время года
Не думали о нас они…
Итак, дай Бог им долги дни!
Наши родственники прекрасно себя чувствуют, благодарение Богу. Хотим мы побольше узнать о Евгении? Конечно, да. Хорошо, и он сам, и Евгений, да будет нам известно, одного возраста и старые друзья – старые душой, безвозвратно увядшие. Инвалиды, их чувства искалечены, они тянут лямку жизни без цели и без удовольствия. Иногда они мечтательно обращаются к прошлому, к началу их молодых жизней, подобно безнадежным заключенным, отбывающим пожизненный срок в темной камере и внезапно оказавшимся в пронизанном солнцем зеленом лесу. Действительно замечательный образ. И какая жестокая судьба для двух благородных душ. Мы уже вытираем слезу, когда внезапно наш говорливый путешественник выдает себя выскочившей короткой фразой:
Ужель и впрямь и в самом деле
Без элегических затей
Весна моих промчалась дней
(Что я шутя твердил доселе)?..
Другими словами, он шутил, подражая модным иностранным авторам, болтая только, чтобы убить время, как делают многие путешественники. Но также чтобы обмануть нас – ведь что мы знаем о нем, кто он на самом деле? Праздный деревенский помещик, генерал-инспектор инкогнито, революционер в пути, поэт? Или, возможно, карикатура на них, «сей ангел, сей надменный бес»? Достигнув места назначения, мы вежливо благодарим его за компанию и прекрасные слова, поскольку мы не можем отрицать, что слова были прекрасны, и они согревали наши сердца даже при вое холодного ветра.
Когда вдруг наступает мертвая тишина, мы кое-что начинаем понимать в нашем загадочном путешественнике. Тот, кто так говорит, скользит по предметам разговора как по полированному паркету петербургского дворца и знает пустые глубины существования – он может в совершенстве воссоздавать их блестящую поверхность. Тот, кто подобно ему, легко переходит от одной темы к другой по ходу беседы, – человек, который в прошлом имел необычайное, но мимолетное видение цели, и, опасно очарованный, отвел от нее свои взор: холод устрашает, но завораживает. Вот почему поэты, или некоторые из них, любят сочинять истории.
Дельвиг не любил поэзии мистической. «Чем ближе к небу, – говаривал он, – тем холоднее».
На арене жизни Пушкина посещали как будто созданные неустанной искусной режиссерской рукой потери состояния, ссылки и бедствия. В течение шести лет, предшествующих великому прощению, он жил в изгнании, сначала на юге, затем в Михайловском. Расстояние приличествует мистике: он стал самой большой надеждой национальной литературы и самым великим поэтом страны – и в то же время его не было; его эксцентричность – дань Байрону, аристократическое обаяние, стиль денди, инстинктивная ненависть к косной монархии – имели конкретное воплощение, а самого его не было. Его отсутствие казалось мнимым, поскольку предполагало его реальное существование где-то там, в захолустье; оно вовсе не скрывало его от глаз России, а напротив, направляло яркий луч внимания, поскольку он стоял в центре сцены в блестящем ореоле мученика, одинокого титана, вечного кочевника. Наказания, которые неизменно следовали за его экстравагантными поступками – политическими, поэтическими или даже любовными, – предоставили ему идеальный фон: одинокая скала, ревущие волны, недоступные вершины, деревенские хижины, его собственные острова Св. Елены и Миссолоники. В ссылке он стал центром внимания публики и ее живого любопытства.
Получив свободу, он остался невидимкой, блуждающим, беспокойным духом и в вечном движении, путешествующим из Петербурга в Москву и в загородные дома, где он преднамеренно поместил себя под домашний арест, чтобы подтолкнуть уснувшее вдохновение. «Где Пушкин? Чем он занимается?» Друзья и поклонники постоянно задавались этим вопросом, и, по всей вероятности, они могли вообразить ответ: в петербургском салоне, зевая или пережевывая мороженое; в доме цыганки Тани, пользовавшейся в Москве дурной славой, или известном доме Софьи Астафьевны в столице; на секретном месте дуэли; за игорными столами, в пыльной гостинице на одной из больших российских дорог, впустую растрачивая деньги, заработанные на последней поэме; на турецком фронте с солдатами, которые, бросив один взгляд на его плащ и цилиндр, принимали его за священника; на целомудренном tête-a-tete с Музой в гостиничном номере; или в постели в другом гостиничном номере, в лихорадочном жару, с бритой головой, настигнутый местью Венеры.
Утомленный, он пробует сделать паузу, но Судьба скоро видит, что это всего лишь еще одна попытка уклониться от нее, маскируясь под толстого и счастливого буржуа, желание бежать в усредненность и безвестность. Этому не суждено было случиться. Он послан в Петербург, вызван ко двору, приглашен его величеством в Аничков дворец. Быть в центре событий поэтам ни к чему: это портит легенду, разъедает душу, натягивает нервы. Давайте оставим в стороне страсть Натали к балам и ее ненависть к сельской жизни; оставим в стороне запрет царя и необходимость спрашивать его разрешения на малейшее передвижение, самую невинную поездку; оставим в стороне эти 135 000 рублей долгу– или давайте лучше думать о них как агентах и клерках Судьбы. Они обрекли Пушкина находиться там, обрекли его на все эти испепеляющие взгляды и вспышки тысячи лорнетов – которые больше не искрятся доброжелательным любопытством к таинственному незнакомцу, внезапно вернувшемуся домой. Его хрупкое домашнее тепло, его «дом» [27]27
«Юность не имеет нужды в доме (в оригинале английский язык), зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен, кто находит подругу, – тогда удались он домой. О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню – поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические – семья, любовь и т. д. – религия, смерть». Таковы были заметки Пушкина по поводу тем и мыслей, которые он собирался развивать в «Пора, мой друг, пора» – стихотворении, которое так и не было закончено.
[Закрыть]– место, которое он выбрал как последнее укрепление и убежище, было внезапно выставлено для всеобщего обозрения, оказавшись огороженным только стеклом, кое-где уже разбитым, и все еще прозрачным. И он обречен сидеть в осаде с навязчивой идеей, врагом созерцания.
На немецком курорте молодой француз ухаживал за красивой русской дамой, вовсе не безразличной к его вниманию. Ее простоватый муж не питал ни малейших подозрений на счет того, что затевалось у него под носом. Более проницательный друг посоветовал ему немедленно увезти жену назад в деревню, напоминая ему, что сезон охоты начался, и добавил: «Главное, вовремя, потому что рога уже слышны» (Вяземский).
Князь Потемкин во время очаковского похода влюблен был в графиню **. Добившись свидания и находясь с нею наедине в своей ставке, он вдруг дернул за звонок, и пушки кругом всего лагеря загремели. Муж графини **, человек острый и безнравственный, узнав о причине пальбы, сказал, пожимая плечами: «Экое кири-куку!»
Старый К***, нежный и любящий муж, но забывчивый отец, иногда спрашивал свою жену: «Дорогая, кто, ты говоришь, был отцом нашего второго сына? Никак не могу вспомнить». Или: «Как зовут отца нашего младшего сына? Вертится на языке!»
19 октября 1836 года видели, как он плакал на ежегодном празднике, посвященном торжественной годовщине великолепного первого лицейского класса. Собрались все оставшиеся в живых лицеисты. Он пришел с новыми стихами, предупредил друзей, что не успел их закончить, и начал читать:
Теперь не то: разгульный праздник наш
С приходом лет, как мы, перебесился,
Он присмирел, утих, остепенился,
Стал глуше звон его заздравных чаш;
Меж нами речь не так игриво льется,
Просторнее, грустнее мы сидим,
И реже смех средь песен раздается,
И чаще мы вздыхаем и молчим.
На этом месте его начали душить рыдания, и он был принужден остановиться, отойдя в угол, чтобы не делать зрелища из собственных эмоций. Нужно сказать, что Пушкин был очень утомлен в тот день, работая над последними штрихами к «Капитанской дочке» и сделав набросок длинного ответа на «Философическое письмо» Чаадаева:
«…Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться… А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел вас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человек с предрассудками – я оскорблен, – но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».
«Как мы пали духом со времен Екатерины… Самое царедворство, ласкательство… имело что-то рыцарское: много этому способствовало и то, что царь была женщина. После все приняло какое-то холопское уничижение… Возьмите, например, Панина и Нессельроде, этого холопа карла, не говоря уже в нравственном смысле, ибо он в нем не карла, а какой-то изверженный зародыш, vermisseau né du cul de feu son pure [28]28
Глистный зародыш, выскочивший из […] его, ныне покойного отца (фр.).
[Закрыть], или, правильнее, помня способность батюшки, un vent lâché du cul de feu son pure [29]29
Подобно ветрам, выходившим из […] его покойного отца (фр.).
[Закрыть], но и физического карла… Воля ваша, а для России нужно еще и физическое представительство в своих сановниках. Черт ли в этих лилипутах? Слова Павла, сей итог деспотизма: «Знайте же, что при моем дворе велик лишь тот, с кем я говорю, и лишь тогда, когда я с ним говорю», – сделались коренным правилом» (Вяземский).
Он шел по Невскому проспекту с графом Нессельроде, вице-канцлером Российской империи, и графом Воронцовым-Дашковым, государственным секретарем и членом Государственного совета. «Я не погрешу перед потомством, – пишет Н. М. Колмаков, – если скажу, что на его бекеши сзади на талии недоставало одной пуговки. Отсутствие этой пуговки меня каждый раз смущало, когда я встречал А. С-ча и видел это. Ясно, что около него не было ухода…» Крошечный недостаток в одежде Пушкина беспокоит и нас, но как ни задето наше любопытство, не будем терять историческую перспективу, как Колмаков. Не заботились о нем? В доме Пушкина было много слуг, и вопреки тому, что предполагает мемуарист – намек на невозможно беспорядочное домашнее хозяйство среднего класса, вкупе с разочарованной, ленивой, неряшливой женой – наблюдение за его платяным шкафом вовсе не было обязанностью Натальи Николаевны. Конечно, нелепо полагать, что отсутствие пуговицы было продуманно или намеренно, но не трудно увидеть в этом луч света в мрачной камер-юнкерской карьере Пушкина, дразнящий символический комментарий, усмешку, закодированное послание последнего денди Российской империи.
«L’exactitude est la politesse des cuisiniers» [30]30
«Пунктуальность – вежливость кухарок» (фр.).
[Закрыть].
Давайте представим спину бекеши Пушкина в виде строки стихотворения. Разве отсутствующая пуговица несколько не походит на ударение, которое внезапно отрывается от ямба и исчезает в пустоте, дразня таким образом этикет просодии, освобождая строчку от рабского метрического повиновения, делая ее новой и подвижной, изменчивой, непредсказуемой, причудливой, безгранично изящной и свободной?
Мы все учились понемногу
(Учились, например, тому, что это – четырехстопный ямб – / – / – / – /.)
чему-нибудь и как-нибудь
(И три ударения исчезли всего в двух строчках, охваченные пустотой, которая вызывает отвращение у Онегина, Петербурга и всего века.)
Мартингал Воронцова-Дашкова: – / – / – / – / (сильный слог, /, поддержка пуговицы, слабый – , за складку)
Мартингал Пушкина: – / – – / —
Voila.
Анонимные письма
Лиза в городе жила
С дочкой Долинькой,
Лиза в городе слыла
Лизой голенькой.
Нынче Лиза en gala
У австрийского посла,
Не по-прежнему мила,
Но по-прежнему гола.
Приписывается А. С. Пушкину
В 1826 году Елизавета Михайловна Хитрово, дочь фельдмаршала Кутузова, человека, победившего Наполеона, возвратилась на любимую родину после долгого отсутствия. Тремя годами позже ее дочь Долли прибыла в Петербург как жена нового австрийского посла, ив 1831 году Хитрово присоединилась к дочери и зятю в роскошном особняке Кваренги, где располагалась австрийская миссия. До недавнего времени величественное здание на Неве принадлежало жестоким Салтыковым; но граф и графиня Фикельмон принесли в это место светлое возрождение, вытеснившее средневековый мрак и превратив его в культурное и изящное окно в Европу. Утренние приемы матери и вечера дочери стали обязательными пунктами на социальных и интеллектуальных раутах столицы. Петербуржцам, вспоминал Вяземский, «не нужно было читать газеты, как у афинян, которые… жили, учились, мудрствовали и умственно наслаждались в портиках и на площадях. Так и в двух этих салонах можно было запастись сведениями о всех вопросах дня, начиная от политической брошюры и парламентской речи французского или английского оратора и кончая романом или драматическим творением одного из любимцев той литературной эпохи». Пушкин был постоянным гостем в австрийском посольстве; Нащокин утверждает, что он якобы имел краткий, но бурный роман с прекрасной Долли на одну ночь, когда страсть проходит с рассветом, и только быстрые действия энергичной, опытной французской горничной предотвратили их разоблачение обманутым мужем. Если бы этот эпизод действительно имел место (о супружеской верности графини Фикельмон, за которой многие ухаживали, ходили легенды), это не было бы недостойной записью в уже внушительном каталоге самого известного донжуана России. Весьма хорошо задокументирована, однако, глубокая привязанность к Пушкину матери Долли – массивной, пышной женщины, которая считала себя статной и была горда даже своим внешним сходством со своим прославленным отцом, столь же отважным, как и некрасивым.
Утренние посетители иногда находили госпожу Хитрово еще в постели. Поскольку обеспокоенные посетители поглядывали по сторонам, куда бы присесть, они слышали: «Нет, не садитесь на это кресло, это Пушкина; нет, не на диван – это место Жуковского; нет, не на этот стул – это стул Гоголя; садитесь ко мне на кровать: это место всех».
«Голая Лиза», также известная как Додо (от dos-dos, или «назад-назад»), имела привычку выставлять свои пышные, но стареющие плечи (мишень бесчисленных шуток и даже стихов: «А не пора ли набросить завесу на прошлое?», «Филида с каждою зимою,/Зимою новою своей,/ Пугает большей наготою/Своих старушечьих плечей») – в столь глубоком декольте, которое на спине иногда доходило до копчиковой кости. Те редкие случаи, когда она не могла обнажить свою знаменитую спину, были увековечены обществом в пародиях: «Она прикрыла ее, как прикрывают алебастровую вазу, чтобы не засидели мухи». У всех на устах была знаменитая жалобная фраза Додо, которую она любила повторять в довольно преклонном возрасте: «Как печальна моя судьба! Так еще молода, и уже дважды вдова!» Пушкин перефразировал это в конце 1830 года, когда великий князь Константин Павлович был вынужден бежать из повстанческой Польши: «Теперь он тоже может сказать: все еще так молод и уже дважды вдовец – империи и королевства».
Восхищаясь достоинствами набожной, патриотичной Лизы – ее героической дружбой, ее великодушными услугами, – многие подшучивали над двумя поглощавшими ее страстями, одной «христианской» (к митрополиту Филарету), другой «языческой» (к Пушкину). Хотя она стремилась служить душе поэта, увести его от пастбищ непочтительности и безрассудства в долину веры и умеренности, его самое небольшое физическое недомогание погружало ее в отчаяние, а его каждодневные проблемы приводили ее в состояние ужасного беспокойства. Всегда внимательная и заботливая, она осыпала его вниманием и советами, ходатайствовала от его имени в рамках имеющихся полномочий, сообщала ему все последние новости столицы и Европы и быстро доставляла книги из Парижа, Вены и Лондона в секретном дипломатическом мешке. Благодарный за эти бесчисленные заботы и уважая этот пышный, полуголый осколок истории родины, Пушкин старался умерить пыл «старой фанатички», не ранив ее гордости. Он однажды уклонился от ее железных объятий, подражая библейскому Иосифу, сбежавшему от жены Потифара, оставив плащ в ее руках; так Пушкин говорил, что оставил свою рубашку в тучных руках Хитрово. Среди друзей он утверждал, что был Танкредом, устрашенным чрезмерной любовью, в шутку умоляя их заменить его в восторженном сердце Эрминии. Опасаясь осуждения потомков, он тщательно выбирал слова в своих ответах на бурный поток писем, которыми Лиза, не учитывая холодность ее возлюбленного, бомбардировала его в Петербурге, Москве, в деревне и даже в дороге. Но однажды он потерял терпение: «Все вы таковы, и вот почему я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки!..» Неустрашимая Хитрово упорствовала в розыгрыше любовных козырей, пока поэт не сообщил ей о своем браке. Только тогда, с болью в сердце, она заставляет себя проявлять свою «судорожную нежность» новыми способами: «Отныне – мое сердце, мои сокровенные мысли станут для вас непроницаемой тайной… океан ляжет между вами и мною – но раньше или позже – вы всегда найдете во мне для себя – для вашей жены и ваших детей – друга, подобного скале, о которую всё будет разбиваться. – Рассчитывайте на меня на жизнь и на смерть, располагайте мною во всем без стеснения… я драгоценный человек для своих друзей – я ни с чем не считаюсь, езжу разговаривать с высокопоставленными лицами – не падаю духом, еду опять – время, обстоятельства – ничто меня не пугает… моя готовность услужить другим является в такой же мере даром небес, как и следствием положения в свете моего отца».
В начале ноября 1836 года душа Хитрово страдала от трех неприятностей: болезненный нарыв в боку, мучивший Николая I (всякий раз, когда Лиза произносила слово «царь», она делала благоговейную паузу, которая должна была отметить ее безграничную преданность дому Романовых) – последствие неосторожного соскока с лошади; злобная клевета Чаадаева; противоречия, окружавшие стихотворение «Полководец», в котором Пушкин преследовал ясную мысль ни больше ни меньше как восславить Барклая-де-Толли, несчастного, забытого защитника России от наполеоновского нашествия. Она знала, конечно, что поэт не имел ни малейшего намерения оскорбить память ее отца, единственного истинного героя Отечественной войны, и она спешила сообщить об этом каждому, но каждая строчка ее возлюбленного тем не менее вызывала возмущение и негодование, и она испытывала невыразимую боль при каждом нападении на него. «Дорогой друг, – написала она утром 4 ноября 1836 года, – я только что узнала, что цензурой пропущена статья, направленная против вашего стихотворения… Меня не перестают терзать за вашу элегию – я настоящая мученица, дорогой Пушкин; но я вас люблю за это еще больше и верю в ваше восхищение нашим героем и в вашу симпатию ко мне! Бедный Чаадаев. Он, должно быть, очень несчастен от того, что накопил в себе столько ненависти к своей стране и к своим соотечественникам». Она только успела поставить свою внушительную подпись – Elise Hitroff, nee Princesse Koutousoff-Smolensky, – когда ей был вручен конверт, который доставили городской почтой. Она заинтересовалась, поскольку petite poste была все еще новинкой в столице. Поэтому она немедленно его вскрыла. Внутри был единственный лист бумаги, свернутый и запечатанный – и адресованный Пушкину. Удивление скоро уступило место болезненному беспокойству. Ее шестое чувство, обостренное долгим опытом жизни в обществе и знанием его устоев, подсказало ей, что таинственное официальное письмо, должно быть, конечно, прибыло от одного из врагов поэта. Лиза помедлила, погруженная в мысли, с неопределенной меланхолической улыбкой на губах, предчувствуя надвигающиеся удовольствия материнской заботы: еще раз она защитит Пушкина, твердая как скала и ограждающая его своим внушительным телом. После внезапного возвращения к действительности, она приказала, чтобы оба письма – то, которое она только что написала, и то, которое она получила, нераспечатанное, – были отправлены поэту в особняк княгини Волконской, номер 12 на Мойке.
В это же самое утро, 4 ноября 1836 года, Петр Андреевич Вяземский усердно работал над своей корреспонденцией, когда жена прервала его занятия, чтобы подать ему странный предмет, который только что прибыл утренней почтой: единственный конверт, в который был вложен другой, адресованный Пушкину. Взволнованная княгиня Вяземская, подозревая что-то неприятное, не знала, что делать. Вяземский, доверяя своей долгой дружбе с поэтом, решился открыть второй конверт. Он прочел его вслух и бросил в огонь с гримасой отвращения. Он и его жена согласились никому об этом не рассказывать. Они не подозревали, что оскорбление делало свое грязное дело в других местах, расползаясь по Петербургу подобно нефтяному пятну.
В то же самое утро 4 ноября 1836 года Александра Ивановна Васильчикова велела позвать своего племянника, который в то время гостил в ее доме на Большой Морской. «Представь себе, какая странность! Я получила сегодня пакет на мое имя, распечатала и нашла в нем другое запечатанное письмо, с надписью: Александру Сергеевичу Пушкину. Что мне с этим делать?» Двадцатитрехлетний Владимир Соллогуб, способный автор и чиновник в министерстве внутренних дел, подозревал, что это очень странное дело было следствием неприятного инцидента, который произошел почти год назад.
Он покраснел, поскольку вспомнил свое первое столкновение – и первый faux pas – с «великаном родной поэзии». Студент Дерптского университета, он проводил Рождество в Петербурге, когда однажды вечером его отец указал на великого Пушкина, сидящего прямо перед ними в театре. Граф Александр Иванович Соллогуб представил своего сына поэту во время антракта: «Вот этот сынишка у меня пописывает». Поскольку второй акт закончился, молодой человек, стремясь произвести хорошее впечатление на своего кумира, дал понять, что знаком с «les gens du metier» и проводит время в их компании, с уважением спросил Пушкина, будет ли он иметь удовольствие видеть его снова в среду на литературном сборище у некоего автора. «С тех пор как я женат, я в такие дома не езжу», – холодно ответил поэт, и неуклюжий студент испытал желание тут же раствориться в болотистых трущобах Петербурга. После окончания университета он видел Пушкина несколько раз в доме Карамзиных, где однажды вечером, в октябре 1835 года, Наталья Николаевна Пушкина пошутила насчет одной из великих, несчастных страстей Соллогуба. «Давно ли вы замужем?» – ответил обиженный молодой человек, предполагая, что ей не следовало касаться серьезной проблемы его сердца, поскольку сама она едва ли не ребенок; затем он тут же начал говорить о Ленском, поляке, очень искусном в мазурке, любимом кавалере императрицы и очень популярном среди представительниц высшего света Петербурга. Слова Соллогуба, раздутые богатым воображением присутствующих дам (не пытался ли он напомнить Наталье Николаевне о ее обязанностях жены и не намекал ли на какие-то ее отношения с Ленским?), показались оскорбительными щепетильному Пушкину. Будучи назначенным в долгую рабочую поездку по провинции, Соллогуб только двумя месяцами позже узнал, что поэт послал ему письменный вызов и объяснил его молчание как постыдное уклонение от дуэли. Соллогуб написал ему, и в начале февраля 1836 года Пушкин ответил, откладывая поединок чести на конец марта, когда он собирался проезжать через Тверь. Молодой человек купил пистолеты и назначил секунданта, но поэт не приехал. Вместо него в Тверь прибыл Петр Валуев, который и сообщил, что Жорж Дантес скандально ухаживает за Натальей Николаевной в Петербурге. Два друга хорошо посмеялись: Пушкин дрался бы на дуэли с одним человеком, в то время как его жена флиртовала бы с другим.
Прошло время. В мае Соллогуб должен был оставить Тверь на несколько дней. По своем возвращении он узнал, к своей тревоге, что Пушкин, остановившись ненадолго в городе по пути в Москву, искал его. Боясь действительно на сей раз сойти за труса, бедный Соллогуб в тот же вечер кинулся на почтовой тройке в Москву. Поэт, гость Павла Нащокина, еще спал, когда прибыл Соллогуб. Он вошел в гостиную в халате, со взъерошенными волосами и красными от сна глазами. Полируя свои ногти, подобные птичьим когтям, он принес извинения за то, что был принужден отложить столкновение на столь долгое время, и спросил своего противника, кто будет его секундантом. Лед был сломан, беседа коснулась литературных вопросов, конкретно «Современника». «Первый том был слишком хорош, – прокомментировал неоперившийся издатель. – Второй я постараюсь выпустить поскучнее: публику баловать не надо». В этот момент явился Нащокин, даже более сонный, чем Пушкин, после ночи, проведенной за покрытыми зеленым фетром столами Английского клуба. Несмотря на раскалывающуюся от боли голову и значительное раздражение из-за необоснованно раннего утреннего посещения, владелец дома немедленно попытался восстановить мир: недоразумение в основе конфликта не стоит поединка, настаивал он. «Неужели вы думаете, что мне весело стреляться? – сказал Пушкин Соллогубу. – Да что делать? Я имею несчастье быть человеком публичным, и, знаете, это хуже, чем быть публичной женщиной». После длинных переговоров достойный выход был, наконец, найден: «публичный человек» согласился на письмо с извинениями, адресованное его жене. Как будто внезапно освобожденный от тяжкого бремени, Пушкин отметил прекращение военных действий, пожав руку Соллогуба и затем впал в веселое, болтливое настроение. Позже, когда молодой человек возвратился в Петербург, они часто виделись на небольшом рынке под открытым небом, где покупали теплые свежие булки, которые грызли по пути назад, таким образом шокируя щеголей, прогуливавшихся по Невскому проспекту с вальяжной манерой павлинов.








