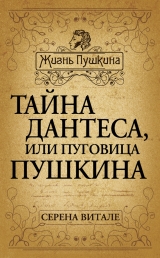
Текст книги "Тайна Дантеса, или Пуговица Пушкина"
Автор книги: Серена Витале
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
«Наши лучшие умы страдают чем-то большим, нежели простая неосновательность. Лучшие идеи, за отсутствием связи или последовательности, замирают в нашем мозгу и превращаются в бесплодные призраки. Человеку свойственно теряться, когда он не находит способы привести себя в связь с тем, что ему предшествует, и с тем, что за ним следует. Он лишается тогда всякой твердости, всякой уверенности. Не руководимый чувством непрерывности, он видит себя заблудившимся в мире. Такие растерянные люди встречаются во всех странах; у нас же это общая черта… Иностранцы ставят нам в достоинство своего рода бесшабашную отвагу, встречаемую особенно в низших слоях народа; но, имея возможность наблюдать лишь отдельные проявления национального характера, они не в состоянии судить о целом. Они не видят, что то же самое начало, благодаря которому мы иногда бываем так отважны, делает нас всегда неспособными к углублению и настойчивости; они не видят, что этому равнодушию к житейским опасностям соответствует в нас такое же полное равнодушие к добру и злу, к истине и ко лжи…»
Пушкин думал долго и много об этом отрывке.
Ночью 16 октября мощный северо-западный ветер поднял уровень Невы на шесть футов восемь дюймов. Следующим вечером послышался тревожный залп орудия: гнетущие звуки, предупреждающие петербуржцев об опасности и угрозе, не поддающейся контролю. Но вода снизилась до безопасного уровня, и жизнь возвратилась в нормальное русло.
Софи Карамзина – ее сводному брату Андрею, Петербург, 18 октября, 1836 года:
«Мы вернулись к нашему городскому образу жизни, возобновились наши вечера, на которых с первого же дня заняли свои привычные места Натали Пушкина и Дантес, Екатерина Гончарова рядом с Александром, Александрина – с Аркадием, к полуночи Вяземский… и все по-прежнему…»
Царь Николай также тщательно читал «Письмо», которое заставило Россию содрогнуться от патриотического накала. Вот что писал Чаадаев: «Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих… Ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды… В нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу. И в общем мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколений, которые сумеют его понять; ныне же мы, во всяком случае, составляем пробел в нравственном миропорядке».
22 октября Николай I добавил собственной рукой краткий комментарий к докладу министра Уварова: «Прочитав статью, я нахожу, что ее содержание – смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного: это мы установили бесспорно, но это не оправдание для редактора журнала или цензора. Позаботьтесь о немедленном закрытии журнала». В тот же самый день граф Бенкендорф написал генерал-губернатору Москвы приказ, предписывающий медицинскому эксперту посещать Чаадаева каждое утро и удерживать последнего «от вредного влияния нынешнего, сырого и холодного воздуха». Официальный государственный сумасшедший помещался под домашний арест.
Пуговица Пушкина
Последние годы зимой он прогуливался по Невскому проспекту в слегка потертом цилиндре и длинной бекеше, также подержанной. Так как он был любимцем муз и поэтом, к которому благоволили боги, его преследовали долгие любопытные взгляды. Более внимательные прохожие отмечали с удивлением: сзади, где толстая ткань была собрана на талии, – на хлястике бекеши Пушкина не хватало пуговицы.
МИНИ-СЛОВАРЬ
Альмавива– мужской плащ, также называемый «испанская мантия», названный по имени персонажа из «Женитьбы Фигаро».
Бекешь, или бекеша – мужское зимнее пальто, отороченное и подбитое мехом; названо по имени венгерского дворянина шестнадцатого века Гаспара Бекеша, отважного военачальника и известного щеголя.
Кафтан– длинное мужское пальто, от роскошного, украшенного драгоценными камнями, парчового боярского pardessus до грубого холщового изношенного крестьянского или купеческого. С реформами Петра Великого в восемнадцатом столетии термин также использовался для верхней половины европейского костюма.
Камергер– от нем. Kammerherr, гофмейстер. Деталью костюма камергера был золотой ключ, висящий на синей ленте.
Камер-юнкер– от нем. Kammerjunker, младший придворный, рангом ниже камергера.
Линейка– четырехколесный длинный экипаж с местами для шести или больше человек, похожими на диваны, на которых пассажиры сидят боком к направлению движения.
Оказия– от фр. occasion, неофициальный курьер; кто-то, совершающий поездку по случаю, и кому поручены письма и пакеты.
Салоп– от фр. salope, теплое широкое женское пальто.
Даже будучи придворным, Пушкин появлялся на светских приемах в вечернем платье среднего класса: двубортный жилет, свободно повязанный широкий шелковый галстук под отложным ненакрахмаленным воротником. 16 декабря 1834 года он наконец надел мундир камер-юнкера на прием в Аничков дворец, но при этом надел несоответствующую яркую треуголку с перьями. Граф Алексей Бобринский немедленно послал за круглой шляпой, требуемой по этикету, но она была настолько стара и пропитана помадой, что даже простое прикосновение к ней окрасило перчатку Пушкина в липкий, сомнительный желтый цвет. В течение того вечера, тем не менее, царь Николай казался удовлетворенным. Он был всегда внимателен к платью поэта и не раз обижался: «II aurait pu se donner la peine d’aller mettre un frac» [14]14
«Он мог бы потрудиться переодеться во фрак» (фр.).
[Закрыть]. Он заставил графа Бенкендорфа упрекнуть Пушкина: «Его величество изволили заметить, что на балу у французского посланника на вас было штатское платье, в то время как на всех остальных гостях были мундиры» – ив шутку выразил свое неудовольствие Наталье Николаевне: «Est-ce à propos des bottes ou des boutons que votre mari n’est pas venu dernièrement?» [15]15
«Это из-за башмаков или пуговиц вашего мужа не было видно последнее время?» Но «из-за башмаков» является в то же время идиоматическим выражением, обозначающим «из-за пустяков» или «по тривиальной причине».
[Закрыть]
В тридцатых годах богатый американец прибыл в Петербург со своей красивой дочерью…Он носил американскую военно-морскую форму по особым официальным случаям, и когда люди болтали с ним, они вежливо касались моря, американского флота и так далее. Но он, казалось, не желал отвечать, и его ответы были уклончивы. Наконец американец, сытый по горло всей этой морской ерундой, сказал кому-то: «Почему вы все время спрашиваете меня о мореплавании? Это меня не касается, я не флотский». – «Тогда почему вы носите эту форму?» – «Просто мне сказывали, что в Петербурге нельзя обойтись без формы, и в то время как я готовился прибыть в Россию, я сшил на всякий случай эту. Когда это кажется уместным, я ее демонстрирую» (Вяземский).
Пушкина ругали даже за покрой платья его персонажей и предлагали ему изменить их одежду: «Он смешно рассказывал, – заметил один знакомый, – как цензировали его «Графа Нулина»: нашли, что неблагопристойно его сиятельство видеть в халате! На вопрос сочинителя, как же одеть, предложили сюртук. Кофта барыни показалась тоже соблазнительною: просили, чтобы он дал ей хотя салоп». Цензоры не пропускали ничего. Несколько неприличных выражений были вычеркнуты из гоголевской «Коляски», которая появилась в первом выпуске «Современника», например: «Верхние пуговицы у офицеров были расстегнуты».
Юсупов хлопотал, чтобы Солнцеву был присвоен титул камергера. В Петербурге сочли, что ввиду его гражданского статуса звание камер-юнкера будет достаточным. Но кроме того факта, что он уже был изрядного возраста, Солнцев был человек такого роста и охвата, что юношеское звание камер-юнкера вряд ли ему соответствовало… Князь Юсупов выдвинул его снова на основе его физических достоинств, и на сей раз предложение было принято. Солнцев наконец получил свой ключ. Весь этот инцидент едва ли мог ускользнуть от внимания летописцев, подобных Неелову, написавшему четверостишие для «Московского наблюдателя» о том, что некоторые делают карьеру с помощью дедушек, отцов и возлюбленных, другие – с помощью своих красивых, доступных жен, он один продвинулся… с помощью живота» [16]16
Приводится в переводе с английского. (Примеч. пер.)
[Закрыть](Вяземский).
Пушкин был назначен камер-юнкером накануне нового 1834 года, и когда он услышал эту новость на балу у графа Алексея Федоровича Орлова, он отреагировал ужасающим взрывом гнева, пеной у рта и выражениями настолько сильными, что кто-то поспешно отвел его в кабинет Орлова, пытаясь избежать скандала. Он был убежден, что ему дали этот титул, обычно приберегаемый для «восемнадцатилетних молокососов» только в начале их карьеры при дворе, потому что «двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове». Каждый в Петербурге согласился с этим. Его самые близкие друзья должны были успокаивать его, смирять его гнев. Александра Осиповна и Николай Михайлович Смирновы терпеливо объяснили, что, пожаловав его в камер-юнкеры, государь не имел намерения оскорбить его, но напротив, это еще одно доказательство его благосклонности, что естественно желание государя видеть при дворе самого большого поэта России и его жену и что никакой другой титул не мог быть предоставлен государственному служащему IX класса.
Обязанность носить мундир камер-юнкера – фактически, три мундира: платье, зеленое с золотом, мундир на каждый день и фрак особого покроя – была коварной ловушкой, которую рок поставил на пути Пушкина; мог ли он знать, какую сеть соткет судьба из этих зеленых и золотых нитей. Он сказал, что у него нет денег, и Смирновы купили ему мундир: первоначально заказанный молодым князем Витгенштейном, которого приняли на военную службу, и ни разу не надеванный, он висел, новый и бесполезный, в мастерской портного. Но Пушкин уезжал из города, притворялся больным, заявлял о серьезных проблемах в семействе – делал все, чтобы избежать публичного появления в этом ненавистном «полосатом кафтане» [17]17
«Полосками» он называл золотые шнуры, которые присоединялись к каждой пуговице на мундире.
[Закрыть]. И он получал осуждение и упреки, когда его ловили flagrante delicto на этой вынужденной лжи.
Однажды во время обеда в своем доме слепой [Петр Степанович] Молчанов услышал крик своего маленького внука и мать мальчика, ругающую его на дальнем конце стола. Он спросил, что случилось. «У него истерика, – ответила мать, – потому что он не хочет сидеть, где положено. Он хочет на свое старое место». – «Чего вы хотите? – сказал Молчанов. – Каждый в России вопит о том же самом, так почему он не должен? Позвольте ему сидеть, где хочет». (Вяземский)
Пушкин страдал от злословия и сплетен о его новой одежде, его новом темно-зеленом мундире. Недруги обвиняли его в раболепии и угодничестве перед великими мира сего, в том, будто он поступился совестью и принципами ради возможности оказаться в блестящем придворном обществе. Мерзкие пасквили про нового камер-юнкера, экс-борца за свободу, начали циркулировать по Петербургу.
«Сходнее нам в Азии писать по оказии», – писал Пушкин Вяземскому 20 декабря 1823 года.
В 1833 году Александр Яковлевич Булгаков испытал истинное счастье, когда его назначили московским почт-директором. Он плавал среди писем подобно осетру в Оке, поскольку корреспонденция была его естественной средой и его профессией. Она также стала его секретным пороком. Большая часть всего написанного в России теперь должна была проходить через его руки, и он оказался неспособным сопротивляться позорному искушению просматривать вверенные ему официальные письма. Он читал их, действительно восхищался ими и затем спешил сообщить друзьям и знакомым о помолвках и свадьбах, ссорах и изменах, разводах и дуэлях, болезни и смерти, завещаниях и судебных процессах. Не то чтобы презренный человек, Булгаков был просто виртуозным мастером деятельности, широко распространенной в николаевской России: шпионажа через перехват корреспонденции. Он был типичный светский репортер, и именно к нему прежняя столица обращалась за новостями из Петербурга и провинции. Лакомые кусочки новостей от директора, всегда самые последние и доступные, затем быстро распространялись в новых письмах и конфиденциальных беседах и, в конечном счете, возвращались в Петербург и в провинцию в более пикантной и острой форме. Но Булгаков был также лояльным слугой государства. Каждый раз, когда он чуял дуновение подрывной деятельности или свободомыслия в словах других, он хватался за ручку и писал подробный отчет в Третье отделение. Таким образом, этот удачливый человек совмещал страсть и обязанность.
Он имел слабость к литературе и изнемогал от любопытства при виде частной корреспонденции известных авторов. Случайный перехват одного из их писем приводил его неспокойную душу в экстаз. Он не спешил открывать такие письма; подобно опытному любовнику, он максимально оттягивал кульминационный момент. Однажды вечером в апреле 1834 года он пошел домой с письмом Пушкина его жене, не веря в собственную удачу. Он знал от общих знакомых в Петербурге, что Наталья Николаевна уехала со своей семьей в деревню, чтобы поправиться от нездоровья, последствия чрезмерно напряженного сезона балов – или, как говорили некоторые злобные сплетники, побоев мужа. Надеясь получить некоторые сочные детали этой истории, он был разочарован, но и возмущен, когда вместо этого прочел:
«Репортуюсь больным и боюсь царя встретить. Все эти праздники [18]18
Празднование совершеннолетия Александра Николаевича, царского первенца и наследника престола.
[Закрыть]просижу дома. К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен; царствие его впереди; и мне, вероятно, его не видать. Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю; от добра добра не ищут. Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тезкой; с моим тезкой я не ладил. Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибет».
Клевета на трон! Якобинские речи! Булгаков немедленно подал рапорт графу Бенкендорфу, приложив копию возмутительного письма.
Граф Александр Христофорович Бенкендорф, глава Третьего отделения его императорского величества канцелярии – обширной, вездесущей сети полицейских шпионов, влезавших в дела и речи, мысли и мечты всех российских подданных, обладал неограниченной властью, уступавшей лишь царской. Он был полицейское воплощение имперской законности, светская рука жандарма Европы, как это было освящено Венским конгрессом.
Бибиков рассказал мне рассказанное ему Бенкендорфом: однажды вбегает к нему жандарм и подает пакет, подкинутый на имя его в ворота. Распечатывает и находит письмо к государю с надписью: весьма нужное. Едет, отдает его. Государь раскрывает его, и что же находит: донос на сумасшествие Муравьева. «А в доказательство, что ваш г-н статс-секретарь истинно помешан, прилагаю у сего сочинение его». Государь говорит: «Что с этою бумагою делать? Отослать ее к Муравьеву и спросить мнение его» (Вяземский).
Пушкин называл пунш «Бенкендорфом», потому что, говаривал он, этот напиток имеет «полицейское, усмиряющее и приводящее все в порядок влияние».
Стратфорд [лорд Каннинг] прибыл в Россию по поручению английского правительства для переговоров по греческому вопросу. Он провел Пасху в Москве. Идя по Подновинской улице, он отметил, что здесь, вопреки английской традиции, полиция находится на виду повсюду. «Это неправильно, – сказал он. – Некоторые вещи требуют упаковки. Природа, если я не ошибаюсь, позаботилась скрыть кровообращение от наших глаз» (Вяземский).
Изящные манеры графа Бенкендорфа дополнялись его искрящейся беседой и безупречными манерами. Он был внимателен к красивым женщинам, к которым он чувствовал искреннюю страсть. Он был прекрасным танцором. Ничто в нем не предполагало полицейского. История может быть время от времени забавной: человек, который контролировал тысячи секретных агентов, рассеянных по всей Российской империи, чтобы «защитить угнетенных, открывать преступления и следить за людьми с криминальными наклонностями», был феноменально рассеян и забывчив.
Бенкендорф [отец графа Александра] был очень рассеян… Однажды он был на балу в чьем-то доме. Бал закончился довольно поздно, и гости разошлись. Только хозяин дома и Бенкендорф остались сидеть. Беседа не шла: они были оба утомлены и сонны… Спустя некоторое время хозяин дома наконец спросил: «Возможно, вашу карету еще не подали; хотите, я прикажу запрячь лошадей в мою?» – «Что вы подразумеваете под вашей? Я собирался предложить вам мою!»…Он думал, что был в своем собственном доме и был рассержен на гостя, который задерживался столь долго (Вяземский).
Личный секретарь графа Бенкендорфа, Павел Иванович Миллер, был культурным человеком, учившимся в Царскосельском лицее, он преклонялся перед самым знаменитым лицеистом Пушкиным. Пользуясь рассеянностью своего начальника, он часто совершал набеги на папку, отложенную для наиболее важных случаев (требовавших личного внимания царя), перемещая многие письма Пушкина, которые ложились на столы Третьего отделения, в более безопасные папки; позже, когда проходило время и он был уверен, что Бенкендорф забыл о них, он вообще забирал потихоньку эти письма. Его целью было оградить поэта от чрезмерно навязчивого внимания тайной полиции, а также и, я подозреваю, приобрести автографы, которые были бесценны – в возвышенном, отнюдь не коммерческом, смысле этого слова. Такой оказалась судьба перехваченного письма поэта к Наталье Николаевне, хотя оно не было написано рукой Пушкина. Миллер понял, что это причинит поэту серьезные неприятности. Но на сей раз Булгаков не церемонился: другие копии компрометирующего документа уже циркулировали в Петербурге. И царь знал об этом все. Василий Андреевич Жуковский, известный поэт и наставник наследника престола, смог умерить негодование Николая I. «Все успокоилось, – написал Пушкин в дневнике. – Государю неугодно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностей), – но я могу быть подданным, даже рабом, но холопом и шутом не буду и у царя небесного. Однако какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться… Что ни говори, мудрено быть самодержавным».
Князь Юсупов сообщает нам, что императрица [Екатерина] любила девиз: «Се n’est pas tout que d’être grand seigneur, il faut encore être poli» [19]19
«Быть великим еще не все, надо еще и быть вежливым» (фр.).
[Закрыть](Вяземский).
Тень царя вырисовывалась подобно настойчивому Каменному Гостю, вникающему во все, даже на пороге дома Пушкина и его спальни. Отношения Пушкина с Николаем имели долгую и сложную историю. В обществе они сердечно беседовали, обмениваясь приветствиями, шутками и мнениями относительно проблем дня; но все неприятные вопросы – ходатайства и дозволения, просьбы и отказы, выговоры и оправдания, рукописи и резкие цензорские замечания – улаживались Бенкендорфом или, в особо тонких случаях, Жуковским. Такой янусовский тон – неофициальный и дружественный, жесткий и официозный – совершенно подходил для этой странной пары, которая была связана узами более сложными, чем запечатленные российскими преданиями и демонологией. Николай I, должно быть, надеялся, что, великодушно прощая Пушкина поздним летом 1826 года, – выпуская его из ссылки и предлагая ему себя в качестве персонального цензора и защитника, – он, по крайней мере, частично исправит свой образ кровавого тирана, пославшего декабристов 1825 года в Сибирь и на виселицу. Но его великодушие и отеческая забота не были только рассчитанным притворством. Новый царь также руководствовался искренним желанием возвратить заблудшую овцу в стадо, вернуть этого талантливейшего, но импульсивного юнца, столь невосприимчивого к любой дисциплине и чересчур восприимчивого к пагубным идеям всех видов, назад, на прямой путь строгих правил. Непреклонный и эффективный исполнитель повелений истории, практичный и проницательный, с неизменной интуицией, которой обладают некоторые ограниченные умы, Николай I ощущал, что он и Пушкин будут когда-нибудь стоять лицом к лицу – главные герои вечного поединка между властью и бесправием, гнетом и волей, светским миром и священным царством поэзии. И он стремился, по крайней мере, смягчить стереотипные оттенки картины великодушными жестами. Пушкин, также недовольный банальной слащавостью холстов, которые должны были украсить стены потомков, чувствовал себя неуютно в роли тираноборца и был склонен предпочесть роль проницательного советника государя; он испытывал уважение и почтительность к человеку, пылко стремящемуся, преодолевая солдафонскую прямолинейность, проявляя храбрость и острое понятие чести, обрести ореол величия, которым не обладают по праву рождения.
В холодный зимний день, при резком ветре, Александр Павлович встречает г-жу Д., гуляющую по Английской набережной. «Как это не боитесь вы холода?» – спрашивает он ее. «А вы, государь?» – «О, я – это дело другое: я солдат». – «Как! Помилуйте, ваше величество, как! Будто вы солдат?» (Вяземский)
Чтобы кое-что из того, что он говорил, достигло ушей царя Николая, Пушкин обращался к тому же самому инструменту, который использовали против него: всевидящему оку почтовой системы. Сначала он предупредил свою жену, чтобы она была очень осторожной в письмах к нему, так как этот московский негодяй Булгаков бесстыдно совал свой нос в дела других людей и «торговал собственными дочерьми». Затем, снова в письмах к Натали, он начал длинный дистанционный диалог с царем: «Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности… невозможно: каторга не в пример лучше. Это писано не для тебя…»; «…на того я перестал сердиться, потому что toute reflexion faite, не он виноват в свинстве, его окружающем. А живя в нужнике, поневоле привыкнешь к…… и вонь его тебе не будет противна, даром что gentleman. Ух, кабы мне удрать на чистый воздух»; «…с твоего позволения, надобно будет, кажется, выйти мне в отставку и со вздохом сложить камер-юнкерский мундир, который так приятно льстил моему честолюбию и в котором, к сожалению, не успел я пощеголять».
В 1812 году граф Остерман сказал маркизу Паулуччи, если я не ошибаюсь: «Для вас Россия – мундир: вы надели его, и вы сбросите, когда будете в настроении это сделать. Для меня это – моя кожа» (Вяземский).
Пушкин был под постоянным тайным надзором, и титул камер-юнкера принес ему нового строгого опекуна: графа Юлия Литту, старшего обер-камергера при дворе Романовых. Когда поэт был вызван к нему 15 апреля 1834 года, он сразу понял, что заслужил выговор: подобно многим камергерам и камер-юнкерам, он не сумел появиться на Пасхальных религиозных службах, к разочарованию царя и тревоге графа Литты. Последний поделился своим искренним негодованием с графом Кириллом Александровичем Нарышкиным: «Но, наконец, есть же определенные правила (règies) для камергеров и камер-юнкеров». На что Нарышкин – человек, известный своим сарказмом, – ответил: «О, я думал, только у фрейлин есть regies [месячные]». Но Пушкин не появлялся и перед Литтой. Вместо этого он послал прошение, умоляя еще об одном одолжении.
В Москве один шутник перевел «le bien-être générale en Russie» как «хорошо быть генералом в России» (Вяземский).
Пушкин боялся насмешки больше, чем холеры, счетов или дьявола. Он всегда отвечал ударом на удар, всегда был начеку, возвращая затрещины и оскорбления, двусмысленности и насмешки. Великому князю Михаилу Павловичу, который поздравил его с назначением камер-юнкером, он ответил: «Покорнейше благодарю, ваше высочество. До сих пор все надо мною смеялись. Вы первый меня поздравили». Этот острый ответный удар, подобно всему остальному, когда-либо им сказанному, быстро облетел все салоны. Предложение, начинающееся: «Пушкин сказал…», всегда обещало острый сарказм и ядовитое торжество. Он вновь побеждал, хотя бы с небольшим отрывом. Но был исполнен бессильным гневом и желчью. В июне 1834 года он написал жене (хотя говорил главным образом с собой, подтверждая наличие червоточины, которая гложет его): «Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать как им угодно. Опала легче презрения».
Он сообщил царю о своем желании уйти в отставку, переехать в деревню, надеясь в то же время на новый жест великодушия – разрешение продолжить исследование по истории Петра Великого в Государственном архиве. Николай отказал. Царь сказал Жуковскому: «Я никогда не удерживаю никого и дам ему отставку. Но в таком случае всё между нами кончено», и Бенкендорфу: «Я ему прощаю, но позовите его, чтобы еще раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения, и чем все это может кончиться; то, что может быть простительно 20-летнему безумцу, не может применяться к человеку 35-ти лет, мужу и отцу семейства».
«Все между нами кончено». Это звучит подобно словам сердитого отца или уязвленного любовника. Поэт и царь были действительно странной парой, один вспыльчивее другого. Благосклонность государя не один раз принимала форму финансовых субсидий (хотя и несопоставимых с подарками, расточаемыми высокопоставленным просителям и интриганам, конечно; это был, в конце концов, всего лишь поэт), а теперь Пушкин лишался простора как раз там, где мог бы многого достичь, ему закрывали единственный путь к спасению от огромных расходов, налагаемых Петербургом и двором, от его полной неспособности управлять временем и деньгами, от его долгов и от трагического крушения всех его наивных мечтаний о быстром обогащении. Благодарность Пушкина («Я предпочитаю казаться непоследовательным, чем неблагодарным») и его верность своему слову (в сентябре 1826 года он обещал царю, что навсегда закончит свою вражду с режимом) привели его к постоянному циклу: нетерпение и стремительность, ошибочные шаги и яростные вспышки гордости, всегда сопровождаемые унизительными извинениями и актами смиренного раскаяния.
На одном из придворных собраний императрица Екатерина обходила гостей и к каждому обращала приветливое слово. Между присутствующими находился старый моряк. По рассеянию случилось, что, проходя мимо его, императрица три раза сказала ему: «Кажется, сегодня холодно». – «Нет, матушка, ваше величество, сегодня довольно тепло», – отвечал он каждый раз. «Уж воля ее величества, – сказал он соседу своему, – а я на правду черт» (Вяземский).
Пушкин в шутку объявил новое кредо тридцатилетнего возраста: «Мой идеал теперь – хозяйка, / Мои желания – покой, / Да щей горшок, да сам большой». Осенью 1830 года, запертый в маленьком деревенском имении Болдино карантинными зонами, призванными остановить распространение холеры в южную Россию, оторванный от мира, мечущийся между воспоминаниями и предчувствиями, он старательно выполнил ритуал прощания – прощания навсегда с Евгением Онегиным, его любимым ребенком, прощания со своей громкой славой национального мятежника и прощания со своей беспорядочной, бурной, беспутной, кочевой, напряженной жизнью. Он женился и отказался от трудного пути бесконечного мятежа в пользу более гладкого, более прозаического, по которому путешествовали многие. «II n’est pas de bonheur que dans les voles communes», – с усмешкой сказал он, цитируя Шатобриана. «Счастье можно найти только на проторенных дорогах». Все же мерцающая завеса игривости скрыла смутную путаницу предчувствий, предвидений, потрясений. За улыбкой Пушкина таилась усталость: есть времена, когда поэты – избранные, проклятые – стремятся к тому, чтобы стереть высокий, но все же ужасный знак, которым они отмечены. Был страх: есть времена, когда поэты слышат в самых обычных звуках ночи – в Болдине шелестели тополя, бегали невидимые полевые мыши, скрипели половицы ветхого деревянного дома, и утомительно тикали древние часы дедушки – темный поворот судьбы, ее зловещий глас. И когда приходят эти времена, они выбирают (будучи также проницательными) послушное повиновение закону и табу; они объявляют себя побежденными. Нет больше желания мериться силами с враждебной судьбой. Пушкин теперь успокоился, отбросил одежды странного, резкого поэта и присоединился к кроткой безвестной толпе обычных смертных. Он спешил сообщить друзьям и знакомым о своей метаморфозе: «Я мещанин, я просто русский мещанин». «Fait est que je suis bonhomme et que je ne demande pas mieux que d’engraisser et d’кtre heureux – I’un est plus facile que l’autre» [20]20
«Дело в том, что я человек средней руки, и ничего не имею против того, чтобы прибавлять жиру и быть счастливым, – первое легче второго» (фр.).
[Закрыть].
Он устраивался в Царском Селе со своей восхитительной юной женой и успел прибавить только пару фунтов, когда был поражен бичом холеры во второй раз. Годом ранее, в Болдино, эта болезнь предоставила ему наиболее производительный период его творческой жизни – наряду с мучительным беспокойством и паникой заточения. Но теперь, злонамеренно и злобно, она разбила его надежды на спокойную буржуазную жизнь в сени его любимого лицея.
При первом появлении холеры в Москве один подмосковный священник, впрочем, благоразумный и далеко не безграмотный, говорил: «Воля ваша, а по моему мнению, эта холера не что иное, как повторение 14 декабря [1825, дата восстания декабристов]». (Вяземский)
10 июля 1831 года двор прибыл в Царское Село, скрываясь от эпидемии и от народных волнений. Говорят, что когда императорская пара прогуливалась по улицам, они были приятно поражены очарованием Натали и тем, как необычно послушно держался Пушкин рядом со своей очень молодой женой. Активность госпожи Загряжской и хорошие отзывы Жуковского, восторженного «учителя, побежденного своим учеником», сделали остальное: в конце 1831 года поэт повторно поступил на государственную службу с ежегодным жалованьем 5000 рублей в ранге титулярного советника. Формально приписанный к министерству иностранных дел, он фактически работал над историей Петра Великого. Он переехал в Петербург, а там цены были высоки. Он пробовал помогать своим родителям, взяв на себя тягостное управление Михайловским, и запутался в семейных распрях. Вдохновение надолго оставило его. Он был в восторге от своей новой исторической работы, но трудоемкое исследование требовало времени и, конечно, не могло сделать его богаче. Его «История Пугачевского бунта», изданная в 1834 году, была продана едва ли в количестве тысячи экземпляров. Цензоры – царь лично, а также другие унылые стражи литературной непогрешимости – расставляли на его пути бесчисленные препятствия, задерживая и иногда запрещая публиковать то, что он написал. Он пробовал удачи в картах и проиграл, как это всегда случается с игроками, отягощенными нуждой. Покой и счастье продолжали скользить сквозь пальцы подобно извивающимся змеям. Последней каплей стал камер-юнкерский шутовской мундир – невыносимое оскорбление в его возрасте, при его известности и беспредельной гордости. Вяземский был совершенно прав, когда сказал: «Несмотря на мою дружбу к нему, я не буду скрывать, что он был тщеславен и суетен. Ключ камергера был бы отличием, которое бы он оценил…»








