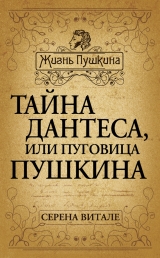
Текст книги "Тайна Дантеса, или Пуговица Пушкина"
Автор книги: Серена Витале
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
«Ты радуешься, что за тобою, как за сучкой, бегают кобели, подняв хвост трубочкой и понюхивая тебе з……; есть чему радоваться!., легко за собою приучить бегать холостых шаромыжников; стоит разгласить, что-де я большая охотница. Вот вся тайна кокетства. Было бы корыто, а свиньи будут. К чему тебе принимать мужчин, которые за тобою ухаживают? не знаешь, на кого нападешь. Прочти басню А. Измайлова о Фоме и Кузьме. Фома накормил Кузьму икрой и селедкой. Кузьма стал просить пить, а Фома не дал. Кузьма и прибил Фому как каналью. Из этого поэт выводит следующее нравоучение: красавицы! не кормите селедкой, если не хотите пить давать; не то можете наскочить на Кузьму. Видишь ли? Прошу, чтоб у меня не было этих академических завтраков. Теперь, мой ангел, целую тебя как ни в чем не бывало; и благодарю за то, что ты подробно и откровенно описываешь мне свою беспутную жизнь. Гуляй, женка; только не загуливайся и меня не забывай. Мочи нет, хочется увидать тебя причесанную а lа Ninon; ты должна быть чудо как мила. Как ты прежде об этой старой к…. не подумала и не переняла у ней ее прическу? Опиши мне свое появление на балах, которые, как ты пишешь, вероятно, уже открылись».
В следующем письме он извинялся за свою несдержанность, но все же напомнил ей:
«Нинон, у которой переняла ты прическу, говорила: «На сердце каждого мужчины выгравировано: самой доступной»… Подумай об этом хорошенько и не беспокой меня напрасно… К хлопотам, неразлучным с жизнию мужчины, не прибавляй беспокойств семейственных, ревности etc, etc».
Долли Фикельмон, 12 ноября 1831 года:
«Поэтическая красота госпожи Пушкиной проникает до самого моего сердца. Есть что-то воздушное и трогательное во всем ее облике – эта женщина не будет счастлива, я в этом уверена! Она носит на челе печать страдания. Сейчас ей все улыбается, она совершенно счастлива, и жизнь открывается перед ней блестящая и радостная, а между тем голова ее склоняется, и весь ее облик как будто говорит: «я страдаю». Но и какую же трудную предстоит ей нести судьбу – быть женою поэта, и такого поэта, как Пушкин».
В Петербурге Натали была приглашена ко двору и допущена в элитный кружок, созываемый в Аничковом дворце, частном особняке на Невском проспекте, где императрица давала волю своей страсти к танцам. Осенью 1835 года Александрина и Екатерина Гончаровы переехали к Натали и ее мужу; и сестер тоже нужно было вывозить в свет и выставлять на брачный аукцион. Каждый день бал, раут (торжественный прием без танцев), пьеса, концерт или собрание друзей. Кто-то пожаловался, что Наталья Николаевна по вечерам не бывает дома. Этот стиль жизни утомлял Пушкина. Когда ему случалось не сопровождать жену, он поручал ее мягкой опеке престарелой госпожи Загряжской, тетки Натали, пользовавшейся большим уважением при дворе и хорошо разбиравшейся в светской жизни. Но и в таких случаях он чувствовал себя беспокойно:
«С тех пор, как я тебя оставил, мне все что-то страшно за тебя. Дома ты не усидишь, поедешь во дворец, и того и гляди, выкинешь на сто пятой ступени комендантской лестницы… смотри, не брюхата ли ты, а в таком случае береги себя на первых порах. Верхом не езди, а кокетничай как-нибудь иначе… не забудь, что уж у тебя двое детей, третьего выкинула, береги себя, будь осторожна; пляши умеренно, гуляй понемножку… Женщина, говорит Гальяни, есть животное, по природе своей слабое и болезненное. Какие же вы помощницы или работницы? Вы работаете только ножками на балах и помогаете мужьям мотать».
Он впервые заметил ее в 1828 году в Москве на балу у танцмейстера Иогеля – и свободолюбивое сердце Пушкина забилось как никогда прежде. «Tour, battement, jete, reverence», – командовал Иогель, и Натали безупречно выполняла каждое движение, почти механически, как прекрасная заводная кукла.
Софи Бобринская, 3 сентября 1832 года:
«Жена Пушкина, поэта, без сомнения, была самой красивой женщиной на вечере. Она похожа на Музу, на рафаэлевскую Ору. Вяземский сказал мне: «Эта Пушкина как поэма, что делает другую (графиню Эмилию Карловну Мусину-Пушкину) похожей на словарь».
«Кокетничать я тебе не мешаю, – писал Пушкин, – но требую от тебя холодности, благопристойности, важности». Пушкин был встревожен и удручен холодностью другого рода «в маленькой Гончаровой» – таинственной апатией, холодной вялостью – в те дни, когда он боролся с многочисленными практическими трудностями, стоявшими на пути к женитьбе, и своими собственными мучившими его сомнениями. Он писал своей будущей теще: «Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери; я могу надеяться возбудить со временем ее привязанность, но ничем не могу ей понравиться. Если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца». Он был более искренним, чем этого требовали обстоятельства или этикет. Он чувствовал, он догадывался, и его проницательность была поразительна: «Бог мне свидетель, что я готов умереть за нее, но умереть для того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, вольной на другой день выбрать себе нового мужа, – эта мысль для меня – ад».
Долли Фикельмон, 15 сентября 1832 года:
«Госпожа Пушкина, жена поэта, пользуется самым большим успехом, невозможно ни быть прекраснее, ни иметь более поэтическую внешность, а между тем, у нее не много ума и даже, кажется, мало воображения».
Она была великолепной горькой тайной, совершенно свободной от страстей – и Пушкин желал ее только для себя одного любой ценой. Во время свадебной церемонии упали крест и кольцо, потухла свеча. «Все плохие предзнаменования», – воскликнул суеверный жених. Но мрачные авгуры утонули в ощущении счастья. Он стал нежным, но требовательным мужем, пытаясь привить Натали королевскую грацию отстраненности и самоконтроля, изменить холодок равнодушия в намеренную холодность, надменную сдержанность, ледяную башню вне досягаемости простых смертных.
Однажды ему это удалось, с Татьяной Лариной, страстной и дикой, живущей в забытом Богом уголке провинциальной России, во второй главе Евгения Онегина, а в восьмой, трансформированной им, по примеру Пигмалиона, в «верный снимок du comme it faut». Будучи замужем за генералом, который был гораздо старше ее и которого она не любит, бывшая деревенская девочка, а теперь гранд-дама, проплывает через залы, провожаемая восхищенными взглядами; она никогда не торопится, никогда громко не разговаривает, никогда не смотрит гостям в глаза, не жеманничает, не выставляет себя напоказ, не хвастается успехами и не флиртует – «Никто бы в ней найти не мог / Того, что модой самовластной / В высоком лондонском кругу / Зовется vulgar». Эта идеальная женщина отражает зрелость Музы Пушкина: холодная, отстраненная в своей неяркой прелести дочь вечного севера души. Но чудеса поэзии не так легко перенести в реальную жизнь. При всем желании мы не можем обвинять, ненавидеть или презирать Натали за то, что она не смогла соответствовать этому требуемому образцу, этому поэтическому, никогда реально не существовавшему образу.
Долли Фикельмон, 22 ноября 1832 года:
«Самой красивой вчера была, однако ж, Пушкина, которую мы прозвали поэтической, как из-за ее мужа, так и из-за ее небесной и несравненной красоты. Это – образ, перед которым можно оставаться часами, как перед совершеннейшим созданием Творца».
Между мазурками и котильонами Наталья Николаевна вела жизнь всех русских женщин ее класса: рожала детей, руководила слугами, выбирала дачи на лето, примеряла наряды в ателье мадам Сихлер и месье Дюрье, писала своему брату Дмитрию с просьбой дать денег на «прелестное модное ландо» или бумагу, необходимую ее мужу для его издательских дел. Она пыталась ускорить ход судебного разбирательства ее деда против его бывшего управляющего, изо всех сил старалась способствовать замужеству сестер, делала что могла, чтобы сбалансировать семейный бюджет, в котором часто образовывались прорехи, спорила о деньгах с издателями и книготорговцами и помогала Пушкину, как могла. И все же трудно представить ее во всех этих ролях или в этих костюмах – а лучше сказать, это можно сделать, но будет казаться, что тогда она выступит из картинной рамы или спустится со своего мраморного пьедестала. «Наталья Николаевна, в ожидании экипажа, стояла, прислонясь к колонне у входа, а военная молодежь, преимущественно из кавалергардов, окружала ее, рассыпаясь в любезностях. Несколько в сторону, около другой колонны, стоял в задумчивости Пушкин, не принимая ни малейшего участия в этом разговоре». Как скульптурная группа художника средней руки девятнадцатого века: беззаботная Красота и зрелое Размышление. Даже после смерти мужа Наталье Николаевне не удалось избежать судьбы статуи. В своем письме к Софии Бобринской императрица оплакивала образ этой «молодой женщины возле гроба, как ангел смерти, бледной, как мрамор, обвиняющей себя в этой кровавой кончине».
Все, что у нас есть из того, что Натали писала Пушкину, – это короткий постскриптум, который она добавила к письму своей матери: «С трудом я решилась написать тебе, так как мне нечего сказать тебе и все свои новости я сообщила тебе с оказией, бывшей на этих днях. Даже мама едва не отложила свое письмо до следующей почты, но побоялась, что ты будешь несколько беспокоиться, оставаясь некоторое время без известий от нас; это заставило ее побороть сон и усталость, которые одолевают и ее и меня, так как мы целый день были на воздухе. Из письма мамы ты увидишь, что мы все чувствуем себя очень хорошо, оттого я ничего не пишу тебе на этот счет; кончаю письмо, нежно тебя целуя, я намереваюсь написать тебе побольше при первой возможности. Итак, прощай, будь здоров и не забывай нас».
Вспоминается строчка Дантеса, написанная Якобу ван Геккерену: «Скажи папе и сестрам, что я не пишу, потому что мне нечего им сказать, что ты расскажешь им все, что я мог бы написать, только гораздо лучше».
Курсив мой, поскольку я считаю, что причина того, что произошло, кроется за этими идентичными «нечего» – и не только «сказать».
Про Наталью Николаевну говорили, что у нее «âmе de dentelles». Кружевная душа.
Когда умер Пушкин, она, двадцати четырех лет от роду, была матерью четверых детей.
Высоты Сиона
1 февраля 1836 года Пушкин пошел к ростовщику по фамилии Шишкин и заложил одну из шалей Натальи Николаевны – белую кашемировую, с длинной бахромой. Он получил за нее 1250 рублей.
Масленица 1836 года началась зловеще. Целыми днями по улицам столицы бродил монах, предупреждая православных, что на них найдут чума и другие ужасы, если они будут предаваться привычному пьяному разгулу и разврату. Никто его не слушал. 2 февраля, в первый день недельных праздников, торжественная, спокойная и самодовольная надменность города Петра была потрясена событием, достойным Брейгеля. Толпы гуляк вылились на улицы, спотыкаясь и скользя по неровному льду замерзшей Невы и заполняя Адмиралтейскую площадь, превратившуюся в огромную праздничную площадку с балаганами, в которых выступали фокусники, жонглеры, акробаты, дрессировщики, актеры и балалаечники. Но веселье продолжалось всего несколько часов, потому что в этот день страшная катастрофа повергла Северную Пальмиру в траур. Шатер мага Лемана загорелся и за считаные минуты превратился в груду пепла. Это была большая палатка на гуттаперчевых столбах, и все это стало хорошей пищей для внезапно вспыхнувшего пламени. Сотни людей погибли в ужасном огне, еще больше получили серьезные ранения. Сам царь кинулся на место происшествия и лично помогал ставить людей к насосам, подвергая свою священную особу риску и опалив одежду. В девять часов вечера посланный от Николая I объявил в Дворянском собрании, что Его Величество не представляет, чтобы кто-то мог танцевать после такого страшного события. Но бал уже начался, и его невозможно было отменить или отложить. Собранные тут же деньги в сумме 10 000 рублей пошли на лечение раненых и в помощь семьям погибших. Затем танцы начались снова, но веселье было омрачено. Адмиралтейская катастрофа дала новое направление салонным разговорам, до этого крутившимся вокруг последней бравады Пушкина: его оды «На выздоровление Лукулла» – острой сатиры на императорского министра, увеличившей и без того уже глубокую пропасть, разделяющую поэта и власти, бюрократический Петербург в самом его реакционном проявлении. Но слезы и стоны в салонах мгновенно прекратились по прибытии из Москвы прелестной Александры Васильевны Киреевой, которая поразила всех и направила разговоры в обычное легкомысленное русло: красивее ли она, чем Завадовская, Соллогуб, Урусова-Радзивилл, Мусина-Пушкина или Шернваль? Может ли ее классическая красота соперничать с романтическим очарованием Натальи Николаевны Пушкиной? Многие считали, что не может, и Петербург танцевал вновь, от первых часов пополудни до рассвета, до folle journee 9 февраля, когда измученные участники заполнили церкви – шло великопостное богослужение.
Те, кто видел Пушкина в начале февраля, описывают его настроение как «отвратительное». Он был мрачным, злым и раздражительным, настроенным предаваться гневу по поводу воображаемых нападок на его доброе имя; реальные обиды непропорционально преувеличивались его вспыльчивостью. Всего за несколько дней он трижды был на грани дуэлей – на словах, в действиях и мыслях. Он повел себя грубо по отношению к Семену Хлюстину, гостю, который, не подумав, упомянул об оскорбительных грязных выпадах против поэта, опубликованных в журнале «Библиотека для чтения». «Мне всего досаднее, когда порядочные люди повторяют нелепости свиней и мерзавцев, – заметил Пушкин и закончил угрожающей фразой: – Это слишком! Это так не кончится». Только деликатное посредничество Сергея Соболевского, поспешно вызванного в качестве секунданта, смогло предотвратить неизбежную дуэль.
Примерно в то же время Пушкин получил письмо от Владимира Соллогуба, знакомого молодого человека из Твери. В нем Соллогуб после долгого и необъяснимого молчания приносил извинения за нелепое недоразумение, которое произошло между ними несколькими месяцами ранее, но объявлял, что он в распоряжении поэта, если это понадобится, и что он даже почтет для себя лестным быть его противником на дуэли. Пушкин коротко отверг «это никогда не требуемое объяснение» и отложил исполнение долга чести до конца марта, когда он будет проездом в Твери. И, наконец, 5 февраля, узнав, что человек сомнительной репутации распускает о нем нелестные слухи, приписывая их князю Николаю Григорьевичу Репнину, Пушкин написал Репнину следующее: «Как дворянин и отец семейства я должен блюсти мою честь и имя, которое оставлю моим детям… Прошу ваше сиятельство не отказать сообщить мне, как я должен поступить…» Спокойный ответ Репнина предотвратил самое худшее. Долги, утомительные переговоры с цензорами, грязные атаки газетных писак, буря, вызванная «Лукуллом» – даже всего этого недостаточно, чтобы объяснить это неконтролируемое желание поэта свести счеты с целым светом.
Пушкин набросал несколько цифр на черновике письма к Владимиру Соллогубу: 2500 х 25 = 62 500. Это были 62 500 рублей (2500 подписчиков по 25 рублей), которые он надеялся ежегодно получать от «Современника» – журнала, который наконец прошел через Цензурный комитет. Он, однако, забыл вычесть расходы и учесть колебания читательского вкуса.
С первыми лучами рассвета 5 февраля императрица потеряла дитя, которое она носила: не обратив внимание на тревожные знаки, она, по-видимому, слишком увлеклась танцами. По этой причине она не смогла посетить первый гранд-бал, данный в Петербурге князем Джорджем Вильдингом ди Бутера и Ридали этим вечером. Англичанин, чей экзотический титул он получил от своей жены, сицилийской аристократки, умершей молодой, праздновал не только рождение принца-наследника королевской фамилии обеих Сицилий, но и свое назначение на должность посланника Неаполя при дворе Романовых, а также свою недавнюю женитьбу на Варваре Петровне Полье, сказочно богатой женщине, уже дважды вдове. Варвара Полье была урожденная княжна Шаховская, и ее семья долго противилась этому новому браку, мезальянсу с иностранцем, который тем самым мог бы лишить Россию одного из самых значительных состояний [7]7
Если он действительно был охотником за титулом и состоянием, как подозревали некоторые, тогда князю Бутера точно не повезло, потому что он беспричинно умер в 1841 году, оставив незатихающую боль в сердце своей жены и огромные имения в России, равные по величине четырем Сицилиям.
[Закрыть]. Торопясь в дом Бутера, чтобы отпраздновать счастливое окончание этого непростого любовного приключения, долгое время державшегося в секрете, свет Петербурга обнаружил еще одну душещипательную и запретную идиллию – и здесь тоже действующим лицом был иностранец, которого звали Жорж. Фрейлина Мария Мердер изложила свежие впечатления этого вечера в своем дневнике:
«На лестнице рядами стояли лакеи в богатых ливреях. Редчайшие цветы наполняли воздух нежным благоуханием. Роскошь необыкновенная! Поднявшись наверх, мы очутились в великолепном саду – пред нами анфилада салонов, утопающих в цветах и зелени. В обширных апартаментах раздавались упоительные звуки музыки невидимого оркестра. Совершенно волшебный, очарованный замок. Большая зала с ее беломраморными стенами, украшенными золотом, представлялась храмом огня – она пылала. В толпе я заметила Дантеса, но он меня не видел. Возможно, впрочем, что просто ему было не до того. Мне показалось, что глаза его выражали тревогу– он искал кого-то взглядом и, внезапно устремившись к одной из дверей, исчез в соседней зале. Чрез минуту он появился вновь, но уже под руку с госпожою Пушкиной. До моего слуха долетело: «Уехать – думаете ли вы об этом – я не верю этому– это не ваше намерение»… Выражение, с которым произнесены эти слова, не оставляло сомнения насчет правильности наблюдений, сделанных мною ранее, – они безумно влюблены друг в друга! Пробыв на балу не более получаса, мы направились к выходу: барон танцевал мазурку с г-жою Пушкиной – как счастливы они казались в эту минуту!»
Дантес – Геккерену,
Петербург, 14 февраля 1836 года
«Карнавал закончился, мой дорогой друг, а с ним и часть моих мучений, поскольку я искренне верю, что мне легче, когда я не вижу ее каждый день, и теперь любой не может подойти и взять ее за руку, держать ее за талию и говорить с ней так, как это делаю я, даже лучше меня, ведь их сознание яснее. Это глупо и даже похоже на ревность – то, во что я никогда бы не поверил, – но я был в состоянии постоянного раздражения, делавшего меня несчастным. Когда я видел ее в последний раз, между нами произошло объяснение, которое было ужасно, но принесло пользу; эта женщина, которую едва ли принято считать умной, я не знаю, может быть, такой ее сделала любовь, но невозможно было вложить больше такта, грации, ума, как сделала это она в разговоре, и это было трудно перенести, поскольку речь шла ни больше ни меньше как о том, чтобы отвергнуть человека, которого она любит и который обожает ее, о нарушении своих обязанностей ради него: она описала свое положение с таким чувством и просила о сострадании с такой искренностью, что я был потрясен и не мог найти слов, чтобы ответить ей; если бы ты знал, как она утешала меня, ведь она прекрасно знала, что я в отчаянии и мое положение ужасно, и когда она сказала мне: «Я люблю вас, как никогда не любила, но никогда не просите у меня более моего сердца, поскольку остальное мне не принадлежит, я могу быть счастлива, только честно выполняя свои обязанности, пожалейте меня и любите меня всегда как теперь, и моя любовь будет вам наградой», – о, думаю, если бы я был один, я бы бросился к ее ногам и целовал их, и уверяю тебя, моя любовь к ней с тех пор еще выросла; но она уже не та, я боготворю и чту ее, как боготворят и чтут существо, которому посвятили всю жизнь.
Прости меня, дорогой друг, если я начинаю письмо с рассказа о ней, но я и она – одно; говорить о ней – то же, что говорить о себе, а во всех своих письмах ты упрекаешь меня за то, что я не останавливаюсь на этом предмете дольше… как я говорил тебе раньше, мне гораздо лучше, и, благодарение Богу, я опять начинаю дышать, поскольку мои страдания были невыносимыми: веселиться и смеяться на виду у всех, перед людьми, которые каждый день меня видели, в то время, когда смерть была в моем сердце – такого ужасного состояния я не пожелал бы и злейшему врагу; хотя я думаю, что это стоит тех слов, которые она мне сказала, я думаю, я передам их тебе, поскольку ты единственное существо, способное сравниться с ней в моем сердце, поскольку, когда я не думаю о ней, я думаю о тебе, но не ревнуй и не отвергай моего доверия: ты останешься навеки, меж тем как время изменит ее, и однажды ничто не будет напоминать мне о той, кого я так сильно любил, в то время как с тобой, мой дорогой, каждый новый день привязывает меня к тебе все больше и напоминает мне, что без тебя я был бы никем».
Главными персонажами «Евгения Онегина», пушкинского романа в стихах, являются одноименный герой – молодой петербургский франт, преждевременно пресытившийся жизнью, и Татьяна Ларина – девушка из небогатого провинциального дворянского семейства, меланхоличное создание, лелеющее романтические сказки, и задумчивая любительница лунного света. Их история проста. Татьяна влюбляется в Евгения. Она открывает свое сердце, написав ему о своей любви, но он отвергает ее: «Напрасны ваши совершенства, их вовсе не достоин я». Много лет спустя он снова встречает ее – полностью изменившуюся, очаровательную и недоступную королеву общества – и его неудержимо влечет к ней. Он пишет ей о своей любви, но она отвергает его. Это простой, зеркальный сюжет, простой диптих, в центре которого выгравирована абсурдная и бессмысленная смерть, которая омрачает игру зеркал дымкой грусти: вызванный на дуэль Ленским за пустяковую (хотя и циничную) обиду, Онегин принимает вызов и убивает своего молодого друга. Все это происходит с неизменной симметрией и безжалостной банальной логикой жизни. Таким образом, люди, которые, возможно, были предназначены друг для друга, оказываются разделенными, так счастье всегда приходит слишком поздно, так невидимый враг, жестокий тиран, калечит и разделяет сердца.
Но это больше, чем враг, если он доставляет людям это сильное и в то же время утонченное чувство – ностальгию по тому, что могло бы быть, но чего никогда не было – и тем самым навечно застывает в том тайнике души, где смешаны страдание и пылкий восторг; и если он придает вещам агонизирующее очарование несбывшегося – того, что не было запачкано, обесценено или испорчено жизнью. И это больше, чем тиран, если он часто с улыбкой жалеет свои жертвы, служа веселым сообщником писателя, уговаривая его продолжать наслаждаться жизнью, пользоваться ее игрушками: маленькими экипажами, наполненными фигурками в накидках и кринолинах, смехом и вздохами, гимнами и мадригалами. Пушкин и в самом деле наслаждался, рассаживая пассажиров в шумные омнибусы, смешивая огромную толпу друзей и соперников, старых и новых знакомых! И, играя в эту игру, закручивая сюжеты, одновременно и мрачные и легкомысленные, переплетенные его сообщником Случаем, он осмелился провести беспрецедентный эксперимент: поднять литературу до статуса героини (возвышенной и величественной) и заставить своих героев покинуть литературу – заставить «пародии», шаблоны из сюжетов книг, и любимых, и ненужных, – подчиняться законам жизни.
Жорж Дантес не знал, не мог знать «Евгения Онегина». И в немом изумлении он удивлялся, откуда у его возлюбленной взялись грация и ум, с которым она отказала ему во всем, кроме своего сердца. Думаю, что я знаю: в «Онегине», 8, XLVII: «Я вас люблю (к чему лукавить?), / Но я другому отдана; / Я буду век ему верна». Эти искренние и благородные слова делают Татьяну Ларину величественным символом честности и долга, «апофеозом русской женщины» [8]8
Фраза Достоевского из его эссе о Пушкине (1880 год).
[Закрыть], они пришли на помощь Наталье Николаевне в наиболее щекотливый момент ее карьеры жены, и вся история могла бы иметь счастливый конец, добродетель и поэзия могли бы восторжествовать, если бы…
Мастер недосказанного, наполненного смыслом увлекательного повествования, Пушкин покинул Татьяну и Евгения в зените боли и красоты. Спустившись в долину, мы размышляем. Увидятся ли они снова? Уступит ли она своим неудовлетворенным желаниям? Предаст ли она своего мужа? Выстрелит ли он себе в лоб? Полюбит ли другую женщину? Будут ли они счастливы? Но жизнь – жадный издатель, жаждущий новых книжных глав, которые хорошо продаются, и внезапно она выхватывает роман, который так мастерски отражает ее, выйдя из-под пера Пушкина, и пишет свое собственное продолжение, грубую прозу, стремясь оправдать ожидания публики, жаждущей сложной интриги а lа Бальзак [9]9
Александр Карамзин – брату Андрею, 16 января 1837 года: «Таким образом кончился сей роман a la Balzak, к большой досаде петербургских сплетников».
[Закрыть]. Дантес не остался недвижим «как будто громом поражен», но возвратился, не знающий усталости, атакуя вновь, используя все возможные уловки, чтобы вновь увидеть Натали, чтобы выманить у нее «да», которого он жаждал. Безутешный, он искал совета и успокоения у Геккерена:
«Теперь я думаю, что люблю ее больше, чем две недели назад. Короче, мой дорогой, это одержимость, которая никак не покинет меня, которая засыпает и просыпается со мной, – это страшное мучение. Я едва в состоянии собраться с мыслями, чтобы писать тебе, и все же это мое единственное утешение, поскольку, когда я говорю с тобой об этом, мое сердце проясняется. У меня больше причин, чем прежде, быть счастливым, поскольку мне удалось проникнуть в ее дом, но видеть ее наедине, я думаю, почти невозможно; но я непременно должен, и никакая человеческая власть мне не помешает, потому что только тогда я примирюсь с жизнью и вздохну спокойно: конечно, безумие слишком долго сражаться против злого рока, но сдаться слишком быстро было бы трусостью. Короче говоря, мой дорогой, только ты сможешь мне помочь обойти все мели, итак, скажи мне, что мне делать? Я последую твоим советам, как советам лучшего друга, поскольку я хочу излечиться к моменту твоего возвращения, чтобы не иметь другой мысли, кроме радости видеть тебя и не знать другого наслаждения, как только быть подле тебя. Я не прав, сообщая тебе все эти подробности, я знаю, они тебя расстроят, но я немного эгоистичен, поскольку ты приносишь мне облегчение. Возможно, ты простишь мне начало письма, когда увидишь, что я приберег хорошие новости напоследок, чтобы устранить привкус горечи. Меня только что произвели в поручики… Я заканчиваю мое письмо, дорогой друг, уверенный, что ты не будешь сердиться на меня за то, что я пишу так кратко, но, понимаешь, ничего не приходит на ум, кроме нее, я бы мог говорить о ней всю ночь напролет, но тебе это было бы скучно».
И опять голландский посланник пришел ему на помощь дружеским советом и суровым упреком, совсем как настоящий отец, беспокоящийся о будущем своего сына, его душевном и телесном здоровье, но и с некоторыми намеками, делающими его похожим на ревнивого любовника: а действительно ли Жорж уверен, что эта женщина лилейно чиста?
Дантес носил кольцо, в котором был миниатюрный портрет Генриха V, сына герцога Беррийского, рожденного после смерти отца, – он был надеждой французских легитимистов как наследник престола, узурпированного Луи Филиппом. Однажды на вечере у Вяземских Пушкин в шутку сказал, что Дантес носит на пальце портрет обезьяны. Кавалергард поднял руку так, чтобы все могли видеть кольцо, и ответил: «Посмотрите на эти черты, похожи ли они на господина Пушкина?»
Дантес – Геккерену,
Петербург, 6 марта 1836 года
«Мой дорогой друг, я отвечаю так поздно, потому что, мне пришлось читать и перечитывать твое письмо много раз. В нем я нашел все, что ты обещал: ободрение в моем положении; да, это верно, в человеке всегда достаточно сил преодолеть то, что он хочет преодолеть, и, Бог мне свидетель, с тех пор, как я получил это письмо, я решил принести эту женщину в жертву тебе. Это было большое решение, но твое письмо было таким милым, полным правды и такой нежной дружбы, что я не колебался ни минуты, и с этого мгновения полностью изменил свое поведение по отношению к ней: я стал избегать ее с той же старательностью, с какой прежде стремился к встречам с ней, я говорил с ней со всем равнодушием, на которое был способен, но, боюсь, если бы я не заучил все, написанное тобой, наизусть, мне бы не хватило духу… Слава Богу, я вновь получил контроль над собой, и все, что теперь осталось от непреодолимой страсти, о которой я писал во всех моих письмах, – это спокойное обожание и восхищение существом, которое заставило так сильно биться мое сердце. Теперь, когда все позади, позволь сказать тебе, что твое послание было слишком суровым и ты представил все дело слишком трагически; заставить меня поверить и сказать мне, что ты для меня ничто и что мое письмо полно угроз, было слишком суровым наказанием… Ты был столь же суров по отношению к ней, когда сказал, что она уже однажды пыталась пожертвовать своею честью для другого до меня; потому что, видишь ли, это невозможно; я верю, что существуют мужчины, потерявшие из-за нее голову, она для этого достаточно красива, но что она на это отвечала – нет: потому что она никого не любила больше меня, а в последнее время у нее не было недостатка в возможностях отдать мне все, и все же, мой дорогой – ничего, никогда! Она оказалась гораздо сильнее меня; более двадцати раз просила меня пожалеть ее, ее детей и ее будущее, и в эти мгновения была так прекрасна (какая женщина не была бы?), так что если бы она хотела быть переубежденной, то не говорила бы с таким пылом, поскольку я уже сказал тебе, она была так прекрасна, что ее можно было принять за ангела с небес; нет такого мужчины на земле, кто не помог бы ей в этот момент, так велико было уважение, которое она внушала; и она осталась чиста и может ходить с высоко поднятой головой. Никакая другая женщина не повела бы себя, как она; конечно, есть женщины, чьи губы чаще говорят о добродетели и долге, но о добродетели сердца не говорит ни одна из них; я говорю тебе это не для того, чтобы похвастаться моей жертвой, в этом смысле я твой должник навечно, но чтобы ты увидел, как ошибочно иногда судить по внешности. Еще одно: удивительно, до того, как я получил твое письмо, никто во всем мире не называл мне ее имени, не успело прийти твое письмо, в тот же вечер, когда я пошел на бал во дворец, великий князь и наследник дразнил меня ею, из чего я немедленно заключил, что люди что-то заметили во мне, но насчет нее, я уверен, ни у кого не возникло и подозрения, а я слишком ее люблю, чтобы скомпрометировать, и, как я сказал раньше, все кончено, и я надеюсь, что когда ты вернешься, ты найдешь меня основательно излечившимся… Вот еще одна история, которая наделала шуму в нашем полку. Мы должны были уволить Тизенгаузена, брата графини Паниной, и Новосильцева, офицера, только что поступившего в полк. Эти господа имели что-то вроде корпусного обеда с некоторыми офицерами от инфантерии и после того, как смертельно напились, устроили драку и обменялись выстрелами. Вместо того, чтобы на месте вышибить друг другу мозги, добрые приятели расцеловались и помирились и решили держать все дело в секрете. Но в конце концов кто-то «выпустил кота из мешка».








