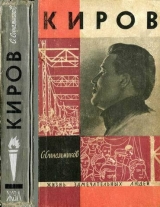
Текст книги "Киров"
Автор книги: Семен Синельников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
Что ни день, она ширилась. К ней примкнула часть железнодорожных служащих. Они у себя, в управлении Сибирской дороги, устроили химическую обструкцию: насыпали в чернильницы какой-то дряни, воздух кругом испортился, и все не соглашавшиеся бастовать поневоле пустились наутек из своих кабинетов. Врываясь в административные учреждения, стачечники забирали с собой на улицу, на загородные массовки всех охотно поддававшихся уговорам. А кое-откуда, как из Казенной палаты, чинуш выкуривали вон нестерпимые запахи химической обструкции.
Общегородская стачка, оберегаемая боевой дружиной, почти две недели держала власти в узде навязанного им благоразумия; полицейские и солдаты ни разу не открывали огня. Это была для подпольщиков дельная разведка накануне приближавшихся мощных революционных сражений.
Тогда, в июле, девятнадцатилетнего Сергея Кострикова избрали в члены Томского комитета партии.
8
Пока Сергей Костриков заведовал типографией, охранка полагала, будто он куда-то скрылся, а во время стачки обнаружила его и взяла под наблюдение.
Слежку поручили переодетому в штатское жандарму-усачу, выдававшему себя за приятеля Сергея Мироновича. По утрам, едва Сергей Костриков с Михаилом Поповым отлучатся из дому, усач поднимался на второй этаж, к Кононовой. Он донимал старушку расспросами, не подозревая, что и сам попал под наблюдение и что по его разглагольствованиям комитетчики судят об осведомленности и намерениях охранки.
Когда выуживать из него уже было нечего, Костриков и Попов спустили его с лестницы. Пересчитав крутые ступени, жандарм потерял охоту навещать Кононову.
Вскоре Сергея Мироновича неожиданно послали на станцию Тайга.
Это перемещение превратно истолковывали. После гибели Кирова не раз писали, будто он по собственной воле засел в Тайге, чтобы создать там какой-то противовес томскому меньшевистскому засилью.
Неверно это. Тайгинские железнодорожники, хотя ими и руководили большевики, никак не могли превратиться в силу, опасную для томских раскольников. Тамошних раскольников возглавляли опытные профессионалы. Они умело опирались и на примиренцев, и на незрелые слои рабочих-полупролетариев, и на многочисленную интеллигенцию, в большинстве своем вежливо порицавшую или сурово осуждавшую мерзости царизма, но отнюдь не склонную сражаться против него с оружием в руках.
Все было иначе.
Вокруг Кострикова группировались энергичные партийцы-ленинцы, Июльская стачка укрепила их позиции. Не зря на конференции, проведенной сразу после стачки, в комитет избрали Кострикова и Попова. О большевистском ядре партийной организации и его штаб-квартире узнали и за пределами Томска. Партийцы, наезжавшие в Томск из разных городов Сибири, нередко обращались за литературой, за советом и помощью туда, в штаб-квартиру у Кононовой, а не к комитетским заправилам. Идейная непоколебимость и все более заметное влияние Кострикова очень мешали меньшевикам, стремившимся безраздельно господствовать в Томском комитете РСДРП. Поэтому им хотелось удалить Кострикова, хотя бы на время избавиться от него. Подвернулся благовидный предлог: тайгинцы, готовясь к стачке, просили направить к ним агитаторов, в том числе Кострикова. Просьбу поспешили уважить, хотя в Тайге находился талантливый подпольщик Иннокентий Писарев. Вскоре услали из Томска и члена комитета Михаила Попова. Умысел очевиден – из троих большевиков-комитетчиков в городе остался один лишь доктор Броннер.
В Тайге насчитывалось около тысячи железнодорожников. Угнетаемые нуждой, непомерно растянутым рабочим днем, унижениями, штрафами, болезнями, скученностью в битком набитых казенных жилищах, тайгинцы собирались забастовать. Забастовку они хотели начать немедленно. Но Сергей Миронович вынужден был охладить их пыл.
– Рано.
Партийцы рвались из подполья, Сергей Миронович воспротивился:
– Рано.
Еще нужно было будить сознательность у движенцев, тяговиков, путейцев, у слесарей и токарей паровозного депо. Многими из них пока двигала только стихийная ненависть к начальству. Еще необузданно хозяйничали на станции полицейские и жандармы – «грачи» по-тамошнему. Еще неоткуда было ждать поддержки.
Сибирский союз РСДРП после томской конференции перестал руководить рабочим движением. Партийные организации городов и районов обширной окраины страны, предоставленные сами себе, действовали вразнобой. Выступления железнодорожников в Чите, Иркутске, Красноярске, Омске, хотя и смелые, захлебнулись из-за неодновременности, вредной очередности, ползучести. Самостийные, внезапно обрывающиеся выступления не вылились во всеобщую стачку Сибирской и Забайкальской дорог. Призыв к ней повис в воздухе. Почуяв, что социал-демократию – «крайнюю партию», как ее называли, – треплет странная лихорадка, власти взбодрили притихшую было полицию. Полиция вновь свирепствовала. В Красноярске полицейские, напав дважды подряд на безоружных рабочих, многих ранили, а двоих убили.
Оттого Сергей Миронович настораживал тайгинцев: никакой поспешности, никаких оплошностей. Парень в косоворотке минута в минуту появлялся там, где заранее было условлено: то в депо, то в пакгаузе, то на летучем собрании в доме у надежного рабочего, то в лесу, среди боевиков, будто бы собирающих дикорастущий чеснок – черемшу. Найти Сергея Мироновича мог только Писарев.
Сергей Миронович приучился есть раз в день. Наведываясь мимоходом в свое тайное пристанище, заброшенный сарай, он от случая к случаю забывался в чуткой, зыбкой дреме и затем по три-четыре дня вовсе не смыкал глаз, пошучивая, что действует круглосуточно, как железная дорога. Бывая наездами в Томске, отсыпался у родителей Михаила Попова или у Кононовой. Перекусив, уступал усталости:
– Выпускай волю на волю, Сергей.
Перенапряжение сил привело к нелепому происшествию, которое вспомнилось Кирову спустя четверть века с лишним. Тогда, в последний год жизни, он страдал неподдающейся лечению бессонницей. Однажды родные заговорили о его мучительном ночном бодрствовании. Чтобы унять их беспокойство, Киров с подробностями, от которых не покатываться со смеху было нельзя, рассказал, как осенью 1905 года опростоволосился в гостях у Поповых.
После целой недели без сна он из Тайги приехал к ним субботним вечером. Они собирались в оперу. А в квартире было натоплено, мать Михаила Попова, как обычно под воскресенье, напекла вкусных пирогов, на столе белела накрахмаленная скатерть, усыпляюще пошумывал самовар. Сергей Миронович предпочел остаться дома, хотя и был театралом. Поужинав, хозяева ушли, а он лег спать. Вернулись Поповы из театра, позвонили. Гость не откликнулся. Опять потянули ручку звонка – только колокольчик заливается. Стучали кулаками, ногами. Изнутри – ни шороха. Не на шутку перепуганные, хозяева взломали наружную дверь. Взломали и ту, что вела в комнату гостя. Он и ухом не повел, а наутро, проснувшись, удивился:
– Вчера дверь вроде бы цела была…
Когда осенью, в октябре, начиналась всеобщая политическая забастовка, к ней в Сибири присоединилась первой узловая станция Тайга. Избранный заранее стачечный комитет – стачком, выйдя из подполья, захватил власть на станции мгновенно и безраздельно. Благодаря тайно укрепленной боевой дружине он без единого выстрела овладел и полным оружия железнодорожным цейхгаузом и казенной кассой.
«Грачей» разоружили, они сбежали. Вопреки опасениям тайгинцев всюду царил порядок, хотя на станции осели восемьсот бывших уголовников – малая толика хлынувших в Сибирь поселенцев с Сахалина, южную половину которого Россия уступила Японии после окончившейся в августе войны.
А движение на железнодорожном узле не замерло. Из Маньчжурии прибывали составы, переполненные рвавшимися домой солдатами. Задерживать их было преступно. Тайгинцы, не прерывая стачки, гнали на запад гораздо больше воинских эшелонов, чем прежде. Так велел стачком. Его влияние настолько возросло, что ему во всем беспрекословно подчинялись, с ним во всем считались, к нему обращались с самыми неожиданными житейскими просьбами, семейными заботами и неурядицами.
Царский манифест, провозглашенный 17 октября, не обманул тайгинцев. Под воздействием стачкома их ответом на «свободы», обещанные царем, было единодушное: «Долой самодержавие!»
Но единодушие все-таки не успело закалиться. Поползли слухи, что со станции Боготол завезут штрейкбрехеров и что на усмирение тайгинцев двинут войска. И некоторые железнодорожники спустя сутки заколебались. Слухи были обоснованными. Навстречу солдатам, шедшим в пешем строю со станций Ижморская и Поломошная, выслали большевиков-агитаторов. В Боготол поехал на паровозе Сергей Костриков.
Он собрал всех, кого завербовали в штрейкбрехеры. Сергей Миронович говорил с ними о самом простом. О впервые введенном в Тайге восьмичасовом трудовом дне. О тайгинцах, впервые в жизни получивших накануне заработок не от чиновников, а из рук товарищей-стачкомовцев. О верующих, которые, прежде чем стать под кумачовые знамена стачки, молились в церкви. Доводы разума были сильны, а еще сильнее была просьба этого приезжего парня в распахнутом полушубке поверх косоворотки. Он мягко просил боготольцев подумать о тайгинцах, тоже имеющих жен и детей. Просил, как просят за родную мать, за отца. Враждебность толпы сникла, покоряясь, скорее всего, влюбленности парня в тех, за кого он вступился.
Все нанятые в штрейкбрехеры, все до единого, отдали всученные им задатки обратно артельщикам-вербовщикам.
Стачка в Тайге прошла с большим успехом.
А Сергей Миронович возвратился в Томск – там свершилось страшное злодеяние. По наущению губернатора Азанчевского-Азанчеева и епископа Макария черносотенцы под охраной войск 20 октября окружили и подожгли управление Сибирской дороги, где, кроме служащих, находилось множество рабочих-железнодорожников и жен их, пришедших и съехавшихся с линии за получкой. От огромного трехэтажного здания остались одни стены. Кто не погиб в огне, тех вылавливали, убивали, увечили.
Томск словно оцепенел в смятении и страхе. Оцепенел на долгие недели.
9
Сергей Миронович восстанавливал томскую боевую дружину, почти что распавшуюся по вине меньшевиков: Смирнова-Авессалома еще летом перевели в другой город. Боевики раздобыли винтовки и карабины. Наладили изготовление бомб. Обучали стрелков и бомбометателей. Обучали «десятских» по военным уставам. Боевая дружина становилась грозной силой. Полиция и жандармы вновь Трусили перед ней.
Струсили и черносотенцы. Они вздумали было провести манифестацию и скликали всех подонков. Большевики потребовали отмены манифестации, предупреждая погромщиков, что на этот раз они не уцелеют.
Черносотенную манифестацию отменили.
Влияние большевиков, вышедших из подполья, усиливалось. Ленинская идея вооруженного восстания нашла отклик и среди тех тружеников, которые раньше далеки были от политики и которым открыла глаза лживость царского манифеста, давшего свободу лишь черной сотне. Томичи жертвовали деньги на покупку оружия, приносили в дар золотые часы, кольца, серьги. Но меньшевики в партийном комитете упорно противились покупке оружия. Они хитрили, лгали, увиливали от вооруженной борьбы, срывали подготовку к восстанию. Вспоминая о том, Сергей Миронович говорил спустя много лет:
– Я прекрасно помню собрания, когда мы в количестве пяти-семи человек обсуждали вопрос о необходимости немедленного свержения царского самодержавия. И вот во время обсуждения этого сугубо важного вопроса у нас моментально обнаруживался какой-то разнобой, и, вместо того чтобы пойти на фабрику, завод, прийти к рабочим и рассказать им о нашей программе действий, мы сейчас же набрасывались друг на друга, не находя общего языка в основных вопросах революционной борьбы… Опыт 1905 года прекрасным образом проэкзаменовал нас, доказал всю вредность нашего незаконного сожительства… Мы поняли, что нужно провести резкую грань между нами и правым крылом нашей партии…
Схватки между большевиками и меньшевиками в Томском комитете РСДРП не затихали. А общая обстановка в стране ухудшалась. Восстания и забастовки в крупных центрах были сломлены. На расправу с революционерами правительство бросило военщину.
В Сибири было объявлено военное положение. Вдоль железной дороги неистовствовали две карательные экспедиции. Их двинули туда по приказу царя и его дяди-тезки, которого он звал Николашей. В одном из личных писем царь похвалялся:
«Николаше пришла отличная мысль, которую он предложил, – из России послан Меллер-Закомельский с войсками, жандармами и пулеметами в Сибирь до Иркутска, а из Харбина Ренненкампф, ему навстречу. Обоим поручено восстановить порядок на станциях и в городах, хватать всех бунтовщиков и наказывать их, не стесняясь строгостью».
Каратели всюду хватали беззащитных людей, зачастую без всякого повода избивали их, калечили. Десятки рабочих, профессиональных революционеров были расстреляны без суда и следствия. Расстреливали в депо, на станционных перронах, у водокачек. В городах шли повальные аресты.
Некоторое время Сергею Мироновичу удавалось скрываться. Он заведовал типографией и должен был поехать в Петербург и Москву за печатными машинами. Но 30 января 1906 года его арестовали: он попал в засаду на квартире у комитетского казначея. Сергей Костриков был очень нужен партийной организации, и товарищи в апреле добились освобождения его до суда, под крупный залог. Деньги внесли через частное лицо.
Сергей Миронович принялся устраивать побег семерым партийцам, остававшимся в тюрьме. Им передали пару сапог, в подошвы которых заделали дюжину ножовочных пилок.
Арестованные подпилили оконную решетку. Дождливой ночью они проникли в тюремный двор. Приставили к каменной стене плаху, загодя спрятанную близ покойницкой, и одолели стену. Около тюрьмы рос мелкий березняк, переходивший в густолесье, где бежавших ожидали Сергей Миронович, Николай Дробышев и другие партийцы. Но бежавшие заблудились, и двоих из них жандармы поймали утром.
Пятеро ускользнули от преследователей. Среди них, к слову, был подпольщик Иван Федорович Серебренников. Он благополучно пришел на явочную квартиру, к зубному врачу Надежде Германовне Блюмберг. И тут случилось неожиданное – Иван Федорович влюбился в Надежду Германовну. Вскоре они, поженившись, переселились во Владикавказ, где Иван Серебренников служил секретарем городской управы. Ровно через три года, когда Сергею Мироновичу пришлось бежать из Сибири, его гостеприимно приняла во Владикавказе чета Серебренниковых.
Томские партийные типографии, созданные в разгар революции, полиция раскрыла. Сергей Миронович посоветовал соорудить крупную типографию – подпольную в буквальном смысле слова, подземную. Партийный комитет купил дом на окраинной Аполлинариевской улице. Новым домовладельцем числился городской врач Грацианов, сочувствовавший революционному движению, а впоследствии скатившийся в белогвардейский лагерь и ставший членом правительства у Колчака. Оформив купчую, Грацианов сдал дом в аренду иркутской мещанке Газиной.
Под фамилией Газиной скрывалась профессиональная революционерка Августа Александровна Кузнецова, землячка Кирова, уроженка Глазова Вятской губернии. Ее знал Владимир Ильич Ленин, ценила Надежда Константиновна Крупская, вместе с которой Августа Кузнецова в эмиграции несколько лет занималась шифрованием партийной переписки. Возвратившись на родину, Кузнецова была арестована в Киеве, сослана в Якутию, бежала, скиталась и в 1904 году надолго осела в Томске. Кузнецова много сил отдавала материнским заботам о благополучии и безопасности партийцев.
Шифры, явки, секретные письма, фальшивые паспорта, побеги, тайная перевозка литературы, нелегальные типографии – все это сосредоточилось в руках Августы Александровны. И действовала она в полушаге от полицейских, жандармов, сыщиков. Но ни полицейским, ни жандармам, ни сыщикам не удалось ни арестовать ее, ни хотя бы проведать, что именно Кузнецову разыскивали по всей России еще как Александру Николаевну Газину да еще как некую Ольгу Константиновну, бесфамильную подпольщицу, неуловимую подобно призраку. Ольга Константиновна – это было основное партийное прозвище Кузнецовой.
Школу конспирации прошли у нее сотни партийцев, в том числе Киров и Валериан Владимирович Куйбышев. После первой русской революции неизбывное горе Августе Александровне принесли углубившиеся до враждебности разногласия между большевиками и меньшевиками, одинаково дорогими ей людьми, которые очутились по обе стороны баррикад. Кузнецова рассталась с политической деятельностью.
Киров всегда тепло отзывался об Августе Александровне. Летом 1925 года он вместе с нею, Куйбышевым и еще несколькими сибиряками сфотографировался в память о прошлом. Беспартийная, Кузнецова на склоне лет жила и скончалась в доме для престарелых большевиков.
Все хлопоты о подземной типографии на Аполлинариевской улице взяла на себя Кузнецова. Проектировщиками и исполнителями были, кроме Сергея Мироновича, Михаил Попов, слесарь Егор Алексеевич Решетов, опытный подпольщик, и молодой партиец, столяр Герасим Иванович Шпилев.
«Работали весьма упорно», – писал потом в автобиографии Киров. Но, конечно, умолчал, что от лопаты у него на руках вздулись кровавые волдыри. Из-за боли он лишился сна. Как писал потом Попов, Сергей Миронович ночами сидел на полу, покачивался, напоминая татарина из горьковской пьесы «На дне». К утру боль затихала.
Вчетвером вырыли большое, глубокое подземелье. Своды укрепили кирпичными столбами. Стены обшили тесом. Проникнуть в типографию можно было только через потайную дверь. Из квартиры спускались в погребицу. Вытаскивали из стены малоприметный сучок. Совали в отверстие хитроумный ключ. Вся стена, стоявшая на роликах, откатывалась. В подполье прекрасно действовала вентиляция. Сигнализацию тоже придумали отличную. Наверху было несколько крючков, и если на любой из них повесить пальто или шапку, в подземелье дребезжал звонок. Уже поставили печатный станок, завезли чугунную печь, кое-какую мебель. Ожидали шрифт.
И все пошло прахом, несмотря на строгие предосторожности.
Связь с внешним миром поддерживал студент Эхиель Моисеевич Левинский, по прозвищу Князь. Приближалась очередная волна повальных арестов, и полиция с жандармерией, следя почти за всеми студентами, взяли на заметку и Князя. Его главнейшие операции по закупке и доставке всего необходимого для типографии полиция упустила, но поведение Князя сочла подозрительным. К нему приставили троих филеров.
7 июля они незаметно выследили Князя, когда он, купив чугунную печь, два стола и две табуретки, поехал со своими приобретениями не домой, а на Аполлинариевскую улицу.
19 июля, поутру, калитку в типографский двор распахнули полицейские. Обыск. Рыскали всюду. Рыскали долго. Рыскали зря. Хотя ничего не обнаружили, арестовали и Кострикова, и Попова, и Шпилева.
Левинского и Решетова, ночевавшего дома, тоже забрали.
Газину, разумеется, не нашли.
10
Сергея Мироновича посадили в камеру № 28 секретного корпуса хорошо знакомой загородной тюрьмы. Спустя два десятилетия Киров писал, что по ночам этот одиночный корпус оглашался душераздирающими криками смертников. Уводимые на казнь, они прощались с товарищами и с жизнью.
Жалкие и без того права политических заключенных урезывали. Заключенные не сдавались. Особенно серьезной была стычка 30 сентября. Начальник тюрьмы Леонович в последний день своего отпуска, обойдя одиночки, вздумал отменить послабления, которых в его отсутствие добились обитатели секретного корпуса. Одиночки запирались только на ночь.
Леонович приказал держать их на замке круглые сутки. Заключенные возмутились. Вооружились кто чем. Сергей Миронович у себя в одиночке разобрал печь. Кирпичей хватило и для соседей. Глухой корпус вмиг преобразился. Громкая брань, проклятья. Звон стекол. Треск срываемых с петель оконных рам. Стуки, грохот выбиваемых дверей.
Солдаты караула беглым огнем ударили по окнам, ранили двоих заключенных. В коридоры вбежали надзиратели с револьверами в дрожащих руках.
И все-таки обитатели одиночек настояли на своем. Их перевели в общие, только что отремонтированные камеры так называемого Красноярского барака, где режим был помягче.
Костриков попал в камеру, где сидели сорок три человека. Люди, вымотанные, обозленные неволей, не ладили между собой. Самых нервных раздражал эгоист, ни с кем не делившийся получаемыми передачами. Выбрали «тройку», чтобы разобраться в нареканиях. Входивший в «тройку» студент-технолог Александр Григорьевич Фортов впоследствии, будучи московским инженером, рассказал в воспоминаниях об этом случае. Выслушав недовольных, «тройка» назначила собрание. Пришли заключенные из разных камер Красноярского барака. От имени «тройки» Фортов предложил лишить эгоиста товарищеского общения, предать его остракизму на два года. И вдруг из глубины камеры кто-то начал говорить, напряженно повышая голос:
– Неверно вообще устраивать поравневку…
Говорил двадцатилетний Костриков. Будь у него чем поделиться с товарищами, он совершенно свободно поступал бы так, как хочет. Принуждение излишне. Пленники контрреволюции не должны быть жестоки по отношению к тюремному товарищу.
Костриков ничего не получал с воли, и тем сильнее прозвучало его выступление. Возражать ему никто не захотел. Предложение «тройки» отпало.
Возник спор и по вине эсера, ведавшего хозяйством камеры. Обсуждался выработанный этим эсером устав, в котором до мелочей расписывалось, как пользоваться передачами. Сергей Костриков выступил против нелепого устава.
– Что за суздальский социализм? С какой стати нам в тюрьме принуждать друг друга что-то делать? Ведь мы прежде всего свободные люди и должны по своему сознанию склоняться к той или иной необходимости…
Устав отвергли.
Постепенно недоразумения в разношерстном коллективе сходили на нет. И все-таки было тяжко. Фортов, которого в тюрьме все звали по его партийной кличке Головой, вспоминал:
«В окнах темно, холодные стекла слезятся. Над длинным столом горят висячие керосиновые лампы. В глуби камеры только что разгорелась высокая круглая печь. Около шести часов внесли большой медный чайник с кипятком. Мы поставили его в печь. Потом внесли пресловутую «парашу». Я полил ее раствором марганцовокислого калия. Поверка. Нас заперли на ночь. Попили чай. Минут тридцать-сорок мы пели.
Все усаживаются по обе стороны стола, и каждый – в книгу. Никаких разговоров.
И вот в этой тишине тюрьма разыгрывает с нами странные шутки.
Вдруг заметим, что кто-нибудь из товарищей, откинувшись от книги, глядит куда-то угрюмо. Морщины выступили на лице, голова опускается ниже и ниже, весь как-то сожмется и, кажется, готов заплакать. Уже не спрашивай, что с ним. Все знают это по себе. Молчи, даже не гляди на него.
Случалось и такое. Сидишь читаешь. Вдруг видишь перед собой ясную, как живую, картину из прошлого. Иногда даже откинешься и хочешь вглядеться в ту картину, а она исчезает.
Был вечер, когда в конце стола кто-то читал в сборнике «Знание» пьесу «На дне». Читавший, нарушая наш строгий распорядок, громко, с воодушевлением произнес:
– Чело-век! Это – великолепно! Это звучит… гордо! Че-ло-век!..
Все взглянули на читавшего пьесу. Он смолк. Тишина. Я с другого конца стола довольно мрачно заметил:
– Да, к сожалению, пока только еще звучит…
Сергей Миронович, сидевший за книгой, приподнялся:
– Голова, как это так? Только звучит? Ты, что же, забыл, что за нашей тюрьмой? Разве мы вот здесь так-таки одни? У нас должно и будет звучать гордо: человек.
Он по-настоящему любил человека и верил в него…»
Сергея Мироновича тюремная меланхолия не задевала. Он много читал. Изучал экономику и философию. Помогал другим учиться. Сам просил помощи у тех, кто знает больше. Он раздобыл гектограф и вместе с товарищами выпускал журнал «Тюрьма».
Сохранился экземпляр второго номера этого журнала. Он выпущен 9 сентября 1906 года. В нем одиннадцать страниц формата обычной тетради. На первой странице напечатано, что выходит он непериодически. Сообщается: для приема посетителей редакция открыта ежедневно после первой прогулки, рукописи принимаются во всякое время.
Дальше все идет уже не в юмористическом тоне, а всерьез. Двенадцать заметок тюремной хроники. Две статьи на злободневные общественные темы. Еще статья «Наша администрация». В ней описываются происки тюремщиков, старающихся «вызвать политических заключенных на какой-нибудь скандал, последствиями которого желают воспользоваться для своих целей». Заканчивается журнал стихами.
Ни на день не прерывалась связь Сергея Мироновича с томскими партийцами. Чтобы укрепить ее, он, кроме всего прочего, обзавелся «тюремной невестой». «Невестой» была смышленая гимназистка-шестиклассница Серафима, которой Фортов некогда давал уроки и которая теперь под видом сестры навещала его в тюрьме.
Спустя полвека с лишним Серафима Ильинична Карачевская-Волк, по мужу Голенкина, вспоминала:
«Однажды Фортов мне сказал, что я не только его «сестра», но должна объявить себя еще и «невестой» незнакомого мне заключенного Сергея Кострикова. Я так и сделала. И вот у высокой решетки до самого потолка, по ту сторону ее, появился мой «жених», невысокий, коренастый, с рябинками на лице и жесткими темно-русыми волосами, зачесанными назад. На меня, девчонку, произвела впечатление только его серьезность, ничего другого примечательного я в нем не нашла. С тех пор мы виделись каждую неделю – каждое свидание длилось четверть часа. Обычно за нами наблюдал старик надзиратель с большой окладистой бородой. Чтобы избавиться от него, Сергей тихо, быстро говорил:
– Ну, давай щеку, что ли.
Я утыкалась лицом в решетку или прижималась к ней щекой. Сергей, чуть-чуть улыбаясь одними глазами, деловито чмокал меня в лоб или щеку, в глаза или губы. Надзиратель – «раз дело дошло до поцелуев» – отворачивался, уходил подальше. Тогда Сергей говорил:
– Ну, выкладывай, да поскорее и потише.
Выслушав все, что мне велели передать ему, он говорил уже сам: что кому сказать, что тот или иной подпольщик должен сделать, какие книги прислать. Все он, очевидно, заранее продумывал. Ни одного лишнего слова не произносил. Но иногда, уловив, что на нас глядят посторонние, сам себя перебивал и погромче прежнего твердил, будто скучает обо мне, о моей маме. Потом добавлял еще что-нибудь подобное о том, что он мог знать обо мне со слов Фортова. Иногда, поглощенная желанием в точности запомнить его поручения, я забывала, что я «невеста». А то запутывалась, не отдавая себе отчета, кто я в данный момент, «сестра» или «невеста». Сергей замечал это и скороговоркой напоминал:
– Улыбайся, ты же невеста.
Или шептал:
– Скорее подставь щеку.
Постепенно он приучил меня держать себя на свиданиях так, как подобает невесте арестанта. Поэтому мы ни разу не «засыпались». Сергей мог регулярно подсказывать товарищам на воле, как вести работу, какие доставать книги, какого рода новости сообщать, чтобы поддерживать бодрость духа политических заключенных».
После семимесячного дознания дом на Аполлинариевской был, как и прежде, загадкой для жандармерии, а улик никаких, и всех мнимых рабочих мнимой Газиной выпустили. Всех, кроме Сергея Кострикова. Его судили по прежнему делу и приговорили к шестнадцати месяцам заключения в крепости.
Оставаясь некоторое время в Красноярском бараке, Сергей Миронович превратил ночь в день. Занимался после отбоя, спать ложился утром. Но и ночью не было спокойно. Кто стонал. Кого мучили недуги. Кто шагал взад-вперед, изводимый бессонницей или боясь дурных снов, кошмаров. И то, чего избегали заключенные, поманило Сергея Мироновича – он попросился в одиночную камеру.
А товарищей из общих камер не забывал. Помогал им, чем мог. С ними вместе развел цветник. Ставил пьесы. Играл в них. Сохранились снимки, запечатлевшие юного Кострикова в спектаклях «Гроза» Островского, «Шельменко-денщик» Квитка-Основьяненко, «Виноватая» Потехина, «Первая ласточка» Рожкова, а также «На дне».
16 июня 1908 года Сергея Мироновича освободили.
11
Все филеры знали его в Томске, и оставаться там было нельзя.
Поэтому Сергея Мироновича перевели в уездный Новониколаевск, где он руководил местной партийной организацией, так называемой Обской группой РСДРП. Помощниками его были очень одаренный студент-технолог Александр Иосифович Петухов, потомственный революционер из рабочих Василий Иванович Шамшин и Фортов.
Жандармская слежка вынудила пустить слух, будто Кострикова отправили на Дальний Восток.
Когда жандармерия ринулась по ложному следу, Сергея Мироновича перевели в Иркутск.
Не было суровей времени для партии. Словно выжгло подполье и в Иркутске, сильном недавно социал-демократическом центре. Кто расстрелян, повешен, кто выслан, заточен в тюрьму или скрылся. Сергей Миронович застал лишь бывшего ссыльного, редактора местной газеты Василия Тимофеевича Талалаева да нескольких томичей – братьев Дробышевых, Николая Ефимовича Иванова-Канительщика, Александра Николаевича Гладышева. Никакой «техники», и ни у кого ни гроша.
Сергей Миронович скитался, то прописываясь у кого-нибудь, то ютясь, где подскажут товарищи. Скрывался то у пожилой женщины, служащей железнодорожной кооперации Анны Ивановны Голенковской, то у приказчика Алексея Афанасьевича Федюкина. Скрывался, скитался и голодал.
Радушие новых знакомых превосходило их достаток, и Сергей Миронович имел своего рода расписание. У кого можно позволить себе чаю попить. У кого – съесть тарелку щей раз в неделю. На улицу выходил большей частью вечерами. В рабочие кружки и на собрания его водили товарищи, чтобы он не заблудился, не спрашивал у чужих дороги. По просьбе Талалаева его жена, Александра Михайловна, была провожатой Сергея Мироновича в особо ответственных случаях.
Иркутское подполье оживало.
В апреле 1909 года дом Грацианова на Аполлинариевской улице в Томске обнаружил свою тайну: рухнула печь, провалившись в типографское подземелье. Томичи предупредили Сергея Мироновича, что его опять разыскивают.
Он спешно покинул Сибирь.








