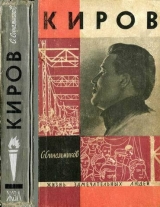
Текст книги "Киров"
Автор книги: Семен Синельников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Томск был кое в чем похож на Уржум и Казань.
Почти везде бросались в глаза татары и другие нерусские – инородцы по-тогдашнему. Некоторые улицы на деревенский лад после дождей тонули в непролазной грязи, и пешеходов спасали от нее дощатые мостки, столь узкие, что не приведи господь поскользнуться.
Хотя по численности населения Томск был вдесятеро больше Уржума, крупные заводы и фабрики здесь не встречались. Совсем как в Уржуме, гурты и отары перегоняли не только окраинными, но и главными улицами. Еще чаще перегоняли табуны – губерния поставляла армии много лошадей, их заодно с людьми пожирала война в Маньчжурии. Родной город напоминала также пересыльная тюрьма, разнившаяся от уржумской лишь огромностью и втеснявшая в себя тысяч до трех арестантов.
Подобно Казани, был Томск давнишним губернским центром, украшенным основательными казенными присутствиями, купеческими особняками, которые соседствовали с хибарами. Делали похожим на Казань и избыток церквей, и рейсирующие по Томи пароходы, и пристанская голытьба, и неряшливые меблирашки, и дворянские отделения в банях, и солдаты на каждом шагу. Однако в Казани, особенно в начале войны, новобранцы, наспиртованные шапкозакидательскими речами и высокоградусными подношениями, бродили по улицам разгульно-веселые. Теперь же, на всем долгом сибирском пути, и здесь, в Томске, солдат словно подменили. Никто уже не верил преступной побаске сановников, будто японцев легко закидать шапками. Война шла к проигрышу.
Приравнивал Томск к Казани и университет. Расположенный гораздо лучше казанского, он утопал в вековой березовой роще. Летние каникулы кончались, студенты съезжались в университет, и из рощи зачастую доносилась их песня, полюбившаяся Сергею:
Юной верой пламенея,
С Лены, Бии, с Енисея
Ради воли и труда,
Ради жажды жить светлее
Собралися мы сюда.
И с улыбкой вспоминая
Ширь Байкала, блеск Алтая,
Всей стране, стране родной,
Шлем привет мы, призывая
Всех, кто с нами, в общий строй.
Каждый здесь товарищ равный.
Будь же громче, тост заздравный!
Первый тост наш за Сибирь,
За красу ее и ширь,
А второй за весь народ,
За святой девиз «вперед» – вперед!
С университетом соседствовал технологический институт. Сюда и влекло Сергея. В левом крыле институтского здания помещалось редкое в те времена учебное заведение – общеобразовательные курсы, дававшие гимназический аттестат зрелости. Намереваясь пройти их, Сергей пошучивал, что попадет в институт не с парадного подъезда, а через левое крыло.
Но поступил он на курсы не сразу.
2
Все писавшие о юности Кирова полагали, что в томскую партийную организацию его вовлекли товарищи, с которыми он подружился осенью 1904 года на курсах. Это ошибка, и архивные находки вместе с достоверными воспоминаниями позволяют исправить ее.
Занятия начались 1 сентября. Но Сергей Костриков стал посещать их, да и то как вольнослушатель, гораздо позже. Найдено его собственноручное прошение, подтверждающее, что лишь 20 декабря обратился он к губернатору за свидетельством о политической благонадежности, необходимым для поступления на курсы. Согласно другому документу, свидетельство это выдано 10 января 1905 года. Третий документ: зачислить Кострикова на курсы начальство разрешило 16 февраля. Деятельный партиец, арестованный на сходке, Сергей сидел тогда в тюрьме. Не сойдутся концы с концами в прежних предположениях, если, допустим, он бывал на курсах и в сентябре. По воспоминаниям Броннера, Крамольникова и еще нескольких сибирских большевиков, Сергей с сентября обучался в кружке, готовившем пропагандистов и агитаторов, и в этом месяце был уже своим человеком в штаб-квартире Томского комитета РСДРП.
Искушенные конспираторы не распахнули бы сразу настежь двери подполья перед Сергеем, будь он просто приезжим новичком, который только что познакомился на курсах с кем-то из партийцев.
Конечно, все обстояло иначе, чем рисовалось доныне.
Сергей покинул родные края отнюдь не школяром и, чтобы связаться с томскими партийцами, ничуть не нуждался в удачных случайностях, не дожидался их. Он, несомненно, имел явку. Ее дали уржумские ссыльные с их обширными знакомствами, разбросанными повсюду, от Нарыма до Женевы, или казанские искровцы, среди которых, кстати, было немало университетских студентов-сибиряков. И, судя по одной из автобиографий Кирова, явка привела его к члену Томского комитета РСДРП Смирнову, погибшему впоследствии, в 1918 году, на фронте.
Еще. Пожалуй, главное.
Сергей с отрочества мечтал о времени, когда добьется самостоятельности, материальной независимости, сможет жить по-людски, собирать книги, ходить в театр.
«Буду терпеть и ждать…» – писал он из Казани учительнице Анастасии Глушковой.
По ее воспоминаниям, короткая строчка была часто повторяемым присловьем Сергея: он заверял тревожившихся за него старших друзей, что обязательно выстоит в единоборстве с безденежьем и успешно окончит Казанское промышленное училище.
Он ждал, терпел, выстоял, приобрел отличную специальность. Но едва настала пора свершиться его давнишнему желанию – жить независимо, безбедно, он отвернулся от просящихся в руки денег и без сожаления обрек себя на нужду. Дипломированные механики были наперечет, а из-за войны с Японией потребность в них, особенно на Сибирской железной дороге, небывало возросла. Стоило наведаться в управление дороги, и Сергею предложили бы хорошо оплачиваемое место – присоединяйся к «людям двадцатого числа», получай каждого двадцатого свое ежемесячное жалованье, живи припеваючи, пока не обременен семьей. А он и не пытался искать службу по специальности.
Причина ясна. Приехав в Томск, Сергей тотчас же втянулся в подполье, оно завладело им, он целиком посвятил себя партийным заданиям и ради них – иного объяснения быть не может – предпочел нескончаемые лишения бесхлопотному довольству.
И оттого, только оттого он вновь перебивался с гроша на копейку. Кое-где получал за разноску полисов в агентстве страхового общества «Россия», охотно согласившись на неприбыльную беготню: с папкой неподозрительных бумаг под мышкой проще было распространять листовки, которые он, Сергей, печатал тогда на мимеографе и гектографе. Потом, тоже неспроста, нанялся чертежником в городскую управу: нужно было поднять ее служащих на забастовку.
Ютился Сергей на Кондратьевской улице, в комнатушке у студента-земляка Никонова, оказавшегося отзывчивым товарищем. Допоздна отсутствовал, возвращался домой озябший, усталый, но бодрый, возбужденный.
– Спи, Сергей, – шутливо говорил он сам себе, закутываясь на кушетке в жидковатое байковое одеяло – на ватное денег не набиралось. Зато, когда ударили морозы, удалось купить дешевое пальто на толстой ватной подкладке, которая, кстати, вскоре спасла от ранения в схватке с озверелыми царскими держимордами.
3
Если не первым, то одним из первых, с кем встретился Сергей в томском подполье, был Смирнов, Они сразу подружились, несмотря на огромную разницу в годах.
Довольно пожилой фельдшер Александр Михайлович Смирнов давно распрощался и с любимой медициной и с личной жизнью. Вернее, его личной жизнью была революционная работа. По имени-отчеству или фамилии почти никто не знал его ни в рабочей, ни в студенческой среде. Но об Авессаломе слышали все. К нему, совершенно лысому, с легкой руки какого-то остряка прилепилось и второе конспиративное прозвище: Кудрявый. Иные думали, будто Авессалом и Кудрявый – два человека, и заблуждение это не удивляло комитетчиков, поскольку Александр Михайлович был вездесущ. По выражению Баранского, он отличался настолько и симпатичной, насколько редкой чертой: так же мало говорил, как много делал.
Из-за подпольщицы, которая доверилась подсаженной в ее тюремную камеру уголовнице-провокаторше, томская партийная организация весной 1904 года потерпела сокрушительный провал. Охранка выследила пятьдесят четырех товарищей, в том числе Авессалома. По жандармской мерке ему бы поплатиться каторгой. Но Авессалом, начисто отведя все обвинения и подозрения, освободился из тюрьмы и даже не счел нужным уехать куда-нибудь подальше от томских жандармов. Приставленные к Авессалому филеры – тайные агенты охранки – потеряли его из виду, тогда как сам он не сводил с них глаз и преспокойно трудился за троих, пятерых, заменяя выбывших из строя комитетчиков.
Смирнов-Авессалом, твердый ленинец, лучше других понимал, что необходимо заблаговременно готовиться к вооруженному восстанию, для чего каждый партийный комитет должен иметь сильную военную дружину. Еще в 1903 году написал он устав такой дружины и начал создавать ее. Она была четко разделена на «десятки». Начальники их, «десятские», составляли комитетский боевой штаб.
И когда осенью 1904 года Смирнов стал восстанавливать дружину, расшатанную после арестов, ему нечего было и желать лучшего помощника, чем юный механик Костриков. Превратившись в оружейного мастера, Сергей чинил, приводил в порядок уцелевшие в тайниках браунинги, бульдоги, маузеры, лефаше, смит-вессоны. Общие заботы, взгляды, душевные свойства сблизили обоих. Вскоре Сергей был уже правой рукой Смирнова в боевой дружине.
Благодаря Смирнову и боевикам Сергей быстро освоился в чужом краю, в новой среде.
Край, куда ссылали революционеров и откуда черпали три четверти российской добычи золота, был не таким, каким давно запечатлелся по книгам, песням и обрывочным рассказам уржумских отходников. Отнюдь не мужицкий рай, но и не сплошной кандальный ад. Железная дорога, проведенная в конце прошлого века, всколыхнула Сибирь. Ее истинным золотом было теперь сливочное масло, поставляемое на внутренние и зарубежные рынки. Маслоделие, вырвавшееся из крестьянской избы в машинизированные городские артели, по общему доходу обогнало прииски. Некоторые другие отрасли промышленности тоже росли, и поэнергичнее, чем в центральной России, все еще скованной пережитками крепостничества. Сибирь крепостного строя не знала.
Революционеров по-прежнему ссылали сюда. Однако очагами борьбы против самодержавия стали и сибирские города. Уже не в них, а из них ссылали, как отмечалось в нелегальной листовке, напечатанной вскоре после приезда Сергея в Томск. Революционное движение, можно сказать, прикатило в эти дали по железнодорожным рельсам. Его зачинателями были политические ссыльные, преимущественно социал-демократы. Прибывали и труженики, очень восприимчивые к передовым идеям. Железнодорожные рабочие, множась, сплачивались в самый сознательный отряд сибирского пролетариата. Усиливался поток переселенцев, главным образом молодежи, натерпевшейся лишений в покинутых родных местах. Передовые идеи находили отклик и у рабочих-сибиряков. Их изводили голод и произвол на старых и новых заводах, фабриках, приисках, шахтах. Горькой правдой дышала приисковая песня:
Мы по собственной охоте
Были в каторжной работе
В северной тайге.
Там пески мы промывали,
Людям золото искали —
Себе не нашли.
Приисковые порядки
Для одних хозяев сладки,
А для нас беда!
Еще и так пели о своем житье приисковые рабочие:
Щи хлебали с тухлым мясом,
Запивали жидким квасом —
Мутною водой.
Много денег нам сулили,
Только мало получили,
Вычет одолел…
Раньше, чем где-либо в крае, социал-демократическое движение начало развиваться в Томске. В 1896 году возникла нелегальная рабочая группа печатников. За нею другие социал-демократические группы, а также рабочие и студенческие кружки. Но действовали они порознь. Под влиянием ленинского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» вызрела мысль о необходимости объединить разрозненные группы и кружки не только в Томске, но и по всей Сибири. Весной 1901 года был создан Сибирский союз РСДРП, примкнувший затем к ленинской «Искре», а после II съезда партии – к ее большинству.
Сибирский союз РСДРП имел и опытных партийных профессионалов и сравнительно богатую типографскую технику. Он был большевистским руководителем рабочих масс. Его деятельность и влияние особенно усилились с началом русско-японской войны. Великолепные листовки Сибирского союза печатались огромными тиражами, шли нарасхват в окопах, воинских эшелонах, среди прифронтового населения.
Когда Сергей сдружился со Смирновым и боевиками, томская партийная организация, неотъемлемая часть Сибирского союза, оживала после затишья, вызванного провалом. Нужда в работниках была большая, и новые друзья увидели в Кострикове одного из тех, кого очень хватало, – разносторонне одаренного юношу, незаурядного в скором будущем партийного профессионала.
Одновременно с Сергеем в Томск приехал Григорий Иннокентьевич Пригорный. Юношей, почти подростком, он выпускал искровский журнал «Крамола», что породило его партийный псевдоним: Крамольников. В свои двадцать четыре года он успел поработать в подполье Иркутска, Омска, Читы и теперь бежал из нарымской ссылки. Бывший семинарист и будущий московский профессор-историк, Крамольников слыл не только одаренным оратором. Он умело подготавливал пропагандистов для местных организаций и, как говаривали партийцы, «на экспорт в Россию», то есть для центральных губерний страны.
Введенный в Томский комитет партии, Крамольников возглавил кружок повышенного типа, в который включили Николая Никифоровича Дробышева и его брата Анатолия, Давида Мироновича Калико, Егора Егоровича Кононова и его брата Иосифа – Осипа, Григория Наумовича Левина и еще нескольких подпольщиков, главным образом печатников.
Приняли в кружок и Сергея, хотя ему предстояло догонять товарищей. Они еще до приезда Крамольникова успели изучить «Эрфуртскую программу» Карла Каутского и первый том «Капитала» Карла Маркса. Помимо того, эти подпольщики регулярно следили за свежей политической литературой, свободно разбирались во всех современных политических течениях и поветриях с их бездной оттенков, противоречий, блужданий, заблуждений.
Время было трудное, все дома, где обычно собирались подпольщики, охранка держала на примете. Чтобы провести собрание, приходилось каждый раз ловчить, изощряться в предосторожностях. Иногда прибегали к опасному и все же спасительному «способу товарища Баки». Его придумал подпольщик Гейман, носивший баки и потому получивший свою странную конспиративную кличку: он снимал пустующую квартиру, вносил задаток и тотчас же сзывал кого нужно, будто бы справляя новоселье. После собрания он бесследно исчезал вместе с мнимыми гостями.
Для кружковцев Крамольникова «способ товарища Баки» был чересчур хлопотен и накладен, поэтому выискали другой.
Некогда обитал в Томске загадочный старец Федор Кузьмич, то ли бывший уголовный ссыльный из образованных, то ли незапятнанный человек, по неизвестной причине превратившийся в одинокого полумонаха. Келья давно умершего старца в глубине усадьбы купца Горохова на Монастырской улице оберегалась почитателями, прибиралась, хорошо отапливалась.
Если кружковцам не удавалось примоститься-притаиться где-нибудь в Обществе попечения о начальном образовании, они благодаря определенным знакомствам вечерком проникали в уютную келью.
Ни резное распятье из кости, ни олеографии с изображениями святых, ни десятки икон не смущали привычных ко всему кружковцев-безбожников, не мешали их мирным беседам и пылким спорам, в которых участвовали все, кроме Сергея. Он поначалу молчаливо вбирал в себя то, что говорили товарищи.
В Ленинградском музее Кирова хранится экземпляр легально изданного в Петербурге сборника «Экономические этюды и статьи» – по его пожелтевшим ныне страницам Сергей изучал в кружке работы Владимира Ильича, написанные в сибирской ссылке: «Перлы народнического прожектерства», «От какого наследства мы отказываемся?» Их сменила брошюра «Задачи русских социал-демократов», тоже написанная Лениным в ссылке, но напечатанная в Женеве и совершившая обратное путешествие в Сибирь.
Истинным откровением для Сергея было ленинское «Что делать?».
Он знал о Владимире Ильиче немало. Но в труде «Что делать?», к которому потом вновь и вновь взволнованно возвращался, Сергей впервые по-настоящему увидел облик гения, Ленина, в безмерной скромности извиняющегося перед читателями за недостаточную отделку своих мыслей – мыслей блистательных, отточенных, прозрачно ясных, острых и остроумных, единственно правильных. Взгляды Ленина, его утверждения и предложения, его доводы в споре с погрязшим в болоте экономизмом дышали неистребимой верой в могущество русского рабочего, радовали, воодушевляли смелыми прорывами в будущее, исчерпывающе обоснованным предвосхищением исторических событий.
Владимир Ильич ничего не приукрашивал. Сергей впервые по-настоящему ощутил, какие опасности предстоит одолеть, чтобы свергнуть властвующее чудовище, – во вражеском окружении неизбежны сражения еще и с полудрузьями, вольно или невольно превращающимися в недругов. Но Сергей был уверен, что не забоится ни явных врагов, ни осложнений, лихорадящих внутриреволюционный лагерь, и, словно стихи, повторял вслед за Лениным:
– Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами и не оступаться в соседнее болото, обитатели которого с самого начала порицали нас за то, что мы выделились в особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь примирения…
Не только то, о чем Владимир Ильич писал в споре с экономизмом, очерчивалось перед Сергеем в революционной действительности, но и родственное экономизму новое примиренчество, новое болото, меньшевистское. Еще в Казани он увлекся социал-демократическими идеями. Теперь Сергей уточнял, отчеканивал свои взгляды и устремления, постигая суть возникших на II съезде партии и усилившихся затем разногласий между ленинским большинством ее и меньшинством.
Сергею уже стало ясно, за кем следовать, чего от себя требовать. Он сделал выбор – быть большевиком-ленинцем, никогда не поддаваться примиренчеству в битвах против капитализма, против самодержавия, в схватках с внутрипартийными раскольниками.
В кружке не могли не заметить, что за молчаливостью Кострикова, никак не вяжущейся с его общительностью, скрывается не только стеснительность новичка, но и вдумчивость, внутренняя напряженность. Когда что-нибудь взволнует его, он, бывало, вступал в беседу, обнаруживая и начитанность, и убежденность, и складность речи, и необычный ум, на лету схватывающий малопонятное и мгновенно возвращающий его собеседникам доходчиво, образно. Само собой вышло, что Крамольников сделал Сергея своим помощником в кружке.
При комитете партии создали ответственное пропагандистское звено – подкомитет. Ввели в него преимущественно кружковцев Крамольникова, и каждый имел определенные обязанности. Сергею, хотя он в подкомитете, как и в кружке, был моложе всех, доверили наиболее важное: гектограф и мимеограф. Сергей сообща с несколькими юными помощниками наладил печатание и распространение листовок.
Круг его обязанностей ширился, он стал вести рабочие кружки, созывать собрания; иногда выступал на них.
Его хорошо узнали в подполье. Он был проверен, надежен, его щепетильная старательность вызывала добрую зависть товарищей. И вот, наконец, сбылась мечта Сергея – его приняли в члены партии.
Произошло это в конце 1904 года, когда приближалась первая русская революция.
4
Она пришла, первая русская революция, вслед за Кровавым воскресеньем.
Проникнув в Томск, весть о Кровавом воскресенье, 9 января 1905 года, тайно поползла, потом открыто заспешила от дома к дому, ускоряя бег, обрастая подробностями. Как ни противоречивы были толки о том, что в Петербурге расстреляли мирное рабочее шествие, не пощадив ни детей, ни женщин, ни стариков, боль и горе томичей, их сочувствие жертвам простодушной доверчивости и возмущение царем-убийцей слились, требуя разрядки.
Томский комитет партии решил отозваться сходкой. Чтобы обезопасить ее от кровавого произвола, подобного петербургскому, комитетчики придумали обходной защитный маневр.
12 января, татьянин день, день основания Московского университета, был издавна студенческим праздником. На этот раз праздник совпал со стопятидесятилетием университета, и во вместительном клубе, так называемом Железнодорожном собрании, томские либералы устраивали пышный банкет.
Банкеты с водянистой политической окраской тогда всюду вошли в моду. Правительство нисколько не препятствовало им: провозглашая тосты, поднимая бокалы и стопки за свободу, застольные краснобаи кротко выклянчивали для буржуазии чуть побольше власти, чем дал ей царизм, а попутным упоминанием о тяготах трудового люда лишь заигрывали с ним и усыпляли свою совесть.
Среди томских либералов попадались добросердечные и в частной жизни безупречные интеллигенты, но по общественным повадкам и намерениям они были под стать остальным пустозвонам. Полиция не сомневалась, что устроители банкета в Железнодорожном собрании пуще огня боятся всего недозволенного и не посадят за стол ни одного настоящего революционера.
Подпольщики решили захватить банкет и превратить его в революционную сходку. Захват поручили подкомитету – его руководителя Крамольникова, только что переведенного нелегально в Красноярск, заменял Сергей Костриков. За день-два подкомитет проделал немыслимое – втайне подготовил к участию в сходке несколько сот рабочих и студентов. Всех научили, как себя вести при неожиданностях. Всем вручили пригласительные билеты на банкет, отпечатанные подпольщиками в той же типографии и с того же набора, что и подлинные, разосланные устроителями банкета. Ни полиция, ни либералы ничего не пронюхали.
В татьянин день, вечером, в точно обусловленные минуты, участники сходки малоприметными стайками стекались на Никитинскую улицу, к Железнодорожному собранию. Но у распорядителей банкета была в запасе неразгаданная подкомитетом хитрость. Они на каждом своем билете вывели от руки «9 ча». То, что недоставало букв и что слово нелепо обрывалось, было не опиской, а паролем, подтверждавшим подлинность приглашения. И когда рабочие и студенты прерывистой цепочкой потянулись к входу, вышла неприятная заминка. А они прибывали и прибывали, толпясь в вестибюле, на лестнице. Распорядители банкета потребовали, чтобы непрошеные гости удалились. Но, ничего не добившись, заперли дверь в зал.
Медлить было нельзя, и Сергей подал знак товарищам. Несколько рабочих кинулись вниз по лестнице, чтобы проникнуть в здание со двора. Однако это было излишне – по тому же знаку Сергея с десяток дюжих молодцов подступили к двери, угрожая выломать ее. Распорядители обмякли, сдались.
Толпа хлынула в зал, где белели длинные столы, накрытые на пятьсот персон. Людей набилось столько, что те, кому удалось взобраться на подоконники, сч'итали себя счастливчиками. Все еще уверенные в себе, либералы предложили в председатели своего человека, Григория Николаевича Потанина. Сходчики сразу согласились. Семидесятилетний Потанин, хотя и далек был от социал-демократии, пользовался большим уважением как выдающийся путешественник, исследователь Сибири, Китая, Монголии.
Понадеявшись на маститого председателя, либералы прогадали. Вниманием и волей зала безраздельно завладели комитетчики-ленинцы во главе с Николаем Большим – Николаем Николаевичем Баранским, известным впоследствии географом, членом-корреспондентом Академии наук СССР. Зал слушал только большевиков. Пытались выступать и либералы, но их не слушали. Это отметили в доносах даже шпики, на всякий случай подосланные полицией в Железнодорожное собрание.
Сходка была небывало накаленной, ее участники возмущались царским произволом совершенно открыто. Примчался временный полицмейстер Попов, готовый каркнуть: «Р-р-разойдись!» Однако сами либералы любезно предупредили его, что, вмешайся он, от него останутся одни шпоры. Не рискнув и сунуться в зал, Попов улизнул. Боясь, как бы чего не вышло, вслед за ним сбежали и либералы потрусливее.
Сходка продолжалась. Все ее семьсот с лишним участников единодушно, громом рукоплесканий одобрили большевистский призыв – ответить на Кровавое воскресенье уличной демонстрацией, невиданной демонстрацией под охраной боевой дружины.
Смелый призыв увлек в городе многих. Их не запугала возможная' полицейская расправа. Не запугали и обстоятельства, о которых оставалось лишь догадываться: кое-кто прослышал о шифрованной телеграмме министра внутренних дел князя Святополк-Мирского. Разгневанный сходкой, министр приказал томским властям «в случае повторения подобных попыток принимать самые энергичные меры к недопущению беспорядков».
На предприятиях, в учебных заведениях явно и тайно готовились к демонстрации, назначенной на 18 января. Среди подпольщиков не было, кажется, никого деятельнее Сергея Кострикова. То он в конспиративных квартирах на Ремесленной и Бульварной раздавал с Авессаломом оружие «десятским». То вместе с ними за Томью проводил пробные стрельбы. То развозил свежие листовки, напечатанные в двух недавно оборудованных подпольных типографиях. То спешил на Магистратскую, в большевистскую штаб-квартиру. То на Тверской у братьев Кононовых он часами беседовал с подкомитетчиками. За сутки до срока все было уточнено, проверено, перепроверено.
Морозное утро застало Томск в настороженном ожидании. Магазины и лавки не открывались. Никакого движения – куда-то запропастились и извозчичьи санки, и богатые кареты, и ломовые розвальни, и легкие кошевки. Уже было совсем светло, а город, казалось, забыл проснуться. Но так только казалось. На Садовой, у университетских клиник, возле технологического института поодиночке, парами прохаживались студенты, курсистки и, словно невзначай, тянулись на главную улицу, Почтамтскую. Там, поближе к центру, у почтамта и напротив, за корпусом ремесленного училища, скапливались печатники, мебельщики, строители, местные и прибывшие с линии железнодорожники, Среди них слонялись переодетые в мастеровых филеры, сразу же опознаваемые подпольщиками. Городовых было больше обычного.
В двенадцатом часу пробасил фабричный гудок. Люди проворно вынырнули из дворов и парадных, переулков и закоулков, запрудили взгорбленную мостовую у почтамта. Быстро сомкнулись в шеренги, вытягиваясь колонной. Городовые кинулись было разметать ее. Куда там – фланги уже оберегали дружинники-боевики. Городовых, а заодно и филеров, заранее взятых под наблюдение, оттеснили на панели.
Сергей с несколькими товарищами показался из ремесленного училища. Им уже передали, что пришли далеко не все: под нажимом властей хозяева кое-где заперли рабочих на замок. Тем не менее демонстрантов собралось много, несколько сот. Заранее обусловленное построение колонны ничуть не нарушилось из-за отсутствующих. Сергей стал рядом с другом своим, Осипом Кононовым. Тот высоко взбросил увитое золотыми кистями древко с развернутым знаменем. На пламенеющем шелку чернело «Долой самодержавие!».
Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног…
Колонна мерно зашагала вниз по Почтамтской, к центру:
Нам противны златые кумиры,
Ненавистен нам царский чертог…
Навстречу мчались городовые, надзиратели, еще ночью стянутые отовсюду в центр. Через верных друзей подпольщики внушили властям, будто шествие начнется не раньше полудня. Наверстывая потерянное время, свора держиморд обтекла колонну и, оттесненная, суетливо топала вдоль панелей.
В несколько минут колонну оцепили.
Но над нею по-прежнему алело знамя, а ширь Почтамтской уже не вмещала набатной мощи «Рабочей Марсельезы»:
Вставай, поднимайся, рабочий народ,
Вставай на борьбу, люд голодный.
Раздайся, звук песни народной,
Вперед, вперед, вперед!
Полицейские семенили по бокам колонны. Они вели себя так, словно пеклись только о соблюдении порядка на улице.
Их спокойствие было напускным. Они знали о ловушке, подстерегавшей демонстрантов там, где за недостроенным торговым зданием, пассажем Второва, Почтамтская вливается в площадь, пересеченную речкой Ушайкой. Туда, на площадь, к мосту, загодя вызвали пожарный обоз, понатаскали телег, дрог, дровней, таратаек, бочек. Наспех возвели заграждение. За ним схоронились любимцы полиции, ее всегдашние пособники, так называемые «благомыслящие граждане», а проще забулдыги, пропойцы, громилы.
Полиция полагала, что наверняка все продумала, – демонстрантам некуда будет деться. Чтобы очистить путь через площадь и мост на Миллионную или Магистратскую, дружинники-боевики бросятся расшвыривать заграждение и столкнутся с «благомыслящими». Пусть, лишь бы боевики покинули строй, отдалились от колонны, тогда и начинай расправу, бей беззащитных, арестовывай их. Или пусть они остановятся на площади, затеют сходку.
Из конспиративных соображений члены партийного комитета непосредственно в демонстрации не участвовали. Во главе ее шли подкомитетчики. И когда вестовой дружины тайком доложил им о том, что творится на площади, они все поняли. Ловушка не устрашила их. Им вовсе не казалось, что выхода нет. Но его надо было найти. Найти не мешкая. Колонна, ничего не подозревая, мерно шагала под гору, к площади. Колонна уже приближалась к Второвскому пассажу, а Сергей и его товарищи все еще не осилили затруднения, не знали, куда повести демонстрацию. Но они не поддались замешательству, и выход был найден вовремя. Простой, нежданный-негаданный для полиции.
У площади, у недостроенного пассажа, ничего не подозревающая колонна, повинуясь голове ее, плавно описала полукруг и в лад бодрой песне пошла вверх по главной улице, обратно, к почтамту. Не доходя до него, развернулась на той же Почтамтской, взяв прежнее направление.
Обескураженная полицейская свора в бессильной злобе затребовала войсковой подмоги, которую власти, оказалось, втайне держали наготове неподалеку. И когда колонна вновь поравнялась с Второвским пассажем, свора осмелела. Выхватив револьверы и шашки, полицейские врезались в шеренги.
– Огонь!
Жиганули выстрелы боевиков. Несколько нападавших шмякнулись наземь. Остальные заметались, попятились, стреляя наобум. Боевики отшвыривали полицейских прочь, на панели. Вдруг послышалось:
– Казаки!
Из-за площади, справа, с Воскресенской горы, во весь опор скакали всадники. Оставив держиморд, боевики заняли свои посты, ловя скупые команды «десятских». В несломанных шеренгах демонстранты прижались друг к другу. А казачья сотня, рассыпаясь в лаву, угрожающе нарастала. Все громче стучали копыта. Уже различались окаменелые обличия рубак. Замелькали орлы на высоких папахах. Сверкнула сталь оголенных шашек.
– Огонь!
Дружина дала револьверный залп.
Казаки дрогнули. Привыкшие к полнейшей безнаказанности, они шарахнулись кто куда. Многие поневоле спешились – тот свалился с перепугу или слишком низко поклонившись далекой пульке, этот просто не удержался в седле на вздыбившемся коне. Несуразно топчась, поредевшая лава застряла на площади.








