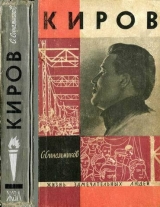
Текст книги "Киров"
Автор книги: Семен Синельников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
Михаил Филиппович Зоткин дотягивал последние недели ссылки. Он радовался предстоящей свободе, и вместе с тем ему было грустно покидать друзей. Слесарь по профессии, Михаил Филиппович с юности колесил по стране, рано примкнул к рабочему движению. Осев в Харькове и работая в железнодорожном депо, был одним из застрельщиков первой в городе первомайской демонстрации.
В Уржуме Зоткин слыл мастером на все руки, слесарничал, столярничал, плотничал, мостил улицы и дороги, в «Аудитории» делал декорации и даже поставил пьесу. В узком кругу знали и такое: когда Зоткин читает даже обыкновеннейшую статью о доле труженика, о классовой розни, никто не останется равнодушным. В шалаше он прочел однажды вслух понравившуюся ему речь Фердинанда Лассаля, и концовку ее Сергей затем не раз повторял:
– Пусть идеи рабочего класса не покидают вас…
Четвертый ссыльный, Мавромати, на студенческой скамье ведал тайной типографией и доставкой в Петербург запрещенных книг из разных местностей России и из-за границы. Талантливый конспиратор, он долго был неуязвим для «гороховых пальто» – шпиков охранки, так как у него выработалась предусмотрительность необычного свойства. Спиридон Дмитриевич прежде всего страховал зависящих от него подпольщиков, добиваясь их безопасности тщательно продуманными ухищрениями.
В уржумской ссылке многие симпатизировали Мавромати, потому что он был скромным интеллигентом столичной закваски, добрым товарищем, остроумным спорщиком.
Постепенно ссыльные приотворяли для Сергея свои тайники. Тайники полны были неистощимых кладов. И свободно издающаяся, но отсутствующая в библиотеках «тенденциозная» литература с ее обличительной направленностью. И запрещенные книги без корок или упрятанные в добротные корки вместе с ерундой, вроде печатных отчетов неведомых богаделен, прейскурантов торговых фирм. И чистейшая нелегальщина, невесть как попадающая в Уржум совершенно свежей из волжских городов, из Петербурга и зарубежных далей. Читай что душе угодно.
Сергею дали «Подлиповцы» Решетникова. Когда были прочитаны и «Шаг за шагом» Омулевского, «По градам и весям» Засодимского, «Что делать?» Чернышевского, ссыльные доверили брошюру, тайно обошедшую всю Россию, – «Царь-голод» Алексея Николаевича Баха, в будущем выдающегося советского ученого и общественного деятеля.
Сергея поразила первая же страница.
«Одни работают до кровавого пота – другие ничего не делают; одни голодают и, как мухи, мрут от всяких болезней – другие живут в роскошных палатах и едят на серебре и золоте; одни горюют и страдают – другие радуются и веселятся».
И дальше:
«А те, которые ничего не делают, тем не жизнь, а масленица».
О том же, написанном двадцать лет назад и не где-нибудь, а в Казани, Сергей задумывался в той же Казани минувшей весной после экскурсии на завод Крестовниковых. «Зачем это один блаженствует, ни черта не делает, а другой никакого отдыха не знает и живет в страшной нужде?» – написал тогда Сергей учительнице Глушковой. Совпадение мыслей не порадовало – наоборот, озадачило, огорчило. Эти мысли, выходило, лежали на поверхности.
Сергей уединялся, уплывая подальше в лодке Александра, случайно или не случайно называвшейся «Искрой», прячась в прибрежных зарослях на Уржумке или примостившись на любимом пеньке в загородной рощице близ деревни Берсенихи, и читал, читал, читал по пять, шесть, восемь часов кряду. Он прочитал и переведенную с немецкого «Историю революционных движений в России» Альфонса Туна, и ходовые очерки Шишко о прошлом родной страны, и не менее известные в революционной среде воспоминания старого народника Дебогория-Мокриевича, и другие выпущенные в Женеве, Лондоне, Париже книги. Кто-то привозил их оттуда, рискуя молодостью, жизнью. И каждая книга была для него откровением.
Позабыв о добрых знакомых, об «Аудитории», остававшейся самым ярким из всего, что было хорошего в городе, Сергей спешил с прочитанным к ссыльным, чтобы вечером вернуться в свое жилище, в амбар Самарцевых, с новой книгой за пазухой или под тульей фуражки. И, не «силах вытерпеть до завтра, принимался за чтение. Все кругом исчезало, Сергей не замечал, как по ту сторону стола валился на койку и мгновенно засыпал изморенный зубристикой Александр, не слышал ни колотушки ночного караульщика, ни сменявших ее вторых и третьих петухов.
Быстро мелькавшие страницы уносили далеко от Уржума. Степняк-Кравчинский, Войнич, Эркман и Шатриан, Шпильгаген, Францоз, Вазов и Еж вели его в недра подпольной России, в Италию, Францию, Германию, к гуцулам Закарпатской Украины, в сражающуюся против турецкого ига Болгарию.
Вновь и вновь повторял он подвиги героев в легко воспламеняющемся воображении. Раздумья тех долгих дней и летучих ночей с неотвратимой определенностью начертали Сергею его будущее революционера. Зная, что, подобно большинству революционеров, не сможет обойтись без подпольной клички, он, видимо, искал и условно выбрал ее. По словам бывших соучеников, Сергею с детства сильнее всех в истории нравилось короткое и звучное имя древнеперсидского царя и полководца Кира. И поэтому, вероятно, не могли не остановить внимания юноши ни добывавший для повстанцев оружие Киро, герой романа Вазова «Под игом», ни учитель-патриот Бачо-Киро в романе Ежа «На рассвете».
Сергей спешил. Окончатся каникулы, и прощайте, ссыльные.
Чувствуя, как дорожит казанский «механик» каждым днем и часом, ссыльные все чаще беседовали с ним без недомолвок, делясь удачами, осложнениями их повседневных революционных будней, давали ему листовки.
В листовках Сергея увлекало не только содержание, его интересовало и как они печатаются: ведь он был «механиком». Ему растолковали, что к чему, разрешив испытать свои силы.
Озабоченно-счастливый, он вдвоем с Александром смастерил простейший гектограф, и недостроенная банька Самарцевых превратилась в тайную печатню. Вдвоем же, понасовав за пазуху только что на-гектографированные листовки, Сергей и Александр ночью, в канун базарного дня, пустились в осторожное путешествие. Часть листовок они пораскидали на базарной площади, остальные – вдоль Малмыжского тракта. Вернее, не пораскидали, а расположили где получше, и на каждую листовку клали камешек, чтобы ветер не унес.
По воспоминаниям Самарцева, первая проба сил не была последней.
В Казань Сергей вернулся с явкой к студентам-революционерам.
8
Его приняли в кружок самообразования – саморазвития по-тогдашнему. Нелегальных кружков таких было несколько. Они слились в Соединенную группу учащихся средней школы. В ней состояли главным образом гимназисты и гимназистки, реалисты, питомцы промышленного училища. Беспартийная, околопартийная, Соединенная группа была настолько надежной, что искровцы поручили ей гектографирование и распространение листовок.
Судя по нескольким скупым словам, оброненным Кировым в автобиографии спустя два с лишним десятилетия, уржумская подготовка пришлась в Казани как нельзя кстати. Поручение сторонников ленинской «Искры» выполнялось, очевидно, при участии Сергея. Но подтверждений нет, как нет пока никаких веских сведений о том, рядовым ли он был кружковцем или сразу же выдвинулся в старосты кружка, входил или не входил в комитет Соединенной группы. Бесспорно лишь одно: Сергея захлестнули студенческие волнения, отозвавшиеся в промышленном училище небывалыми «беспорядками».
Училище резко отличалось от других учебных заведений. Преподаватели его в большинстве своем были инженеры, люди менее подверженные рутине, чем, к примеру, гимназические учителя. Сказывалось и влияние членов попечительного совета, передовых ученых, братьев Зайцевых. Имело значение и здравомыслие почетного попечителя училища Всеволода Всеволодовича Лукницкого, просвещенного и немало поездившего по белу свету пожилого генерала-от-артиллерии. Осыпанный наградами, он оставался весьма прохладном к монаршему благоволению, презирал полицейщину и дружил со своим шурином, профессиональным революционером Александром Митрофановичем Стопани, известным впоследствии большевиком, который, к слову, в двадцатых годах работал вместе с Кировым в Закавказье.
Директор училища Николай Григорьевич Грузов, сорокалетний инженер, еще учась в Петербурге, женился на дочери контр-адмирала, благодаря чему был на короткой ноге с казанской знатью. Кичась столичными связями, директор держал себя в службе независимо, особенно после того, как был возведен в дворянство. Высокомерный, желчный, взбалмошный, Грузов вместе с тем воспринимал юношеские вспышки строптивости и свободомыслия вполне разумно:
– Неизбежное эхо неспокойного времени, переживаемого империей.
Раздувать ученические «выступления» он не любил и попросту замалчивал их перед начальством, а виновников долго и нудно пилил, за что получил прозвище Рашпиль, и сажал в карцер. Однако учеников, у которых пробудилось самосознание, нисколько не трогали директоровы проборки, не пугала полутемная раздевалка столярной мастерской, где приходилось отбывать наказание под наблюдением незлобивого швейцара.
Директора вполне устраивал новый инспектор, заменивший ушедшего на пенсию Широкова: тридцатилетний химик и математик Василий Каллиникович Малинин отличался мягкостью характера и вялостью. Под стать Малинину был еще более молодой Памфил Никитич Макаров, «ученый рисовальщик», который преподавал графику и был надзирателем у «механиков».
Малинин и Макаров были знакомы домами со многими преподавателями училища.
Чуждаясь политики, эти интеллигенты понимали, что назревают бурные события, и вовсе не ожесточались. В узком кругу преподавателей сочувствовали Радцигу, когда его младшего брата, Владимира, в 1902 году исключили из института, ни во что не ставя несомненную одаренность будущего инженера. Преподаватели дружили с руководителем «механиков» Жаковым, хотя знали, что его жена, Евдокия Александровна Ардашева, – двоюродная сестра казненного народовольца Александра Ильича Ульянова, а также скрывающихся где-то революционеров Владимира Ильича и Анны Ильиничны, Дмитрия Ильича и Марии Ильиничны Ульяновых.
Не удивительно, что преподаватели в большинстве своем отнеслись к училищным «беспорядкам» не по-казенному.
9
Возникли же «беспорядки» после того, как 26 октября 1903 года умер член Казанского комитета РСДРП, студент университета Сергей Львович Симонов. Он был арестован весной, и в тюрьме у него открылась скоротечная чахотка. Два месяца бесконечных допросов, мучительных издевательств расшатали его нервы. Мстя за упорное молчание на допросах, жандармы перевели студента в психиатричек скую больницу, лишили медицинского ухода, прогулок. Жандармы и там, в психиатричке, не давали больному покоя, изводя его допросами.
Смерть Симонова взволновала передовую молодежь. Похороны его превратились в демонстрацию. Над медленно шагающими шеренгами непрестанно вилось: «Вы жертвою пали…» Стекаясь отовсюду, к студентам университета присоединялись юноши и девушки из других учебных заведений, подхватывая все более грозное: «Вы жертвою пали…» Полиция разогнала демонстрацию.
Спустя несколько дней, 5 ноября, на торжественном акте в честь девяносто девятой годовщины университета, поздравительную речь оборвала «Марсельеза». Покинув актовый зал, студенты на улице продолжали петь. Полиция врезалась в толпу, избивая нагайками демонстрантов и прохожих. Тридцать пять студентов были арестованы и немедленно приговорены к тюремному заключению.
Ответом были гневные сходки.
Взволнованность студентов передалась многим в промышленном училище. Явные признаки ее своеобразно обнаружились 8 ноября в третьем классе у «механиков». На уроке закона божия вместо захворавшего попа Богословского кафедру занял надзиратель Петр Николаевич Вольман, обычно следивший за поведением юношей вне училища. Он от имени попа велел сесть за сочинение: «Почему современники Иисуса Христа не признали в нем обетованного мессию?»
– Оно трудно для меня, – мгновенно поднялся кто-то.
– Для меня оно трудно, – пожаловался другой ученик.
– Трудно оно для меня, – процедил третий.
Как бы ни переставлялись немудреные слова,
Вольману в них послышалось то же, что читалось на лице у каждого из насупившихся третьеклассников, не исключая Кострикова, первого и самого примерного ученика, отнюдь не склонного к легкомыслию. Вольман счел за лучшее удалиться:
– Передам вашему надзирателю.
Надзиратель Макаров тоже покорился классу. Сочинение никто не написал.
Почти неделя миновала, а о провинности «механиков» ни словом не обмолвились ни инспектор Малинин, ни директор Грузов.
14 ноября после оперного спектакля ожидалась ночная демонстрация, нелегально подготовленная студентами. Хотя спектакль давали обычный, публика собиралась в городском театре необычная, сплошь молодежь, заранее исподволь скупившая билеты. В фойе, в зрительном зале скапливались по двое, по трое и питомцы промышленного училища, среди которых был Сергей Костриков. Неожиданно, словно по команде, в театр гурьбой ввалились, блистая регалиями, директора и начальники всех учебных заведений
И это было еще не самым худшим. Когда в последний раз упал занавес и зрители хлынули на улицу, их встретили толпы полицейских. Высокопоставленных лиц пропускали по тротуару. Остальных заставляли расходиться затылок в затылок меж городовых, выстроившихся шпалерами на мостовой.
Не оставалось сомнения, что демонстрация сорвана. Сергей пробился сквозь полицейские шпалеры к соседствовавшему с театром Державинскому саду. Он стал прохаживаться по тротуару у памятника поэту, куда полиция не пускала публику. Видимо, Сергей о чем-то сигнализировал подпольщикам. Его заметил надзиратель Вольман, прогоняли городовые, отчитывал полицейский офицер – Сергей ушел лишь после того, как его застиг директор Грузов. Ушел, по словам Грузова, неохотно.
Начальство приметило в театре, кроме Сергея, восемь его соучеников.
Наутро Грузов-Рашпиль зло пилил их, сыпал наказаниями. Кострикову и двум его одноклассникам, отказавшимся писать поповское сочинение, сгоряча пригрозил еще и исключением из училища.
Угроза усилила незатихшее брожение, что тотчас же обнаружилось, и опять в третьем классе у «механиков», опять на уроке Богословского.
Потомственный поп, он имел академическое образование и степень кандидата богословия, большой приход Покровской церкви и уйму наград, внушительную внешность и хорошо подвешенный язык. Но поп был сух и не слишком умен. Целую неделю его пуще хвори снедало желание дать острастку ослушникам. Еще не выздоровев, он пожаловал на занятия.
Класс предупредил его через надзирателя Макарова, что к уроку не готов. Не сообразив, чем чревато предупреждение, поп сразу после звонка приступил к опросу. Мало кого зная по фамилии, поп ткнул пальцем в первого попавшегося «механика»;
– Ну, ты мне расскажи…
– Не расскажу, – не дал тот договорить попу. – Не готов.
Поп ткнул пальцем в соседа;
– Ну, ты мне расскажи..
– Не расскажу. Не готов.
Ища спасенья от скандального провала, поп обратился к первому ученику Кострикову и вновь услышал вытверженную всеми отговорку. Первый ученик Костриков, придумавший эту отговорку, столь холодно ее отчеканил, что попа вымело вон.
Назавтра, в воскресенье, непокорных «механиков» затребовали повестками в училище. Учинив пилёж, Грузов велел взяться за прошлосубботнее сочинение по закону божию. Чтобы не навредить товарищам, над которыми нависла угроза исключения, класс подчинился.
В понедельник училище лихорадочно гудело, тревожась за троих опальных «механиков», и возмущалось воскресным вызовом целого класса ради глупой писанины. А во вторник, после занятий, все – класс за классом – поднялись в актовый зал. Потребовали директора. Его не было, или, скорее всего, он по доброму совету преподавателей сказался отсутствующим. Инспектор Малинин успокоил учеников: опасаться за товарищей нечего, никто исключен не будет.
Приближался четверг, день заседаний педагогического совета. Надо было наверняка опередить события, и в среду, 19 ноября, ученики в конце дня запрудили шинельную – раздевалку. Вновь потребовали директора. Дежурный надзиратель-новичок приказал удалиться.
Раздосадованные, обозленные ученики оставили шинельную. Чтобы на студенческий манер выразить свое презрение к директору Грузову, они столпились под окнами его квартиры. Басистый голос взвыл:
О блаженном успении…
В толпе, кто притворно-печально, кто гнусаво, а кто залихватски, с присвистом затянули, отпевая директора, словно покойника:
Подаждь, господи,
усопшему рабу твоему
Николаю Грузову
вечную память…
Пение смолкло, по толпе пробежал шепот. Он был сильнее приказа. Все позастегнули шинели, поправили фуражки, бесшумно выстроились на мостовой. Складно, нарастая сурово, взмыла в темень студенческая песня:
Был нам дорог храм юной науки,
Но свобода дороже была.
Против рабства мы подняли руки,
Против ига насилья и зла…
Несколько кварталов прошли юные демонстранты вдоль Грузинской улицы, где помещалось училище. Они приближались к центру города, когда у Державинского сада их ряды рассекла, рассеяла полиция.
20 ноября, чтобы выявить «смутьянов», в училище нагрянул казанский полицмейстер. Но Грузов не изменил себе и не допустил постороннего вмешательства в свои дела: после беседы с ним полицмейстер лишь отчитал учеников огулом.
Вечером собрался педагогический совет.
Выгораживая «механиков» и ради этого преуменьшая их развитость, некоторые преподаватели укоряли попа за чрезмерную сложность злополучного сочинения о современниках Иисуса. Богословский поюлил, позащищался, жалобно сетуя на неучтивость Кострикова и двух других «механиков», после чего, догадливо сославшись на хворь, откланялся.
То, что девять учеников пошли в театр без разрешения, свели к заурядному проступку.
О спетой под окнами у директора «вечной памяти» и даже об уличной демонстрации вовсе умолчали.
Определяя наказания, дольше всего судили-рядили, как быть с «механиками», которым директор грозил исключением из училища. Припомнили, что все трое, в том числе и примерный ученик Костриков, «выказали свою неисправность» еще весной: класс освистал тогда придирчивого мастера-новичка.
– Терпима ли эта тройка в училище? – увертливо спросил директор.
Общий ответ был: да. Директор сдался не сразу. Но на исключении Кострикова из училища никто не настаивал. Преподаватели в один голос говорили, что считали и считают Кострикова примерным учеником.
Протокол заседания вопреки обыкновению почти три недели перепечатывали, переделывали. Истинная окраска ученических провинностей оказалась затушеванной.
Подоплека обнаружилась спустя несколько месяцев, во время ревизии, проводившейся Казанским учебным округом. Дознавшись, что Грузов утаил «беспорядки» от учебного округа, ревизор задним числом затеял расследование. В отчете о ревизии сохранились показания преподавателей Волкова, Жакова, Порфирьева, надзирателя Макарова, инспектора Малинина, попа Богословского.
Все они – за исключением попа – держали себя вполне достойно, защищая учеников настойчиво и умело. Да и среди остальных ведущих преподавателей в дни ноябрьских «беспорядков» никто, очевидно, не хотел шагать в ногу с полицией или, как поп, юлить, чтобы затем при случае наушничать.
Поэтому участники «кошачьего концерта» под директорскими окнами и уличной демонстрации остались неназванными, ненаказанными. А ученики, проступки которых педагогический совет обсуждал 20 ноября, отделались сравнительно легкими наказаниями. Сергей Костриков просидел в карцере двенадцать часов.
10
Отношения с преподавателями не ухудшились. Сергей, завершая учение, шел по-прежнему первым в своем классе.
Но прежним он не был.
Жандармерия почти полностью разгромила искровскую организацию в Казани. Вскоре началась русско-японская война. Оба события, неравные по значению, в равной мере призывали молодежь из уцелевшей Соединенной группы заменить старших, выбывших из строя товарищей. Сергей, зная, чем рискует, без страха вверился подполью. Его жизнь раздвоилась, и учение было только внешней ее стороной. Соединенная группа действовала и самостоятельно и совместно со студентами университета, ветеринарного института. Сергей печатал листовки, налаживал печатную технику. Конспирация не позволяла оставаться на прежней квартире, среди любопытных одноклассников, и он, отказывая себе в самом насущном, переселился с Рыбнорядской на Вторую гору, где снял отдельную комнату в маленьком домике над оврагом.
Выпускные экзамены Сергей сдал успешно. Но по некоторым предметам оценки занизили: вывели четверки. Сказались и нервозность экзаменаторов из-за трехмесячной ревизии, которая была тогда в разгаре, и придирчивость ревизора, возмущенного тем, что к нему, по его признанию, в училище относились с нескрываемой неприязнью.
31 мая 1904 года Сергею вручили аттестат с семью пятерками, в том числе пятеркой по поведению, и пятью четверками.
После двухмесячной выпускной практики Сергей уехал в Уржум.
11
Уже не мысля для себя жизни вне революционного движения, Сергей вместе с тем очень хотел учиться дальше. Казанские и уржумские революционеры поддерживали его в стремлении получить высшее образование. Но училищный аттестат не давал права на поступление в университет или институт.
Сергей слышал, что отрадным исключением был Томский технологический институт, где выпускников Казанского промышленного училища ценили за основательные знания и навыки. В Уржуме Сергей познакомился с томским студентом-технологом Иваном Александровичем Никоновым и узнал из первых рук, что так оно и есть.
В августе восемнадцатилетний Сергей, распрощавшись с Уржумом, уехал в Томск.








