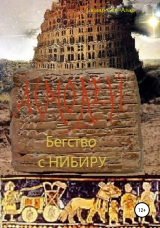
Текст книги "Асмодей. Бегство с Нибиру"
Автор книги: Семар Сел-Азар
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
– Господин Мес-э очень важный человек, у него много важных дел. – Говоря это, рабыня старалась всем своим видом показать, что вся проникнута несчастиями госпожи и искренне пытается ей сопереживать, но ее внутреннее безразличие к чаяниям юной хозяйки, выдавал невозмутимый вид. Впрочем, вельможная красавица, погруженная в себя, не замечала коварного бессердечия служанки.
– Пфф, знаю я, как он занят. Всем известно, что он с некоторых пор предпочитает смазливых мальчиков и юношей, а может всегда их любил. А ведь когда-то он признавался мне в любви. Ты же помнишь, каким он был тогда. Ты помнишь, какой он был?
– О да госпожа, как не помнить, какой был красавец благородный сокрушитель варваров, разоблачитель изменников и гроза трусов. Мечта всех женщин Калама.
– Ну как мне было устоять перед ним. Ведь из всех благородных девиц единодержия, он выбрал меня. Если б я знала, что ему нужна всего лишь удачная женитьба на первой красавице, ради его не допоенного честолюбия. – Говорила она, пока Забар рисовала ей брови, соединяющиеся на переносице.
– Господин должен быть благодарен госпоже, ведь женитьба на ней и помогла ему, наконец, поставить коней в стойло.
Элилу раздраженно рассмеялась.
– Забар, ты рассуждаешь как настоящая степнячка. Вправду говорят, сильна кровь дикаря, долго родство. Я и без твоих подсказок догадываюсь, что была для него лишь ступенью к высотам.
А мне казалось тогда, что он меня и вправду любит, а я его, да так, что и позабыла про все… Оказывается не все. Стоило только понять, что не все крутится вокруг меня, прежнее вспыхнуло с новой силой, но теперь с осознанием, что ничто уж не вернуть. И я смирилась с мыслью о том, что всю жизнь буду терпеть: не быть любимой и не любить. Но когда я увидела его, во мне будто вспыхнул огонь новой жизни, и мне безумно захотелось подойти к нему – юная ерес мечтательно подняла глаза, – чтобы снова говорить с ним, как тогда, слушать его песни, которые он пел мне и посвящал только мне, а не этой строптивой гордячке. Смотреть ему в глаза и улыбаться от счастья, зная, что он мой и он со мной, и прикоснуться к его груди, слушая как под ней, от волнения стучит его дикое сердце, и как дрожь запотевшего тела отдается в мою ладонь.
– Что поделать госпожа, это участь с которой всем нам приходится смиряться. И я не была рождена рабыней, и родители благородной эрес сошлись, не любя друг друга.
Сказала рабыня, все с тем же невозмутимым видом.
Недоуменно захлопав длинными ресницами, эрес рассерженно осадила распоясавшуюся служанку, позабыв о том, что только что сама ждала от нее советов:
– Забар, ты забываешься! Дело ли глупой рабыни, рассуждать о господах, да еще равнять себя с ними?!
Задрожав, Забар не чуя ног, в ужасе пала ниц:
– Оо, досточтимая благородная егир, пусть простит она свою глупую рабыню, недостойную касаться следов ее, но, позволившую длинному и негодному языку коснуться ее достойнейших родителей, чья любовь друг к другу неоспорима и чьи отношения являются примером верности.
– Встань, встань Забар. – залепетала Элилу, жалея, что напугала свою верную хранительницу тайн. – Тем более я и сама знаю, как они крепко любят друг друга, и я не могу обижаться на ту, чьему сердцу не понятны высокие чувства.
– Я знаю, что ты думаешь. – Продолжила она, когда успокоившаяся рабыня, заканчивала ее прихорашивать. – Ты думаешь, что раз он чужеземец, то он такая же челядь как ты, или того хуже. Ошибаешься, он никогда не был рабом. Когда мы в первый раз с ним встретились, он был приемышем старого абгала, хотя и жил при храме послушником. Старик называл его сыном и учил всяким своим премудростям. Так что он грамотнее многих господ, кичащихся своим происхождением. Боже! Как же больно сознавать, что это всего лишь мечты, и ничего уж не вернуть, а он лежит там и умирает, а если и останется жить и его не казнят, то всю оставшуюся жизнь проведет с ярмом на шее, раскапывая отводы вод.
Из больших глаз эрес, заблестев, каплями задерживаясь на ресничках, потекли девичьи слезы.
Едва успокоив госпожу, хитрая рабыня решила отвлечь ее разговором о том, что объединяло их мысли, поправляя на ее голове накладные волосы:
– Сейчас в Кише, стало принято укладывать голову волосами по примеру йаримийских, состригая с плененных варварок их светлые пряди.
– Забар! – обиженно с негодованием вскричала на нее хозяйка, – Как ты, зная об этом, не позаботилась еще о том, чтобы и мою голову украшала копна золотых волос?!
Когда обрадованная тем, что удалось перевести разговор, рабыня начала притворно извиняться, оправдываясь тем, что сама, как только об этом услыхала от придворных рабынь, прибывших вместе с посланником единодержца в Нибиру, тут же сообщила ей, Элилу выказала желание, иметь это нововведение у себя на голове.
3. Скитальцы
Худая рыжая собака рылась в соре, тщетно пытаясь найти там что-нибудь съестное, наконец, раздобыв старый почерневший кусок, она с усердием начала его обгладывать. Под облезлой кожей, проглядывали стянутые от голода ребра, рваные проплешины по шерсти, свидетельствовали о нелегкой бродячей судьбе, а грязный обрывок на ее шее, напоминал о хозяйских милостях. Нин взглянув на нее с сожалением, невольно сравнила ее с собой. Сколько лет она уже скиталась по городам и селам враждовавших друг с другом столиц в обществе скоморохов? Казалось всю жизнь. Но ведь она помнила и другую жизнь, жизнь, лишенную скитаний и постоянного недоедания. Та жизнь ушла безвозвратно. А ведь тогда в детстве, казалось, что она будет такой вечно. Но коварна, бывает судьба к людям, когда богам вдруг вздумается повернуть что-то, чтобы что-то там у себя исправить или просто посмеяться над жалкими смертными. И тогда Намтар, мог одним своим решением перечеркнуть судьбы людей и целых народов. И вот, снова умирал супруг сладострастной Инанны, казалось теперь уже навсегда и никогда уже не воскреснет. И оттого, поля переставали давать урожай. И растекались по землям люди гонимые волей бога Нинурта; убегали из городов и селений, спасаясь от кровожадности Эркала, развязывающего нескончаемые войны, ради того, чтобы преподнести бессмертные души в дар своей жестокосердной супруге. И приходили болезни, приносимые злыми имина-би прислужниками Ашаг. И тогда, зной и холод, казалось, наступали вместе, принося ко всем несчастьям на землю, еще и мор и голод.
С теплотой и болью в сердце, она все время вспоминала счастливые дни детства, когда отец и мать были еще живы. Не проходило дня, чтоб она об этом не думала, а все годы, прожитые после пришедшего несчастья, пролетали для нее так быстро и незаметно, словно их и не было. В сущности, для нее после этого закончилась сама жизнь, и она со смирением ждала только ее завершения, чтобы там за гробом, быть может, встретиться с любимыми родителями. А жить, предстояло еще ой как много. Конечно, она все еще надеялась на то, что все в ее жизни еще будет, но это будет другая уже жизнь, без прежней безмятежности, но надежда все еще теплилась там внутри, и питала веру в лучшую жизнь. А пока оставалась надежда, умирать не хотелось.
Она помнила, каждый камешек в доме, в котором жила когда-то, каждую щелочку, помнила каждый косогор мест, где любила бывать. И казалось, попади она опять в те места, там все будет как прежде, стоит только туда пойти, и то, что было – вернется. Но прошедшего уже не будет, и ничего, увы, не вернуть. Нин тяжело вздохнула. Опять вспомнилось, как отец, приходя со службы, возился с ней и с ее маленьким братиком. Он помнился ей сильным великаном, которого слушались суровые воины и от окрика которого приходили в трепет, а вся их суровость куда-то мгновенно исчезала. Он уже достиг таких высот, что мог позволить себе оплачивать ее обучение, и она начала получать знания, к которым ее любознательный ум был так пытлив. Иногда, к ним в гости захаживали его друзья и тогда у них закатывались веселые застолья. Но эти застолья никогда не были обычной попойкой или развратной гулянкой, которые доводилось не раз ей видеть после у других. Это были просто дружеские посиделки старых друзей, решивших вспомнить старые времена. Тогда, она любила слушать их бесконечные рассказы о городах и далеких странах, и наверно именно тогда, у нее зародилось это страстное желание отправиться куда-нибудь далеко и самой посмотреть на то, о чем так много слышала. Всей своей небольшой семьей, они были как единое целое, и казалось, ничто не в силах было разломать этого единства. От воспоминаний об этом становилась уютно, и приходило успокоение, как будто все это было рядом. Пока за ним не приходило осознание, что всего этого больше нет, и не будет уже никогда, а эти воспоминания, в одиночестве не с кем даже разделить. И тут же в памяти всплывало, то злое утро, когда ей едва начинающей вступать в жизнь, довелось познать ее тяготы.
Она хорошо помнила, как возвращаясь с учебы, спускалась к ограде родного дома с перекинутой сумой для писчих дощечек, и как уже у входа почувствовала что-то неладное. А войдя, увидела человека, которого она хоть и знала как одного из соратников ее отца, но не настолько близкого, чтобы посещать их дом для дружеских посиделок. И вот в то утро он стоял на их дворе: кингаль начальствующий над ее родителем, человек способный приказывать ее отцу, так же как тот приказывал своим воинам, чьи приказания ее могучий отец – которого боялись суровые воины, должен был выполнять беспрекословно. Она хорошо это помнила. Он стоял и говорил, что-то ее матери, а та слушала его и тихо всхлипывала. Она не слышала ее плача и не видела ее лица, которое мама старательно прятала, стараясь не напугать ее маленького братика, но подергивающие плечи выдавали ее. А она, поняв, что случилось что-то непоправимое, шла в оцепенении, боясь узнать это страшное, но этот воитель высокого чина с каменным лицом, только заметив ее, подходил сам, решив все ей объяснить, считая видимо, готовой уже принять суровую действительность. С ужасом она смотрела на него, мысленно крича и умоляя не подходить к ней. Но это каменное лицо неумолимо приближалось, казалось само время, замедлило свой ход, настолько оно было чужо и страшно. Наконец, он сделал то, чего она так боялась. Он сказал, что ее отец настоящий пример мужества для всякого воина, и что всякий бы хотел иметь такого отца, который не щадя своей жизни встанет на защиту родного отечества, и что она должна гордиться таким отцом… О чем он говорил дальше, она уже не помнила, память об этом заволокло туманом, а после…
А после было угасание. Вначале, как кингаль и обещал ее матери, товарищи отца по оружию помогали семье, и они жили благодаря их милости около года. Но как говорят старики – время стирает камни. И вот постепенно перестали навещать те, кто клялся не оставить их одних в беде, потом и помощь от них стала приходить все реже, затем не стало и ее. Потом были скитания. Мать, чтоб прокормить детей, сходилась с мужчинами, но те готовы были воспринимать ее лишь как женщину удовлетворяющую похоть или служанку, в конце концов, она вынуждена была пойти в закуп к богатым людям. Младший братик, не выдержав долгих испытаний, вскоре умер. Поплакав над его малюсеньким, худеньким тельцем, они его тихо похоронили, но мать после не оправилась уже и оставила маленькую Нин одну. Наверно и ей бы пришлось уйти вслед за ними, или новый хозяин матери сгубил бы ее вконец на работах, или еще что хуже, если бы не встретился в ее жизни скомороший обоз. Мало ли сирот и нищенок бродят по землям благородных. Но они подобрали ее: голодную, холодную, всеми обижаемую. Может оттого что она кого-то напомнила им, кого-то из их далекого прошлого, или оттого что она в отличие от других нищенок могла разбирать письмена на указных камнях. Кто знает. Как бы то ни было, она давно стала своей для них.
Окрик Хувавы отгоняющий псину, заставил ее оторваться от воспоминаний. Свесив голову с крыши возка, она увидела и его самого, швыряющегося камнями. Взвизгнув, собака жалобно заскуля, поджав хвост, потрусила прочь. Сочувствуя несчастному животному, девушке захотелось наказать обидчика. Схватив в охапку пожухлой травы, она обрушила ее сверху на голову великану. Немногословный скоморох, испуганно замычав, отчаянно замахал руками, защищаясь от невесть откуда налетевшего «роя». Своими неуклюжими и нелепыми движениями, он напоминал Нин медведя, подвергшегося нападению ос. Выдав себя победным смешком, юная озорница, легким мотыльком спорхнув на землю, подпрыгивая, ускакала от гнева осерчавшего дурачка.
***
Возок, из-за упрямства ослов, был крайне неудачно поставлен. Скоморохи приехали в ночь, поэтому разбираться, куда его ставить, не было ни времени, ни возможности. Когда донимала усталость и смыкались веки, хотелось спать, и главное было добраться до места и найти пристанище, переставить же воз собирались, как только рассветет. Но вспомнив о том, что следует просить разрешение на остановку у начальника городской стражи, глава их небольшого сообщества с утра отправился в город. Оставшиеся, зная ворчливый нрав вожака, не стали зря самовольничать, занимаясь своими делами.
Раскрасневшаяся от бега Нин, утомившись уже снова сидела на тростниковой крыше возка, не опасаясь отходчивого великана, и подшивала поизносившиеся наряды, Хувава бродил тут же внизу, и расчищал становище. Лицедеи на протяжении многих лет играли одни и те же образы, поэтому по негласным законам помимо личных имен, данных при рождении, у них были вторые – имена их образов, которые со временем становились родными. Нин например, уже и не помнила как ее назвали при рождении: мать при разговорах, чаще просто обращалась к ней – думму-сал (доченька), а отец называл своей эрес или нин, как будто предопределяя ее будущее (Думал ли он, что через несколько лет, от удачного воплощения его дочерью высокочтимых жен и цариц, и самой госпожи небес, будет зависеть, прибавиться ли в ее суме ячменной лепешки?), маленький братик тоже называл ее просто – нин (сестра), а после, самое безобидное прозвище, которое она слышала от людей, было попрошайка, и только с появлением бродячих шутов, снова появилось это забытое и до боли родное – Нин. Тогда, как раз некому было играть вельможных жен и хозяек, а жена старшины этой скоморошьей дружины – своенравная Аль-Эги, ни в коем случае не желала менять образ томных царевен на зрелых женщин. Но может, Пузур заметил тогда в маленькой девчушке, что-то толкнувшее его через двунадесять две лун, как только стало возможным, предложить ей бывать наряду с Эги – самой всемилостивейшей госпожой; впрочем, Эги ревностно относящаяся к любому соперничеству, этому яростно противилась, но муж здесь проявил твердость. Так и повелось у них с тех пор: юных красавиц и застенчивых барышень играла зрелая гашан, а заботливых жен и сварливых теток – отроковица саг-гемме. Потому и стали теперь ее называть Аль-Нин, или просто – Нин.
Гир – бывший вояка, не по своей воле ушедший на покой, под чьей охраной находился их небольшой стан, разведя костер и время от времени помогая с обедом старой знахарке, сидя на передке, старательно подправлял снаряжение. Он приостановил свое занятие, прислушиваясь во что-то отдаленное, и, соскочив с престола, всполошил маленькое становище, призывая немедленно убирать возок с дороги. Его опасения были не напрасны: мимо них, сметая все на пути, на волокуше протащилась городская стража, увозя бессознательное тело очередного злодея. Нин не встречалась с ними так близко, старательно избегая подобных встреч, теперь же поневоле она была рядом, так близко, как только можно, успевая разглядеть разбитое от побоев и залитое кровью лицо. Приглядевшись в него, она охватилась каким-то странным чувством, будто вместе с этим вернулось что-то родное, откуда-то из далекого прошлого, и даже не из счастливого детства, а откуда-то еще, откуда-то не из этого мира. «Что с ним будет, когда повозка исчезнет за поворотом? Что с ним сделают там?» – Тревожно думалось ей, когда она провожала взглядом, удаляющиеся сани для перевозки разбойных. Ей сейчас, впервые не хотелось, чтобы она пропадала из виду.
4. Божественная воля
Схватившись в схватке, мужи из всех сил пытались повалить друг друга, но по их лицам заметно было, что никто из них не в силах взять вверх, настолько много в них читалось отчаяния одновременно с непримиримым ожесточением. Жилы поверх мышц, скатавшихся в тугие узлы, под напряжением, кажется, вот-вот готовы разорваться, как разрывается переполненный пузырь. Они же, вцепившись крепкими пальцами своих могучих рук, готовы разорвать один другого. В этом сплетении тел, казалось, сошлись друг против друга все силы вселенной: огонь – вода, свет и тьма, небесное и земное, людское и животное, созидание и разрушение. Благородное лицо, искаженное яростью одного и звериный оскал другого, ясно давали понять, кто здесь есть кто.
– Что досточтимый абгал, скажет об этом? – Победно улыбаясь, спросил старый ваятель, отрывая ошеломленного гостя, от созерцания творения.
Абгал, отойдя от оцепенения, ответил не сразу, продолжая разглядывать с открытым ртом запечатленную ваятелем борьбу сил.
– Кто мог сделать такое? Разве вообще, подвластно человеку божественное? – Только и мог спросить видевший многое старик.
– Досточтимый абгал прав, это не дело рук человеческих. А чьей? – Как бы сам себя, вопрошая, начал рассказ ваятель. – Ты знаешь, сколько лет уже, я вырезаю, леплю и отливаю во славу богов и для блага людей, но мне всегда хотелось создать что-нибудь действительно бессмертное, такое, отчего я мог бы сказать, что да, я прожил жизнь свою не зря. И вот, прохаживался я как-то вдоль реки, чтобы разведать, где можно найти хороший камень или глину для своего творения, и вспомнил, что где-то здесь в лесу, есть место, где когда-то в пору моей молодости, я знал, была податливая и светлая глина, а такая, как известно для ваяния самая пригодная… Удивительно, как раньше я туда, еще не заглянул… Правда должен сказать, до сей поры, я не мог еще знать всей прелести жизни, чтобы сотворить что-то стоящее, а для обыденного сойдет и суглинок с оврага… О чем это я говорил?… Да. И так незаметно для себя, набрел на бурелом леса. Побродив там, я уже отчаялся было найти заветное место, как вдруг мне в глаза бросилась странная чета. Возвышаясь посреди поляны, крепко сцепившись друг с другом, как два исполина, стояли обдуваемые всеми ветрами – дерева дуба и тополя, волей самого Энлиля дивно сплетенные между собой. Приглядевшись, я узнал в них самих богоравных братьев, сошедшихся в смертном поединке, еще до того, когда они стали называться братьями, в то время, когда по молитвам людей, великой Аруру – был явлен на землю звероподобный образ Энкиду. И хоть я не работаю по дереву, я сказал, что это чудо и приказал взять их в мой дом.
– Это правда? Оно так и росло?
– Конечно, мне пришлось внести свои правки, чтобы открыть людям глаза, на то, что видел я. Но ведь я руководствовался волей богов, явивших мне это чудо.
– Не думаю, что жрецов и круг Энлиля, удовлетворят такие доводы. – С сомнением сказал абгал.
– Почему нет?! То, что я сделал их тела и лица более выразительными, не означает, что сотворены они не богами! – Горячо начал доказывать свою правоту ваятель.
Еще раз, взглянув на творение, абгал с еще большим сомнением возразил:
– Нет. Поначалу у меня еще были сомнения, как примут эту дивность наши уважаемые старцы, но теперь, когда я знаю, что это дело рук человеческих, я теперь боюсь не столько за самих истуканов, сколько за сотворившего их. Нашим старцам не ведомы красоты жизни. По их мнению, в изваяниях все должно быть чинно и нарочито строго, как ваяли прежде, даже если они изображают не богов, а людей. Сколько раз мне приходилось терпеть это. Я уж, не говорю о том, с какой ненавистью встретят твое творение другие чудотворцы: ваятели и художники.
– Божественное!! Божественное!! – Вскричал обиженный творец. – Я сказал, что я лишь раскрыл людям божественную сущность творения! А это не рукотворение!
– Пусть так. Я, тебе поверю, поверит народ, может быть, поверят даже вельможи, но поверит ли совет, а хуже всего, примут ли это уважаемые зодчие. Мой тебе совет: уничтожь это творение. Уничтожь, пока никто не прознал, про то, что ты сотворил…. Я говорю это с болью в сердце, ибо оно наполнено любовью к тебе, но еще жальче мне это дивное творение, пусть не сотворенное богами, но я верю, подсказанное ими. И не спорь, ибо сотворенное человеком чудо, куда ценнее божественного, ведь богам легко сотворить чудо, но смертному – кажется невозможным, и тем важнее, когда кто-нибудь из смертных, своим трудом и прилежанием добивается божественного, и смущает умы тех, кто подобно застоявшейся воде стоит на том, что человеку недоступно дивное. Это не значит, что я не признаю в самом человеке огня божественного взора, но…
– Хватит!!!.. Замолчи!!!.. – Трясясь от негодования, вскричал придворный зодчий. – Что можешь знать о божественном, ты – тайный поклонник Тиамат?!
– Погоди, я не…
– Я давно подозревал в тебе безбожие, но никак не находил этому подтверждения. Но теперь я точно вижу, что ты мерзкий богоборец.
– Что ты, говоришь такое?? – В ужасе промолвил старик, не ожидавший от старого друга таких слов. Он прекрасно знал, что ждет того, кого уличат в безбожии, но при этом, сейчас это его волновало меньше всего. Больше его удручало то, во, что превратили его друзей и всех людей, эти бесконечные словоблудия государевых жрецов и их приспешников. Даже и он – его давний друг, подпал под их влияние. – Ты же знаешь, что это неправда. Да и что было бы, если даже это было бы так?
– Что было?! Да безбожник, хуже иноверца! Иноверец имеет веру в бога, пусть в своего бога, но верит, а значит, в нем есть душа и потому он человек, а вы безбожники – против бога, и потому твари бездушные.
– И даже лучше те иноверцы, чьих богов мы почитаем исчадием зла, и которым в кровавую жертву они приносят сердца наших добрых единоверцев?
Зло промолчав, на замечание человека называвшего его другом, и не находя, что ответить, ваятель еще больше воспалился:
– Вы… вы… в вас нет сострадания, вы лишены любви, вы не цените дружбу, у вас нет чувства долга и родины.
– Друг мой, прости меня, если мое беспокойство о тебе, задело твои чувства, но клянусь богами, клянусь Энки – мудрейшим из богов. – Попытался уладить все миром, старый мудрец. – Что я лишь боялся за твою судьбу, из-за созданного тобой творения.
– Скажи лучше, что зависть одолевает тебя. Тебе ведь ни разу не удавалось закончить начатое.
– Разве стал бы я утверждать, что это твое творение, если бы завидовал? И я не пойму, что тебя так разозлило в моих словах. Но, что бы это ни было, прими мои извинения, и пожмем же друг другу руки в знак примирения. Ты ведь мне так и не сказал, нашел ли ты ту самую глину.
Замкнувшись в себе, друг его молниеносно изменившийся, сухо отрезал:
– Уйди.
На свою попытку вразумить его, абгал лишь снова слышал, сухое: «Уйди».
– И это ты, мой друг. Что с тобой, я не узнаю тебя? О боги, что творится с людьми в нашем мире? О Энки, вразуми их, только ты в силах сейчас им помочь. – Сказал в сердцах старик, удаляясь.
***
Потянув телом Аш, убедившись, что ничего не сломано, попытался повернуться на другой бок. Сторона, на которой он лежал, онемела и неприятно покалывала, поэтому он захотел сменить положение. Пошевелив распухшими губами, он почувствовал во рту неприятный привкус застоявшейся слизи смешанной с кровью. Все тело ныло, а голова ходила ходуном и даже при легком движении начинала гудеть и раскалываться, отчего больно даже думать, а от сухости во рту одолевала жажда. Он прощупал холодный пол рядом, в надежде найти воду, чтобы утолиться, но тщетно. Единственное спасение – постараться забыться, но мысли упорно лезли в голову. Думалось почему-то не о том, что с ним стало сейчас, вспоминалось прошлое. Смутно выступали образы матери и людей, с той, казалось уже чужой, не его жизни. Странно, он ведь тогда не был уже ребенком, ему было уже почти четыре тысячи дней, около ста тридцати месяцев, двадцати времен года или десяти лет. Он должен был все это хорошо помнить, но помнил только смутные обрывки из прежнего, будто кто-то смыл все это из его памяти, как смывают с ног придорожную пыль после долгих странствий. Но отчетливо он помнил, что удивительно и страшно, лишь одно: тот день, когда лишился всего, что было родным и не удерживалось в памяти. А из того хорошего, сохранилось очень мало, но достаточно, чтобы помнить кто он и откуда пришел в этот чуждый для него мир, и чего его лишили когда-то, те – которые называют себя людьми образованными и милосердными, а его и таких как он – кровожадными дикарями.
Время от времени, в его видениях всплывал ласковый взор лазоревых глаз и смущенная, даже виноватая отчего-то улыбка. И тогда он вспоминал и свою мать с вечной печалью на лице, и того, к кому матушка относилась не как все, с благоговейным трепетом, но в ней он замечал какую-то странную боль к этому человеку, такую же, пожалуй, какая связывала их. Он помнил, как пугал его один только взгляд из-под сведенности черных бровей, которым волхв порождал в людях не только страх, но и безмерную любовь. Впрочем, были и те, кого не затронули его черные чары, хоть он и был первым жрецом их бога, имя которого его память не сохранила. В памяти сохранилось, как старая безумная знахарка, не единожды обвиняла их вождя, в котором страшно даже было усомниться, в похоти. Он помнил, как старался не попадаться ей на глаза, так как лишь увидя его, она шипела, что и он порождение блуда и колдовства матери, а место окольным с окольными. Но никто не трогал старую ведьму, и не наказывал за хулу на жреца, не внимая словам обезумившей старухи. Вспоминался и тот – последний день из прежнего: Последний день страны, последний день его народа, последний день счастья, конец жизни. Перед его глазами, до сих пор стояли: столб пожарищ, крики ужаса, плачь женщин и детей и их предсмертные стоны, и хрипы умирающих. Все вокруг рвалось и металось, и некуда было спрятаться от поражающей длани пришельцев. Но мальчику, считавшему себя уже взрослым мужем, несмотря на малый для его возраста рост, зазорным казалось, прятаться от злобных и бесчестных врагов, не гнушавшихся убийством женщин и детей. Он первым делом бросился искать свою мать, чтобы защитить ее от кровавых объятий незваных гостей. Добежав до берега реки, где женщины заготавливали выловленную кукхулунскими рыбаками рыбу, и не застав ее, он собрался уже бежать обратно, как тут голова его уперлась в чей-то дородный живот. Тут он только увидел, мощные волосатые ноги, перетянутые не по-йаримийски. Не поднимая головы, мальчик оттолкнулся от него, чтоб свернуть в сторону, но громадный каламский воин, успел ухватить его, ругаясь на своем, непонятном ему тогда языке, и начал наносить побои огромными кулаками. Намахавшись всласть, каламец поднял уже руку, чтоб нанести смертельный удар, но сухие, скрюченные старушечьи пальцы, крепко в нее вцепились. С возмущением, дружинник дернулся, чтоб вырвать руку, но старая знахарка, оказавшись на удивление сильной, не отпускала. Когда же, чтоб высвободить руку, он, выпустив мальчика, замахнулся на нее свободной рукой, она, шипя как обычно, грозно его осадила:
– Ну, давай, ударь старую женщину, как вы, трусливые пришельцы это делаете, в то время когда ваши земли делят между собой ваши хозяева, не жалея голода детей и стариков!
Опешив от неожиданной брани и старческих увещеваний, каламец на время растерялся. Знахарка же, воспользовавшись его замешательством, не давая ему, опомниться, выхватила из-под лохмотий своих многочисленных подолов, нож, выточенный из огненного камня и протертый до прозрачного блеска, и вонзила его, ему прямо в середину груди. Подхватив избитого мальчика, она что-то бормоча под нос, говорила о том, что его мать просила позаботиться о нем. Не имея от обессиленности, возможности сопротивляться, мальчик не мог освободиться от ее цепких объятий, и поэтому ему ничего не оставалось, как послушно следовать за ней. Она же, потащив его к реке, затолкала в старую корзину для рыб, и, не позволяя вылезать, закидывая сверху тростником, говорила с собой, будто беседуя с кем-то:
–Вот, гляди. Я спасаю это дитя, ибо он твой сын, твое порождение, он часть, продолжение тебя, живи в нем и пусть он живет за всех нас.
Оттолкнув корзину и убедившись, что за травами с берега ее не видно, плюясь и ругаясь, старая женщина двинулась навстречу врагам, уводя их подальше от камышей.
Долго пришлось ему сидеть в корзине, ожидая неизвестно чего, пока не выдерживая тошнотворного запаха тухлой рыбы, он не выскочил из корзины и, бродя опьяненный среди тростника и камышей в воде, не потерял сознания. Он не помнил, как оказался в руках у кишцев. Первое, что он видел: как чужеземный воинский начальник в ярких и пышных одеждах, что-то доказывал бледному человеку, показывая в его сторону, а тщедушный старик с несвойственной для мужей безусой бородой, горячо ему возражал. Тогда этот старик, казался ему смешным и даже уродливым своей неполноценной бородой, но мог ли он знать тогда, что этот человек со странной бородкой, заменит ему и мать, и отца которого он не знал. Озираясь по сторонам, он прослезился. Хотя в их племенах, у мужей это и почиталось за стыд, в горе он не стыдился их, ему даже сам шатер казался чуждым и страшным, и тогда тоска, завладевшая им, вырвалась волчьим завыванием. Услышав это, старик прервав разговор, тихо подошел к нему и что-то ласково бормоча, положил на его плечо, осторожно, не желая напугать, поверх покрывала, свою тонкую, жилистую руку.
Старику все же, не было позволено взять его в свой храм Энки в Шуруппаке, равно как, и не разрешено обучаться его приемышу вместе с детьми черноголовых в доме обучения писцов в Нибиру. Сама мысль, что великими знаниями их предков может завладеть чужеземец, пугала жрецов и благородных вельмож, а уж допустить дикаря управлять и овладевать умами черноголовых, казалась кощунственной. Вместо этого, старому ведуну вод, было предложено отдать мальчика послушником в храм всемилостивейшей Инанны, чтобы позднее, быть может, стать ее бесполым жрецом. Самое почетное звание, которое только может занять чужеземец в землях благородных. Скрипя сердцем согласившись на воспитании мальчика в женской обители, абгал со своей стороны, поставил условие не раскрывать происхождение его приемыша и заручился клятвенным обещанием верховной жрицы, чтобы он не подвергался усечению и по достижение совершеннолетия, юношей смог покинуть храм, чтобы после сделаться ему помощником. При этом однако, не оставил намерения обучать найденыша, при каждом удобном случае проводя с ним свои уроки в пределе писцов, и передавая знания полученные им самим когда-то в храмах у мудрецов-алга, почерпнутые в древних письменах хранящихся там, и те к которым привел его жизненный путь и бесконечные опыты в клетях.








