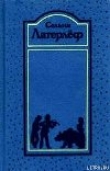Текст книги "Девочка из Морбакки: Записки ребенка. Дневник Сельмы Оттилии Ловисы Лагерлёф"
Автор книги: Сельма Оттилия Ловиса Лагерлеф
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Поездка в церковь
Как же замечательно ездить в церковь!
Прежде чем выберешься на ровную площадь перед церковью, надо одолеть крутой склон, но конюх нахлестывает лошадей, так что они мчатся в гору крупной рысью. Обыкновенно на низкой церковной ограде, ожидая начала богослужения, сидит множество народу, а увидев, что подъезжают господа из Морбакки, все встают, кланяются и делают книксен, что, как нам кажется, очень славно. Множество людей толпится и на самой площади, и на дороге, они очень спешат посторониться, когда мы подъезжаем. Маменька кричит конюху, чтобы правил поосторожнее, папенька же сидит со шляпою в руке, здоровается направо-налево и только смеется, знает ведь, что Янссон ни на кого не наедет.
Останавливаемся мы перед приходским домом, там есть комнатка, где все желающие могут пригладить волосы, отряхнуть одежду после дороги, хотя, кроме господ, никто туда не заходит. В этой комнатке мы обычно встречаем тетю Августу Вальрот с Хильдой и Эмилией и вистебергскую г-жу Нильссон с Эмилией и Ингрид. Пока находимся в приходском доме, мы веселимся и болтаем обо всем на свете. Но когда снова выходим на церковную площадь, благоговейно умолкаем – такой в Эстра-Эмтервике обычай.
Собираясь в церковь, маменька всегда берет с собою большой букет и, наведавшись в комнатку приходского дома, идет на кладбище положить цветы на могилу бабушки, мы с Анной конечно же идем с нею. Маменька подбирает сухие листья, нападавшие на траву, немножко подправляет куст белого шиповника, растущий у могилы, потом читает молитву и кладет букет к надгробию.
У меня была сестренка, она умерла, и я никогда ее не видела, а папенька и маменька очень ее любили. Она похоронена рядом с бабушкой, и маменька всегда вынимает из большого букета несколько самых красивых цветков и втыкает их отдельно в уголке лужайки.
Разумеется, я понимаю, для кого эти цветы, но волей-неволей задаюсь вопросом, вправду ли маменька может желать, чтобы у нее была еще одна дочка. Мне кажется, у нее столько хлопот с починкою, штопкою, шитьем и вязанием для Анны, Герды и меня, что она бы нипочем не справилась.
С кладбища мы идем прямо к церкви, и, заметив знакомую крестьянку – к примеру, мамашу Катрину из Вестмюра, или мамашу Бритту из Гаты, или мамашу Катрину дочь Иона Ларссы из Оса, или мамашу Майю из Крестболя, или мамашу Черстин из Нижней Морбакки, – маменька непременно останавливается, здоровается и говорит несколько слов. Маменька бывала у них на похоронах и на свадьбах и знает, каково им живется, а оттого знает и что сказать каждой.
В церкви мы, само собой, садимся на переднюю скамью на хорах, ведь господам полагается сидеть именно там. И сидим мы всегда на левой стороне. Сидеть по правой стороне не годится, это места для мужчин. Даже если на женской стороне всё занято, а на мужской свободно, все равно переходить туда нельзя. Лучше уж простоять всю службу на ногах.
Устроившись на скамье, мы, склонив голову, читаем молитву и только потом осматриваемся. Проверяем, за органом ли звонарь Меланоз, и на месте ли, как обычно, рядом с ним г-н Альфред Шульстрём, лавочник из Эльввика, и заняли ли церковные служки свои места на маленькой скамье сбоку от алтаря, и сидит ли г-жа Линдегрен из Халлы на пасторской скамье прямо под кафедрой. Кроме того, примечаем, стоит ли в дверях ризницы Ян Аскер, церковный сторож, и следим, не делает ли он знак, что все прихожане собрались и можно начинать службу. Еще мы смотрим, выставлены ли на черных досках номера псалмов и виднеется ли из-за органа пола сюртука надувальщика мехов, удостоверяемся, что и он на своем месте. Убедившись таким образом, что все в порядке, мы уже не находим себе никаких занятий до конца богослужения.
Оно конечно, замечательно сидеть на передней скамье хоров, если бы не один изъян: здесь не слышно ничего, что говорит внизу пастор. Ну, первые слова службы до покаяния в грехах еще слышны, но дальше всё вроде как проглатывают стены и потолок. Слышно, как что-то говорят, только вот слов разобрать невозможно. По крайней мере, мы, дети, не разбираем.
Когда вступает орган, мы его, разумеется, слышим, хотя опять же и тут радости мало, потому что в эстра-эмтервикской церкви никто и никогда петь не осмеливается. Мы держим в руках книги псалмов, следим по ним, но рта никто из нас не открывает. Однажды, когда была маленькая и не понимала, как оно полагается, я во весь голос пропела целый стих, ведь, по-моему, петь так замечательно, и дома я пою целыми днями. Но перед началом следующего стиха Анна наклонилась ко мне и попросила перестать. «Ты разве не видишь, как Эмилия Нильссон смотрит на тебя, оттого что ты поешь?» – сказала она.
Поет в церкви один только Ян из Скрулюкки, здешний недоумок.
И иной раз я думаю, уж не сердится ли звонарь Меланоз на прихожан, ведь он играет для них один псалом за другим, а они не поют, и в отместку он вдруг что-то делает с органом – и инструмент гремит, гудит, воет так мощно, что нам кажется, будто церковная кровля вот-вот рухнет на нас. Звонарь Meланоз – славный человек и большой охотник до проказ, так что вполне способен учинить такое.
Однако то, что я не слышу проповеди, вправду меня огорчает, потому что пастор Линдегрен живет в Халле, совсем рядом с Морбаккой, и мы все с ним дружим. Он всегда очень ласков с нами, детьми, а вдобавок еще и красивый. Всегда красивый, но особенно когда стоит на кафедре и читает проповедь. Говорит страстно, взмахивая большим носовым платком, который держит в руке, и чем дольше говорит, тем краше становится. И чуть не всякий раз, читая проповедь, умиляется до слез. А я тогда думаю, уж не плачет ли он оттого, что, как бы ни проповедовал, мы не делаемся лучше, не обращаемся к Богу всеми помыслами. Только ведь, во всяком случае для нас, сидящих на передней скамье на хорах, не очень-то легко следовать его увещеваниям, мы же не слышим ни единого слова.
Большие, конечно, привыкли скучать, так что для них это, пожалуй, сущий пустяк, а вот нам, детям, трудновато чем-то себя занять. Эмилия Вальрот сказала мне, что обычно считает шляпки гвоздей на потолке, а Ингрид Нильссон говорит, что высматривает, как часто крестьяне внизу угощают один другого понюшкой табаку. Эмилия Нильссон – та складывает цифры на досках с номерами псалмов, а покончив со сложением, вычитает, и умножает, и делит. По ее словам, пока она проделывает эти арифметические действия, в голове, по крайней мере, нет грешных мыслей. Ведь было бы куда хуже, если бы она глядела на красивую шляпку Хильды Вальрот и мечтала иметь такую же. Но, услышав от Анны, что она обычно заучивает наизусть псалмы, мы все соглашаемся, что это в самом деле лучше умножения и вычитания.
У меня нет привычки ни считать, ни высматривать, кто нюхает табак. Я сижу и размышляю, что будет, если в церковную башню ударит молния и начнется пожар. Тогда все прихожане перепугаются, кинутся наутек и возникнет жуткая давка. И тут я, сидя на своем месте в первом ряду хоров, во весь голос призову их к спокойствию. А потом построю всех длинной цепочкой, точь-в-точь как в «Саге о Фритьофе»: «Вяжет тотчас с побережьем храм длинная цепь людская». [19]19
Перевод Д. Бродского.
[Закрыть]И благодаря своей находчивости я потушу пожар, и обо мне напишут в «Вермланд стидниген».
Когда служба заканчивается, маменька, Анна и я отправляемся с визитом к старым мамзелям Мюрин.
Они живут на чердаке школьного здания, расположенного аккурат возле церкви, и мы с Анной твердим, что нипочем бы не рискнули жить так близко от кладбища. Ведь тогда бы выходили из дома только среди дня, но никогда – после наступления темноты, иначе-то кладбищенские привидения придут и заберут нас.
Когда-то – правда, задолго до нас – мамзели Мюрин жили в Херрестаде. Сейчас, думаю, они на самом деле очень бедны, но никто этого словно и не замечает, к ним относятся в точности так же, как если бы они и теперь были хозяйками Херрестада.
Лестница, ведущая в комнаты мамзелей Мюрин, по воскресеньям всегда дочиста выскоблена и посыпана свежим можжевельником, поскольку они ожидают, что господа, побывавшие в церкви, поднимутся к ним. Когда маменька поднимается наверх к мамзелям Мюрин, у нее в ридикюле непременно припасена бутылочка сливок или фунт сливочного масла, и она мимоходом оставляет все это на кухне. А на лестнице мы почти всегда встречаем крестьянок, которые поголовно все несут что-нибудь под мышкою и украдкой оставляют на кухне.
Живут мамзели Мюрин в просторной и уютной комнате, всегда сидят нарядные и аккуратные в плетеных креслах, ждут визитеров и знать не знают о том, что оставлено у них на кухне. Обе в больших накидках и в черных тюлевых чепцах, но мамзель Мария Мюрин – высокая, седовласая, и пальцы у нее скрючены подагрой, а мамзель Рора Мюрин – маленькая, темноволосая, и руки у нее здоровые, легко гнутся.
Как только маменька входит в комнату, она принимается восхищаться гардинами, скатертями, салфеточками и покрывалами на кроватях. Мамзели Мюрин сделали все это собственными руками, на спицах связали, притом особенными узорами. И сей же час мамзель Рора принимается рассказывать, сколько у них заказов на гардины да скатерти. Ужас как много – чего доброго, не управишься к сроку. Совершенно удивительно, в каком восторге все в Эстра-Эмтервике от этакой вязки, твердят обе. И тут маменька, пользуясь случаем, говорит, что зашла-то как раз по поводу вязаных вещиц. Очень ей нужна большая круглая скатерть на стол, что стоит в зале перед диваном. Стол из ольхового корня, говорит маменька, столешница очень красивая, вот и хочет она уберечь ее от царапин. А для этого хорошо бы постелить на него скатерть. Однако у мамзелей Мюрин, пожалуй, слишком много работы, и заказывать скатерть не стоит.
Мамзель Мария как будто бы немного в сомнениях, но мамзель Рора куда решительнее, она спешит выдвинуть ящик комода, до краев полный вязаными вещицами. Маменьке предлагают выбрать, скатертей тут сколько угодно. А маменька ну очень рада, что не придется ехать домой с пустыми руками. Она покупает не только скатерть на круглый стол, но еще и две салфеточки на спинки кресел-качалок.
Когда с этим покончено, маменька собирается уходить, однако мамзели Мюрин говорят, что раз она сделала такую большую покупку, то надобно по этому случаю угоститься кофейком. Маменька отнекивается, но тщетно, волей-неволей должна остаться.
У мамзелей Мюрин есть брат, богатый фабрикант, живет он в Люсвике, при фабрике «Бада». А три дочери фабриканта Мюрина порой приезжают навестить старых теток и тогда привозят с собой огромное количество кофейного печенья и кексов, чтобы у тетушек было вкусное угощение для воскресных гостей. Эти племянницы такие щедрые, что мамзелям Мюрин на целый год хватает и выпечкой заниматься незачем.
Когда вносят кофейный поднос, мы с Анной очень радуемся, ведь на нем стоит большое блюдо с кексами и печеньем, с виду все жутко аппетитное. Но маменька сразу же заводит с мамзелями Мюрин разговор об их славных племянницах, спрашивает, когда же они приезжали сюда последний раз. Тут-то мамзели Мюрин и сообщают, что племянницы не навещали их уже год, с прошлой осени.
И маменька берет себе к кофе всего-навсего несколько сухариков, а нас предупреждает, чтобы не жадничали и не накладывали вокруг чашки полное блюдце печенья. Не грех вспомнить, что мамзелям Мюрин, наверно, и самим хочется отведать вкусных печений, подаренных племянницами.
Раз маменька так говорит, мы, конечно, берем лишь несколько самых маленьких печеньиц.
Тем не менее, по возвращении домой мы все же довольны, что побывали в церкви. Хотя и псалмы не пели, и проповеди не слышали, и печеньиц съели у мамзелей Мюрин только парочку-другую, мы все же чувствуем, что маменька словно бы права, когда говорит, очень, мол, хорошо провести несколько часов в Божием доме.
Поцелуй
Ужасно огорчительно, что осенью Алина Лаурелль от нас уедет.
Алина говорит, ей недостает знаний, чтобы заниматься с нами и дальше. Она может учить нас французскому, а нам надобно освоить еще английский и немецкий. И в игре на фортепиано она не так искусна, как следовало бы. Со стороны Алины весьма благородно уехать ради того, чтобы мы получили больше знаний, нежели может дать она, но мы все равно огорчаемся.
У Алины есть двоюродная сестра, Элин Лаурелль, которую она очень любит. Та знает и английский, и немецкий, да и на фортепиано играет превосходно. Вот Алина и устроила так, что Элин Лаурелль приедет сюда и станет нашей гувернанткой, когда она сама покинет Морбакку. Однако ж, как мы слышали, Элин целых тридцать лет, а раз она такая ужасно старая, то, наверно, не в пример Алине, не захочет играть с нами, и наряжаться, и участвовать во всех веселых проделках. Вдобавок она некрасивая. Я однажды видела ее на празднике у пастора Унгера в Вестра-Эмтервике, и мне она показалась дурнушкой.
Сама Алина переедет в Вестра-Эмтервик, станет гувернанткой при малышах Унгерах. Они куда меньше нас, так что с ними Алине есть чем заняться. Кстати, г-жа Унгер из Beстра-Эмтервика доводится Алине тетей по матери, и Алина крепко ее любит, и мы иной раз думаем, уж не уезжает ли она из Морбакки оттого, что предпочитает жить у родной тети.
Эмма Лаурелль с нею в Вестра-Эмтервик не поедет, останется на несколько месяцев здесь, в Морбакке, будет учиться у Элин. А на следующий год вернется к своей маменьке в Карлстад и поступит в женскую школу. И мы рады, что хотя бы Эмма останется, потому что она нам как сестра. У нас просто в голове не укладывается, что Эмма Лаурелль родилась не здесь, не в Морбакке.
По-моему, Алинин отъезд папеньке и маменьке не по душе. Они ничего не говорят, но Анна утверждает, что никто из них не верит, будто Алина уезжает оттого, что ей недостает знаний. Им кажется, причина в чем-то другом. И я тоже так думаю.
Решение об отъезде грянуло как гром среди ясного неба. Минувшей весной, когда Алина поехала домой в Карлстад, и речи не было ни о чем другом, кроме продолжения занятий с нами. Точно так же и в августе, когда она вернулась после летних каникул.
Вернулась Алина аккурат к папенькину дню рождения, как обычно, ведь она считает, нет ничего веселее, чем отпраздновать в Морбакке 17 августа. И была на редкость оживленная, радостная и в тот день, и все время после, пока у нас гостили Афзелиусы, Хаммаргрены, Шенсоны, г-жа Хедберг и дядя Кристофер. Но едва только они разъехались, она заговорила о том, что больше не годится нам в учительницы и хочет уехать.
А мы, дети, думаем, что Алина решительно на себя не похожа. С тех пор как отказалась от места, стала ужасно обидчивой и резкой. Словно раздружилась со всеми нами. И когда мне предстоит урок игры на фортепиано, я по-настоящему боюсь. У меня нет совершенно никаких способностей, но папенька и маменька все равно считают, что умение сыграть при гостях хотя бы вальс или франсез мне отнюдь не помешает. Говорят, повзрослеешь и сама поймешь, какое это удовольствие. Раньше Алине хватало терпения со мной и моею игрой, но теперь она сердится на малейшую ошибку.
И представьте себе, нынче Алина опаздывает к началу послеобеденных уроков! За все четыре года, что она пробыла гувернанткой в Морбакке, такого не случалось, и мы всерьез огорчаемся. Назначен урок арифметики, мы достаем из ящика стола грифельные доски и, пока ждем, затачиваем грифели. Анна говорит, что давеча, проходя через спальню, видела, как Алина разговаривает с маменькой, стало быть, она где-то неподалеку.
Лишь в четверть третьего Алина наконец-то поднимается к нам. И мы сразу замечаем, что все лицо у нее покраснело, обычно так бывает, когда ее мучает головная боль. Она открывает учебник, говорит нам, какие решать примеры, а сама бросается на диван и заливается слезами.
Она не говорит ни слова, только всхлипывает и рыдает, да так, что дрожит всем телом. Мы тоже молчим, сидим со своими грифельными досками. И очень печалимся, что не можем ее утешить, не можем помочь, хотя ужасно ее любим. Но боимся, что она рассердится, если мы попробуем хоть что-нибудь ей сказать.
И считать мы не в состоянии. Не можем думать ни о чем другом, кроме нее, плачущей на диване. В конце концов Анна, собравшись с духом, кладет грифельную доску в ящик и делает нам с Гердой знак последовать ее примеру. Затем мы втроем тихонько крадемся вон из детской, но Эмму Лаурелль оставляем там, поскольку Анна полагает, что ей, сестре Алины, надо остаться.
Потом Анна ведет меня в сад, мы садимся на лавочку, где никто нас не увидит и не услышит, и Анна заводит со мной разговор об Алине.
Второго сентября Анне уже сравнялось пятнадцать, и она всегда была необычайно разумная, маменька и та советуется с нею и обсуждает все на свете. Так вот, маменька сказала Анне, что очень огорчена Алининым решением и не может понять, отчего она уезжает, и спросила у Анны, не знает ли она, в чем тут причина.
Но Анна знать ничего не знала и сейчас говорит, что, как ей известно, Алина любит меня и очень много со мною беседует. И спрашивает, не припоминаю ли я, чтобы Алина говорила что-нибудь особенное про дядю Кристофера.
Сидя на садовой лавочке, я, конечно, очень горжусь, что Анна просит у меня совета по серьезному делу, ведь раньше такого действительно не случалось, но я совершенно не понимаю, что ей хочется выяснить. Ну что особенного Алина могла сказать про дядю Кристофера?
Анна вздыхает, оттого что я этакая глупышка и ничегошеньки не понимаю, а потом начинает объяснять мне, в чем дело. Говорит, что минувшим летом, когда здесь были гости, маменька, и тетя Георгина Афзелиус, и тетя Августа из Гордшё изо всех сил старались, чтобы дядя Кристофер обручился с Алиною Лаурелль. Они полагают, что дядя Кристофер достаточно ходил в холостяках, не мешает ему воспользоваться случаем и заполучить такую отличную девушку, как Алина. Вдобавок он купил себе небольшую усадебку под Филипстадом – Хастабергет, так она называется, – а потому самое время и женою обзавестись. Алина подходит как нельзя лучше – умная, милая, бережливая, аккуратная, к тому же характер у нее легкий, и пошутить умеет, и на язык остра, а уж маскарады, спектакли и светскую жизнь любит не меньше, чем сам дядя.
Рассказ Анны повергает меня в изумление. Я не могу вымолвить ни слова, и потому Анна продолжает:
– По-моему, маменька и тетя Георгина немножко говорили и с дядей Кристофером об Алине, и он несомненно с ними согласился, потому что нынешним летом обходился с Алиною особенно учтиво и внимательно. И несомненно именно потому, что дядя Кристофер держался столь мило и учтиво, Алина была так оживлена, до самого его отъезда, ведь дядя Кристофер, коли захочет, вполне может влюбить в себя молодую девушку.
Анне пятнадцать, и она, конечно, разбирается в подобных вещах куда лучше, чем я, мне-то всего двенадцать. Мне раньше и в голову не приходило, что кто-то может влюбиться в дядю Кристофера, так я Анне и говорю.
– Сама подумай, как замечательно он рисует, – говорит Анна, – и как замечательно играет, и какой он славный, и сколько может рассказать о Германии и Италии, да и не старый совсем. Лишь на несколько лет старше Даниэля.
Услышав эти слова Анны, я вдруг вспоминаю кой-какие вещи, каких до сих пор толком не понимала.
Дело в том, что после 17 августа, пока наши гости остаются в Морбакке, мы обычно устраиваем по вечерам какое-нибудь развлечение. Иногда выносим из залы всю мебель, и дядя Ури-эль учит нас танцевать старинные упландские сельские танцы, ведь дядя Уриэль вырос в Энчёпинге. А не то дядя Кристофер поет песни Эрика Бёга, [20]20
Бёг ЭрикНиколай (1822–1899) – датский поэт-песенник, писатель и журналист.
[Закрыть]или он и г-жа Хедда Хедберг надевают студенческие фуражки и распевают «Однокашников», [21]21
«Однокашники» – 30 дуэтов Гуннара Веннерберга (1817–1901), шведского политика, поэта-скальда и композитора.
[Закрыть]или же мы уговариваем тетю Нану Хаммаргрен рассказывать истории с привидениями.
И вот теперь мне вспоминается вечер, когда дядя Кристофер импровизировал. Началось с того, что дядя Уриэль надел на голову широкополую женскую шляпу, набросил на плечи мантилью и спел «Трепетную Эмелию». А смотреть, как дядя Уриэль изображает юную девицу, стыдливую и смущенную, было до невозможности уморительно, ведь дяде Уриэлю уже шестьдесят. Когда же дядя Уриэль допел до конца, дядя Кристофер остался за фортепиано, аккомпанировал-то, разумеется, он, а немного погодя заиграл снова, в совершенно другой манере. Нот на пюпитре не было, поэтому я спросила у тети Георгины, что он играет. Тетя Георгина сказала, чтобы я не шумела, и объяснила, что дядя импровизирует.
Я понятия не имела, что значит «импровизировать», но смекнула, что это нечто особенное, поскольку остальные сидели, благоговейно притихнув. Дядя Кристофер играл долго, часы в зале пробили одиннадцать, и я все удивлялась, как же он умудрился выучить наизусть столько нот.
Пока дядя Кристофер играл, я случайно бросила взгляд на Алину Лаурелль. Как и все остальные, она сидела не шевелясь, только лицо было полно жизни. Она словно слушала чьи-то речи. То улыбалась, то опускала глаза, то заливалась румянцем. И когда я посмотрела на Алину, то сообразила, что ей понятно все, что играет дядя Кристофер, будто он говорит с нею. Мне-то самой его музыка не сообщала ничего, не то что ей.
Вспомнилось мне и кое-что еще. Было это на праздник св. Ловисы, двадцать пятого августа. В этот день мы всегда чествуем тетушку Ловису маскарадом, потому что для нее это наилучшее развлечение. В нынешнем году мы разыграли «Визит графини» г-жи Ленгрен, [22]22
ЛенгренАнна Мария (1754–1817) – шведская поэтесса, автор идиллических и дидактических стихов и сатир.
[Закрыть]представленный пятью живыми картинами, причем на редкость удачно. Алина изображала пробста, утолщила себя, так что сделалась совершенно круглой, и нацепила на голову большой шерстяной парик, а дядя Кристофер был графиней, в шелковом платье со шлейфом, в большой шали белого шелка, в капоре и белой вуали.
Тут надо сказать, что, пока жил в Дюссельдорфе и учился живописи, дядя Кристофер обзавелся пышной бородою, а такую бороду под вуалью никак не спрячешь. Но странное дело, когда дядя поворачивал голову, выпрямлял спину и шевелил пальцами, нам всем казалось, будто перед нами настоящая графиня, и про бороду все забывали.
Когда представление закончилось и мы с Алиной переодевались в детской – я тоже участвовала в представлении, – я спросила, не думает ли Алина, что дядя Кристофер выступил очень потешно.
«Потешно! – воскликнула Алина. – Да, можно и так сказать. Он ведь прирожденный актер».
Она говорила с такой запальчивостью, что я не на шутку испугалась и не посмела больше ни о чем спрашивать.
Алина же продолжала: «Вы все считаете его потешным и думаете об одном: лишь бы он комиковал, а вы могли посмеяться; ничто другое вас не заботит. Но вот что я тебе скажу: очень жаль, что так, ведь твой дядя – гений. Если захочет, он может стать великим художником, или великим композитором, или великим актером. Но это никого не интересует. Вам он нужен просто как шутник-забавник. Никто из вас по-настоящему его не ценит, не дает себе труда разглядеть, сколько в его душе красоты».
После я долго размышляла о том, как взволнованно говорила Алина, но только теперь я подумала: а ведь это может означать, что ей нравится дядя Кристофер.
И когда я рассказываю Анне про этот случай и про импровизацию, Анна говорит, что, как ей кажется, все это свидетельствует, что Алина влюблена в дядю Кристофера.
Еще Анна говорит, что в день своего отъезда дядя Кристофер, как ей кажется, посватался к Алине, но она ему отказала.
– В последнюю минуту возникло какое-то препятствие, – говорит Анна, – хоть и непонятно, какое именно, он же ей все-таки нравится.
А сегодня Анна видела, что пришли письма из Филипстада, и она думает, что, когда Алина опоздала на урок арифметики, маменька говорила с нею о дяде Кристофере. По словам Анны, Алина бы так не плакала, если бы дядя Кристофер ей не нравился. И все же она ему отказывает. Нет, нам Алину не понять.
Довольно долго мы сидим в размышлениях, но безрезультатно, в конце концов утешения ради подбираем паданцы под папенькиными астраханскими яблонями.
В голове у меня словно застрял большущий ком. И я от него не избавлюсь, пока не додумаюсь, почему Алина такая странная.
Вечером, примерно с шести до семи, в детской обычно никого нет, я иду туда, достаю учебник и сижу будто над уроком, а на самом деле думаю об Алине.
Немного погодя нянька Майя приходит стелить постели и явно удивляется, что я здесь, гляжу в книгу и ни слова не говорю.
– Чего это с вами, барышня Сельма? – спрашивает она. – Неужто повторять велено?
– Нет, – отвечаю я, – просто мне грустно, оттого что Алина уедет.
Об этом нянька Майя не слыхала, хотя обычно она знает все. Она соглашается: вправду печально, что мамзель Алина уедет, ведь «энто человек, в которого впрямь можно втюриться».
Несколько времени нянька Майя молчит, а затем говорит, что диву дается, почему г-жа Лагерлёф отказала мамзель Алине от места.
– Маменька наверное ей от места не отказывала, – говорю я. – Она сама отказалась. Маменька тоже не понимает, почему она уезжает.
Нянька Майя опять молчит. Расстилает простыню, с весьма задумчивым видом подтыкает одеяло на Анниной кровати, потом говорит:
– Я тоже думала, что мамзель Алина вскорости уедет, только мнилося мне, вовсе в другую сторону.
– Это в какую же, а, Майя?
– Ну, я не сумлевалась, что она не к тетке своей отправится.
На это я не отвечаю, сказать по правде, не по душе мне, что няньке Майе все-все про нас известно.
Нянька Майя продолжает стелить постели, молчит, потом глубоко вздыхает:
– Может, оно и к лучшему. Навряд ли ей энто подходит.
Мне становится обидно за дядю Кристофера:
– Чем же это дядя Кристофер для нее нехорош?
Тут няньке Майе явно становится невтерпеж, она бросает стелить постели и подходит ко мне.
– Ладно, расскажу вам, Сельма, что я видала семнадцатого августа, – говорит она.
И нянька Майя рассказывает, что семнадцатого августа случилась незадача: одна из гостий ненароком порвала платье, когда ела в саду ягоды. Имя ее нянька Майя называть не стала, сказала только, что гостья была молодая, красивая и замужняя. Опять же не из нашего прихода, раньше в Морбакке никогда не бывала. А дальше, мол, догадайся сама.
Эта красивая дама, чье имя нянька Майя назвать не пожелала, гуляла по саду вместе с дядей Кристофером и г-жой Линдегрен из Халлы и, когда случилась беда с платьем, испугалась и расстроилась, что вполне понятно. Весь рукав оказался порван, надо зашить, и она думала, что с порванным рукавом очень неловко идти сквозь толпу гостей в большой дом, чтоб сыскать иголку и нитки. И дядя Кристофер предложил ей зайти в папенькину контору, туда можно проскользнуть незаметно, вдобавок сейчас там никогошеньки нет. А г-жа Линдегрен из Халлы вызвалась сходить в большой дом за иголкой и нитками, принести все это в контору и помочь ей зашить рукав.
Красивая дама с благодарностью приняла предложение г-жи Линдегрен, а потом последовала за дядей Кристофером в контору. Г-жа Линдегрен пошла в большой дом, но швейные принадлежности разыскала не сразу, ведь в такой день всё в Морбакке стояло не на своих привычных местах. В конце концов она таки нашла швейную корзинку и чуть ли не бегом поспешила с нею в контору, ведь ей казалось, что она изрядно заставила себя ждать.
Тут надобно сообщить, что в двери конторы есть круглое оконце. Вернее, всего-навсего глазок, чтобы находящийся внутри знал, кому открывает. Но случилось так, что г-жа Линдегрен из Халлы, очутившись перед дверью, заглянула в означенное оконце. Наверно, хотела посмотреть, там ли еще дядя Кристофер и красивая гостья, ждут ли ее, иначе-то и входить незачем.
Вот тогда-то г-жа Линдегрен из Халлы и увидала, что дядя Кристофер и красивая гостья стоят посреди комнаты и целуются.
Г-жа Линдегрен из Халлы совершенно растерялась. Не зайдешь ведь, когда эти двое там целуются. С другой же стороны, красивой гостье необходима швейная корзинка, чтобы зачинить на платье рукав. И в этот миг г-жа Линдегрен заметила няньку Майю, которая бежала через двор по какому-то делу, и подозвала ее к себе. Попросила няньку Майю отнести гостье швейную корзинку и помочь ей зашить рукав, порванный о крыжовенный куст. «Только непременно трижды постучи, Майя, прежде чем отворишь дверь», – велела г-жа Линдегрен.
Нянька Майя так и сделала. Но перед тем как постучать, глянула в дверное оконце и смекнула, отчего г-жа Линдегрен из Халлы не хотела сама занести швейную корзинку. Когда же Майя постучала и как можно медленней открыла дверь, дядя Кристофер стоял у она, а красивая гостья – у печи. Он выглядел как всегда, а она раскраснелась лицом, и прическа была в некотором беспорядке.
До сих пор нянька Майя никому про это не говорила, не осмеливалась, мне первой сказала. Но молчала ли г-жа Линдегрен из Халлы, ей неведомо.
Как только нянька Майя все это выложила, я бегу к Анне и рассказываю ей эту историю.
– Помнишь, – говорю я, охваченная жарким волнением, – вечером накануне отъезда гостей пастор Линдегрен с семейством был здесь и мы пошли проводить их до дома, потому что так дивно светила луна? Помнишь, Алина все время разговаривала с госпожою Линдегрен? Как по-твоему, вдруг госпожа Линдегрен тогда нарочно рассказала Алине про этот поцелуй?
И Анна соглашается со мной: скорей всего, так оно и есть, ведь именно с того вечера Алина очень переменилась.
– Как ты думаешь, может, Алина и отказала дяде Кристоферу оттого, что услышала об этом? – говорю я, по-прежнему с жаркой надеждой.
– Да, по-моему, так и было, – говорит Анна, но вид у нее отнюдь не радостный.
– И наверно, уехать Алина решила от обиды на дядю Кристофера?
– Конечно, – говорит Анна, – это ясно как Божий день.
Я смотрю на Анну. Меня удивляет, что она сидит не шевелясь, и ничуть не рада, и не спешит к маменьке поделиться новостью.
– Ты что же, не расскажешь маменьке, что мы теперь знаем, в чем причина Алинина отъезда? – спрашиваю я.
– Нет, – отвечает Анна. – В нынешних обстоятельствах делать этого, по-моему, не стоит. Алина очень щепетильна в подобных вещах. Она никогда за него не пойдет.
– Ну, это понятно, – говорю я. – Но разве маменька не может попросить ее остаться? Ей же необязательно уезжать от нас из-за того, что дядя Кристофер целовал чужую женщину.
Анна смотрит на меня, и я понимаю, что она считает меня ужасной дурехой.
– Неужели ты не понимаешь, что уезжает она как раз из-за этого поцелуя? – говорит Анна. – Оставаясь здесь, она каждый день будет о нем думать. Вот что ей невмоготу.