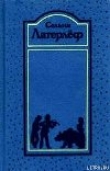Текст книги "Девочка из Морбакки: Записки ребенка. Дневник Сельмы Оттилии Ловисы Лагерлёф"
Автор книги: Сельма Оттилия Ловиса Лагерлеф
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Обет
Ничего нет замечательнее папенькина возвращения домой.
Уехал он на следующий день после того, как мы угодили на толкование Библии, и до сих пор не возвращался. Когда папеньки нет дома, мы изнываем от скуки. За обедом никто не разговаривает, вечерами после ужина никто с нами не играет. Нянька Майя говорит, он разъезжает по округе и собирает налоги, и, по ее словам, отсутствует он всего несколько недель. Однако с тех пор, как нянька Майя, стоя на лестнице в конюшне постоялого двора, любезничала с Ларсом Нюлундом, мы ей не верим, нам кажется, папеньки нет уже который месяц.
Но вот однажды утром маменька говорит, что вечером папенька будет дома, и нас охватывает радость.
Целый день мы при каждом удобном случае открываем дверь передней, выбегаем на крыльцо, прислушиваемся, всматриваемся. Маменька говорит, чтобы мы сидели в доме. Ведь, того гляди, простудимся, но нас это ни капельки не заботит.
Алина Лаурелль нами недовольна, потому что, когда она опрашивает уроки, в мыслях у нас полный разброд.
– Если бы я не знала, кто вечером приезжает, – говорит она, – вы все получили бы замечание.
Герда весь день переодевает кукол. То оденет, то разденет, то опять оденет. И всякий раз ей кажется, они недостаточно нарядны.
Мы с Анной говорим Эмме Лаурелль, что папенька обязательно привезет игрушки и для нее, как и для нас. Не знает она нашего папеньку, если может сомневаться.
В четыре часа, когда занятия кончаются, Алина Лаурелль говорит, что на завтра ничего не задает, ведь она знает, что мы все равно их выучить не сумеем. И мы – Анна, Эмма Лаурелль, Герда и я – спешим вон из детской встречать папеньку. Сперва идем на скотный двор за большим бараном, которого Юхан объезжал для нас в минувшее Рождество, запрягаем его в санки, чтобы все выглядело торжественно. На санках уже толком не прокатишься, но мы знаем, папеньке нравится наша баранья упряжка.
Подумать только, что нам этак посчастливилось – «подфартило», как выражается Эмма Лаурелль! Едва успели проехать по аллее, как услыхали звон бубенцов. И сразу же – едут! Мы узнаём Гнедка, и розвальни, и Магнуса из Вены, и самого папеньку в большой волчьей шубе. Кое-как мы пинками и толчками успеваем спихнуть барана с дороги, он не больно привык ходить в упряжке, чтобы посторониться, повстречав лошадь, наоборот, норовит стать на дыбы, выставить голову вперед и столкнуть лошадь в канаву.
Но как странно – папенька не останавливается, не здоровается с нами! До дома, конечно, рукой подать, однако ж мы думали, что Герда и я или хоть одна Герда переберемся в розвальни и подкатим к крыльцу. Папенька только чуть-чуть кивает, проезжая мимо.
Теперь мы жалеем, что взяли барана, ведь нам не терпится попасть домой, а баран не настолько привык ходить в упряжке, чтобы повернуть, когда натягивают вожжу, мы все четверо должны стать рядом и пихать его в бок, пока он не поймет, что надобно делать.
Из-за этого мы опаздываем встретить папеньку у крыльца, когда он подъезжает к дому. И ведь он не остается на крыльце, не ждет нас! Мы в полном недоумении.
Мы вбегаем в переднюю, но его и там нет. Наверно, он задумал какой-то розыгрыш, думаем мы и прикидываем, не зайти ли в спальню. Но в тот же миг дверь спальни отворяется, к нам выходит маменька.
– Дети, будьте добры, ступайте тихонько в детскую, – говорит она, – папенька болен. У него жар, ему надо лечь.
Голос у маменьки дрожит, и мы не на шутку пугаемся. А потом, когда мы тихонько поднялись по лестнице и вошли в детскую, Анна говорит, что ей кажется, папенька умирает.
Вечерами, когда мы укладываемся в постель, маменька обыкновенно наведывается в детскую послушать, как мы молимся. Мы читаем «Отче наш», и «Господи, помилуй нас», и «В руце Твои, Господи», и «Ангеле Христов». Маменька переходит от кровати к кровати, и мы читаем одни и те же молитвы, сначала Анна, потом Эмма Лаурелль, а напоследок я. Эмма Лаурелль, кроме того, просит Господа хранить ее маменьку, и сестер, и всех добрых людей. Но мы, остальные, эту молитву не читаем, не учили ее, когда были маленькими.
Сегодня вечером маменька, как всегда, заходит к нам, хотя папенька болен, и садится у Анниной постели. Анна читает «Отче наш», и «Господи, помилуй нас», и «В руце Твои, Господи», и «Ангеле Христов», тоже как всегда, но не останавливается на этом, заканчивает как Эмма Лаурелль:
– Господи, храни папеньку моего, и маменьку, и братьев моих и сестер, и всех добрых людей.
Анна говорит так, потому что хочет помолиться за больного папеньку, и маменька это понимает, наклоняется и целует ее.
Потом маменька подходит к Эмме Лаурелль, и та читает «Отче наш», и «Господи, помилуй нас», и «В руце Твои, Господи», и «Ангеле Христов». Затем молится за свою маменьку, за сестер и за всех добрых людей. А под конец говорит:
– Господи, храни доброго дядюшку Лагерлёфа, чтобы не умер он, как мой папенька!
Когда Эмма Лаурелль заканчивает молитвы, маменька наклоняется и целует ее, как целовала Анну. После этого она садится возле моей постели.
И я читаю «Отче наш», и «Господи, помилуй нас», и «В руце Твои, Господи», и «Ангеле Христов», но ничего больше. Я хочу, правда-правда, только не могу вымолвить ни слова.
Маменька молча сидит минуту-другую, ждет, потом говорит:
– Ты не хочешь помолиться Господу, чтобы Он не забрал у тебя папеньку?
Я хочу, очень хочу, знаю, как скверно, что я ничего не говорю, но – не могу.
Маменька еще некоторое время ждет, и я знаю, она думает обо всем, что папенька делал для меня, что ради меня он ездил в Стрёмстад и что благодаря ему я всю зиму провела в Стокгольме и ходила на гимнастику, но все равно не могу вымолвить ни слова. Тогда маменька встает и уходит, не поцеловав меня.
А после маменькина ухода я лежу и думаю, что папенька, верно, умрет, оттого что я за него не молилась.
Может, Господь осерчал на меня за то, что я не попросила Его сохранить моего папеньку, и заберет его у меня.
Что же мне делать, как показать Господу, что я вовсе не хочу, чтобы папенька умирал?
У меня есть малюсенькое золотое сердечко, подарок мамзель Спак, сестры тети Веннервик, и гранатовый крестик. Если я их отдам, то, может, Господь поймет, что я отдаю их ради папеньки, чтобы он остался жив. Только вот маменька вряд ли позволит их отдать. Необходимо придумать что-нибудь другое.
* * *
Приезжал доктор, а после его отъезда маменька сказала, что у папеньки воспаление легких. В отлучке ему случилось заночевать на сырых простынях, а сырые простыни – самое опасное, что только есть на свете.
Ночью Алина Лаурелль помогала маменьке дежурить возле папеньки, и нынче днем она тоже почти все время в спальне. Маменька не знает, что бы она делала без Алины Лаурелль, ведь Алина такая разумная и спокойная. Тетушка Ловиса изнывает от страха, что папенька умрет, и толку от нее никакого.
Алина Лаурелль задает нам уроки, но в детскую не приходит и нас не опрашивает, дает нам решать длинные примеры, но не приходит и не проверяет, правильны ли ответы. В конце концов нам, детям, становится невмоготу сидеть одним в детской, так далеко от всех взрослых. Мы тихонько спускаемся по лестнице – Анна, Эмма Лаурелль и я, – заходим к тетушке Ловисе, в комнату при кухне. Тетушка Ловиса сидит за швейным столиком, читает большую толстую книгу, а Герда, устроившись рядом на табуреточке, шьет кукольное платье.
Анна, Эмма Лаурелль и я забираемся втроем на диван тетушки Ловисы и сидим, не говоря ни слова, только диву даемся, как это Герда в такой день по-прежнему играет в куклы. Впрочем, Герде всего-навсего шесть лет, не понимает она, что папенька при смерти.
А мы, очутившись в комнате при кухне, словно бы немного успокаиваемся. Поголовно все считают, что у тетушки очень уютно. Говорят, узнают в этой комнате давнюю Морбакку. Здесь стоит широкая кровать, на которой спали дедушка с бабушкой и которая от них досталась в наследство тетушке. И напольные их часы в высоком футляре тоже тут, и красивый бабушкин комод, сработанный замечательным аскерсбюским столяром из старых морбаккских яблонь и сирени. Чехол тетушкина дивана бабушка соткала своими руками, а превосходный узор она переняла у тети Веннервик, жены брата. Кресло, в котором сидит тетушка, – кабинетное кресло деда, а зеркало, стоящее на комоде и сейчас завешенное, опять-таки сделано в Аскерсбю. Но высокие деревянные вазы по сторонам зеркала, полные сухих розовых лепестков, куплены тетушкой на аукционе в Вельсетере, где в свое время жила ее сестра Анна, что была замужем за дядей Вакенфельдтом.
Здесь, в комнате при кухне, не найдется ничего, с чем бы тетушка пожелала расстаться, кроме разве что уродливого черного навеса над лестницей в подвал, однако ж, когда папенька говорит, что навес не мешало бы убрать, тетушка отвечает, что лучше его не трогать, ведь он старинный и без него комната сделается другой, неузнаваемой.
Над кроватью тетушки Ловисы висит картина: белая церковь в окружении высоких деревьев и низкая кладбищенская ограда с коваными решетчатыми воротами. Но картина не написана красками, все изображенное вырезано ножницами из бумаги, и создала это произведение тетя Анна Вакенфельдт. Тетушка Ловиса твердит, что все так ловко вырезано и наклеено, а потому картина по-настоящему красивая, но мне кажется, выглядит она как-то бедно, убого.
Вокруг зеркала висят четыре маленькие картинки, нарисованные самой тетушкой Ловисой, когда она училась в омольском пансионе. На одной изображена роза, на второй – нарцисс, на третьей – гвоздика, а на четвертой – георгина, и я нахожу их очень красивыми. Тетушка Ловиса сохранила и ящик с красками, и кисточки, но такую красоту она больше не рисует.
Есть у тетушки Ловисы и еще одна картина, она висит у нас за спиной, над диваном: пухлый мальчуган и пухлая девочка сидят на веслах в маленькой круглой лодочке, где им едва хватает места. Эта картина вышита крестиком по канве, и Алина Лаурелль без устали твердит, что тетушке Ловисе надобно вынуть вышивку из рамы и сделать из нее диванную подушку, но тетушка ничего менять не желает, пусть, мол, все остается по-старому, и вышивка пусть висит, где висела.
Возле окна стоят три высоких олеандра, сплошь в крупных розовых цветах, а на стене висит книжная полочка, где аккурат помещаются сборник псалмов, Новый Завет, «Жизнь в любви» Юхана Микаэля Линдблада и толстая книга, которую тетушка Ловиса читала еще в омольском пансионе, там под одним переплетом было собрано все, что ей полагалось знать из французского языка, географии, шведской и всеобщей истории, естествознания и домоводства.
Тетушка Ловиса вдруг смахивает набежавшую слезинку, однако ничего не говорит, продолжает читать. Герда время от времени встает с табуреточки и спрашивает тетушку, какая отделка для куклина платья лучше – черная или белая.
– Деточка, делай как хочешь! – отвечает тетушка, но немного погодя жалеет о своей резкости и говорит Герде то, что ей хочется знать.
Я все время думаю, как мне поступить, чтобы Господь не забрал у меня папеньку, и тоже очень хочу спросить совета у тетушки Ловисы, но слишком робею.
Немного погодя отворяется дверь кухни, входит экономка с кофейным подносом.
– Выпили бы глоточек кофейку, мамзель Ловиса, – говорит она. – Надо быть, на пользу пойдет в этаких-то печальных обстоятельствах. Не то чтоб поручик помирал, но все же… И как по-вашему, мамзель Ловиса, может, и хозяйке отнесть чашечку?
– Ох, Майя, не в состоянии я нынче пить кофей, – говорит тетушка. Однако тотчас же спохватывается: раз уж экономка потрудилась сварить кофе, отказываться неучтиво; поэтому она откладывает книгу и наливает себе чашку.
А едва только тетушка Ловиса отрывается от книги, я спешу глянуть, какой-такой фолиант она читает. Все прочие книги в доме мне хорошо знакомы, но эту я никогда раньше не видела. Большущая, в твердом переплете коричневой кожи, потрепанном и выцветшем, с большой латунной застежкою. На первой странице напечатано название, но буквы до того чудные, что я никак не могу их разобрать.
– О-о, Библия полкового писаря! – говорит экономка. – Давненько я ее не видала. Все думала, куда ж это она запропастилась.
– На чердаке она лежала, в моем шкафу, с тех самых пор, как маменька умерла, – говорит тетушка Ловиса, – но сегодня я решила принести ее в комнаты.
– Да, мамзель Ловиса, тут вы очень даже правильно поступили, – говорит экономка. – Полковой писарь завсегда повторял, что эта вот книга лучше всех докторов да снадобий, какие есть на свете.
– Верно, ему она была утешением во всех бедах, – согласно кивает тетушка Ловиса. – Помните, Майя, папенька утверждал, будто прочел ее пятьдесят раз?
– А то, – отвечает экономка, – конечно, помню. И представьте, уж как хорошо было засыпать на кухне, зная, что полковой писарь лежит тут и читает Библию! Каждый чувствовал себя спокойно, словно ничего дурного случиться не может.
И когда тетушка с экономкой говорят, что, мол, дедушка прочел Библию пятьдесят раз, я поднимаю голову и спрашиваю:
– Как вы думаете, экономка, Господь любил дедушку за то, что он столько раз прочел Библию?
– Понятно же, Сельма, что любил.
Когда я слышу этот ответ, со мной происходит кое-что странное. Сама я ничего не придумываю. Кто-то словно бы шепчет мне, какого поступка ждет от меня Господь, чтобы папенька выздоровел.
Поначалу я вправду пугаюсь. Книга-то ужас какая толстая! И ведь там сплошь одни только проповеди да наставления! Но это ничегошеньки не значит, лишь бы папенька остался жив. Я складываю ладошки и даю Господу обет, что если Он позволит папеньке выздороветь, то я прочитаю всю Библию. Прочитаю от корки до корки, не пропуская ни единого слова.
И едва я даю этот обет, на пороге появляется маменька, кивает нам, и вид у нее совсем не такой, как вчера.
– Так мило с твоей стороны, Ловиса, присмотреть за детьми! – говорит она, не обращая ни малейшего внимания на то, что мы не заняты уроками. – Я хотела сказать тебе, что Густаву полегчало. Он перестал бредить и узнаёт нас. Конечно, много времени пройдет, пока он выздоровеет, но думаю, Господь не попустит, чтобы мы его потеряли.
* * *
Мне кажется, дедушке было не так трудно прочитать Библию пятьдесят раз, как мне – один-единственный.
Дедушка-то мог читать когда вздумается, и бабушка давала ему свечи, чтобы он мог вечером прилечь и заняться чтением.
Расскажи я маменьке или тетушке Ловисе, что ради папенькина выздоровления дала Господу обет прочесть Библию, вероятно, и мне давали бы свечи, чтобы я могла читать в постели. Но ведь рассказывать никак нельзя. Давным-давно жила на свете принцесса, и у нее было двенадцать братьев, которых колдунья превратила в диких лебедей, и чтобы они опять стали людьми, сестра должна была связать каждому рубашку из жгучей крапивы. И ни в коем случае никому не говорить, зачем она вяжет рубашки. Принцессу чуть не сожгли на костре, потому что она молчала, но она все равно не сказала ни словечка. Вот и я тоже ни словечка не скажу.
Стокгольмские доктора, лечившие меня гимнастикой, велели мне днем на часок ложиться отдохнуть, и дома я тоже всегда так делаю, ведь и папенька всегда ратовал за дневной отдых. Вот тогда-то я и читаю Библию. Но подолгу читать не удается – обязательно приходит маменька и говорит, что надо отложить книгу и поспать.
Во всяком случае, большое везение – «фарт», как говорит Эмма Лаурелль, – что тетушка Ловиса не унесла дедову Библию в свою чердачную кладовую и не заперла в большой шкаф. По-моему, так устроил Господь: она положила книгу в желтый полукруглый угловой шкаф, который стоит на навесе подвальной лестницы. И шкаф этот никогда не запирают, я могу взять Библию в любое время, когда только захочу почитать.
Тетушке Ловисе очень по душе, что я читаю Библию, ведь под крышкой швейной корзинки у нее вечно лежит какой-нибудь роман, который она читает, когда никто не видит, и несколько раз случалось, что я брала один из этих романов и забывала вернуть на место. Теперь же, когда я читаю Библию, ее романы вне опасности.
Маменька и Алина Лаурелль согласны с тетушкой. Они не одобряют, что я читаю все подряд, и однажды отобрали у меня роман «Женщина в белом», как раз когда я дошла до самого интересного места. Но против чтения Библии ни маменька, ни Алина Лаурелль возражений не имеют, ведь Библия есть слово Господне.
Опять-таки хорошо, что уже весна и по утрам светло. В воскресные дни, когда нет нужды вставать раньше восьми, я могу час-другой почитать Библию, лежа в постели. Но книга на самом деле ужасно большая. Мне кажется, я не двигаюсь с места.
Герда обыкновенно спит внизу, в спальне, а по воскресеньям, даже толком не одевшись, приходит наверх, в детскую, и мы с нею играем и устраиваем подушечные сражения. Теперь Герда не может взять в толк, почему я лежу, читаю и не хочу играть, и по-настоящему огорчается. Но ничего не поделаешь. Бывает, людям достаются испытания и похуже, чем в десять лет прочесть всю Библию.
Иной раз я думаю, вправду ли дедушка, как я, прочитывал в Библии каждое слово. Я-то читаю все родословия, и все законы, и всё-всё про жертвы, и про скинию завета, и про одежды первосвященника. А еще я думаю, умел ли дедушка истолковать все диковинные слова так, что понимал прочитанное.
Я, конечно, читала в библейской истории про большую часть того, что есть в Писании. Заранее все знала про Адама и Еву, и про потоп, и про вавилонскую башню, и про Авраама, Иосифа и Давида, но, понятно, все равно читаю слово за словом, ведь таков мой обет.
* * *
Воскресное утро, мы – Анна, Эмма Лаурелль, Герда и я – шагаем по большаку. И всем нам месяц май кажется ужасно скучным, ведь на воздухе ну совершенно нечем заняться. То ли дело зимой – можно бегать на коньках, кататься на салазках с горы или запрягать в санки барана. Даже апрель лучше, потому что можно рыть в снежной каше на дороге каналы и запрудить в ручье водопад. Но май! Заняться совершенно нечем, разве только подснежники собирать. А подснежники собирать интересно, пожалуй, день-другой, однако теперь нам это уже надоело. И мы просто шагаем по дороге, изнывая от скуки, будто взрослые.
Анна с Эммой Лаурелль идут по одной стороне, тихонько разговаривают друг с дружкой. Наверняка обсуждают мальчиков и наряды, а мы с Гердой, по их мнению, слишком малы, чтобы понимать такие разговоры. Герда и я идем по другой стороне и разговариваем о том, как я была в Стокгольме и ходила на гимнастику. Заодно я рассказываю о замечательной пьесе, которую видела в Драматическом театре, называлась она «Моя лесная роза».
Как вдруг Анна и Эмма Лаурелль переходят на нашу сторону дороги. Им хочется побольше узнать об этой пьесе, и они говорят, что, наверное, она была очень интересная. А Эмма Лаурелль рассказывает, что, когда был жив ее папенька и она жила в Карлстаде, они с сестрами наряжались и играли в театр. Вот тут-то Анна и говорит, что, пожалуй, не худо бы и нам затеять театр.
– Может, прямо сегодня, – говорит Эмма Лаурелль, – дядюшка Лагерлёф поправляется, уже сидит в постели, а уроки мы приготовили.
Дальше мы не идем, поворачиваем обратно и во всю прыть припускаем домой, чтобы разыграть «Мою лесную розу». И на бегу без умолку обсуждаем будущий спектакль. К тому времени, как добираемся до аллеи, все роли уже распределены. Эмма Лаурелль будет девушкой, которую зовут Моя Лесная Роза, оттого что у нее прелестные розовые щечки. Анна будет играть молодого господина, который в нее влюблен. Она бледная, и волосы у нее темные, вполне под стать юноше. А стариком из леса, у которого живет Эмма Лаурелль, буду я, ведь у меня длинные белые волосы, точь-в-точь как у старика в Драматическом театре. Труднее всего найти кого-нибудь на роль стариковой экономки, поскольку Герда, по нашему общему мнению, чересчур мала и в экономки не годится. В конце концов мы соглашаемся на худой конец взять няньку Майю, хоть она и любезничала с Ларсом Нюлундом на конюшенной лестнице постоялого двора, ладно уж, пусть играет экономку.
Герда обижается, смекнув, что ее в спектакль не возьмут и наряжаться она не будет, и принимается плакать, глаза-то у нее всегда на мокром месте. А мы пугаемся, ведь Герда, коли захочет, может реветь хоть целый день напролет, и взрослые, чего доброго, подумают, будто мы плохо с нею обошлись, и, глядишь, не позволят нам играть спектакль. Поэтому я говорю Герде, что она будет маленьким братишкой Эммы Лаурелль, станет сидеть на скамеечке и наряжать кукол. Слава Богу, ей этого достаточно.
Воротясь домой, мы первым делом, понятно, слышим, что сейчас состоится проповедь, а это большая помеха. Но едва только проповедь кончается, мы рассказываем маменьке, что хотим устроить спектакль, и маменька дает нам ключ от своей большой чердачной кладовой, мы идем туда и достаем кучу старого платья. Примеряем то и это, наряжаемся, и нам ужасно весело.
Спектакль мы конечно же разыграем в детской, а значит, комната должна представлять большой лес, где стоит маленький домик, окруженный каменной оградой. И лес, и домик нам взять неоткуда, но, по нашему разумению, самое главное – ограда, потому что Анна должна через нее перепрыгивать, когда приходит добиваться благосклонности Эммы Лаурелль.
Вот почему мы перво-наперво сооружаем ограду из кроватей, диванов, комодов, столов и стульев, какие только есть в детской, набрасываем поверх одеяла и покрывала, чтобы походило на каменную ограду, иначе-то нипочем не получится как в Стокгольме. Одно плохо: ограда наша никак не хочет стоять, все время норовит завалиться. Участники, не находящиеся на сцене, должны ее поддерживать.
Зрительские места располагаются на чердаке, занавеса не требуется, ведь достаточно открыть дверь детской, и публике виден весь театр. Внутри ограды мы поставили стол, стул и скамеечку, на которой будет сидеть Герда. Мы надеемся, все поймут, что стол, стул и скамеечка изображают домик, где живет со своим дедушкой Моя Лесная Роза. Проводим репетицию, по ходу которой я учу Анну, Эмму Лаурелль и няньку Майю, что им надо говорить. Эмма Лаурелль с трудом удерживается от смеха, и меня это по-настоящему огорчает. Зато Анна великолепна.
Мы аккурат собираемся начать, когда из Гордшё приезжают дядя Калле Вальрот и тетя Августа, хотят узнать, как обстоит с папенькой, достаточно ли он поправился, чтобы поехать с ними в Филипстад на свадьбу тети Юлии. Вот ведь досада, теперь ни маменька, ни тетушка Ловиса, ни Алина Лаурелль не смогут посмотреть спектакль, так как должны занимать тетю и дядю. Но услышав, что будет представлена пьеса из Драматического театра, тетя и дядя изъявляют желание посмотреть спектакль, а папенька до того оживляется, что надевает шубу и тоже поднимается наверх.
Понятно, возникает некоторая докука с Гердой, которой должно сидеть на скамеечке и наряжать кукол, хотя вообще-то она к пьесе касательства не имеет. Как только мы отворяем дверь, намереваясь начать, папенька спрашивает у нее, кого она представляет, и Герда отвечает так, будто она вовсе не братишка Моей Лесной Розы, а она сама, то бишь Герда. Но кто совершенно никуда не годится, это нянька Майя. Ужасно манерничает и фальшивит. Наша экономка одолжила ей свою большую шаль, и она ходит согнувшись в три погибели, стучит клюкой да еще и гримасничает – на вид точь-в-точь старая ведьма.
А вот Эмма Лаурелль просто прелесть, и Анна тоже. Анна надела папенькину форменную тужурку тех времен, когда он служил в Стокгольме, волосы спрятала под форменной фуражкой, а вдобавок мы жженой пробкой подрисовали ей усики. Эмма же нарядилась в маменькино белое свадебное платье и распустила волосы.
У меня тоже длинные распущенные волосы – для вящего сходства со стариком из Драматического театра; я в сюртучке домотканого сукна, из которого Юхан уже вырос, и в длинных брюках, которые в Стокгольме надевала на гимнастику, так что, по-моему, публика поймет, что я изображаю старого деда.
И как же я рада, когда вижу, что Анне удается перепрыгнуть через ограду, причем ни сама она не падает, ни ограда, а это ведь важнее всего.
Посреди спектакля, когда я на сцене браню Эмму Лаурелль за то, что она позволила Анне перепрыгнуть через ограду, мне слышно, как публика на чердаке смеется. Оглядевшись вокруг, я вижу: Герда грозит пальцем одной из кукол, передразнивает меня. Нет, никогда больше не примем ее, когда будем устраивать театр.
Эмма Лаурелль просто прелесть, только на верхней губе у нее пятнышко сажи, Анна запачкала, когда целовала, и теперь уже мы, все остальные, с трудом удерживаемся от смеха.
По окончании мы, разумеется, срываем бурные аплодисменты, нам рукоплещут чуть ли не больше, чем актерам, которые играли пьесу в Драматическом театре.
Потом необходимо навести порядок и в детской, и в маменькиной чердачной кладовой, на что уходит изрядное количество времени. И когда мы наконец спускаемся вниз, маменька говорит, что папенька устал и потому лег, но велел нам зайти к нему. И мы, конечно, заходим.
Когда мы выстраиваемся рядком у кровати, папенька говорит:
– Спасибо вам, дети! Знаете, думаю, для меня это куда лучше всех пилюль доктора Пискатора.
Огромная похвала – на большее мы и рассчитывать не смели.
Потом мы идем в гостиную, здороваемся с дядей Калле и тетей Августой, раньше-то не успели. Они тоже в восторге, говорят, что получили истинное удовольствие.
Мы в самом деле начинаем воображать, будто в нас есть что-то необычайное, – и Анна, и Эмма Лаурелль, и я, и Герда, хотя она только беспорядок устраивала.
Но когда я подхожу к дяде Калле, он кладет ладонь мне на голову, приподнимает мое лицо.
– Так-так, стало быть, эта девочка – директор театра, – говорит он ласковым голосом, и я жду, что вот сейчас он скажет, какая я молодчина, что научила остальных сыграть пьесу Драматического театра. Однако он продолжает совершенно иначе: – А я-то слыхал, ты у нас маленькая сектантка, таскаешь с собой большущую Библию.
Я не знаю, куда деваться от смущения. И ведь никак нельзя сказать, как оно вправду обстоит с чтением Библии.
Дядя явно заметил, что я огорчена, так как треплет меня по щеке:
– Давненько мы с тетей так не смеялись, в следующий раз, как приедете в Гордшё, вам надобно и там сыграть эту пьесу.
Я, конечно, понимаю, дядя Калле хочет меня утешить, но все равно огорчена. Вдруг папенька узнает, что люди называют меня сектанткой?
Н – да, через многое должно пройти, когда намерен прочитать всю Библию, а тебе всего-навсего десять лет.
* * *
Г-жа Унгер из Вестра-Эмтервика дала Алине Лаурелль почитать роман, якобы необычайно увлекательный. Алина в свою очередь дает его маменьке и тетушке Ловисе, а поскольку им не терпится узнать, как там все происходит, они читают, почти не отрываясь от книги.
Я видела эту книгу и в спальне, и в комнате при кухне, знаю, что называется она «Капризница» и написала ее Эмилия Флюгаре-Карлён, [6]6
Флюгаре-Карлен Эмилия(1807–1892) – шведская романистка.
[Закрыть]и, конечно, тоже очень хочу прочитать.
Однажды воскресным утром книга несколько часов лежала на столе в зале, и я могла бы вволю почитать, но не стала. Пока не прочту Библию, никакую другую книгу не начну.
* * *
Хорошо хоть, настало лето.
Алина и Эмма Лаурелль уехали домой в Карлстад, и вставать по утрам раньше восьми незачем, и уроков нет, так что я могу по нескольку часов в день читать Библию.
Однако ж лето приносит и беспокойство – на каникулы приезжают Даниэль и Юхан.
Оба, разумеется, доведались, что я читаю Библию, и не могут меня не поддразнивать.
– Слушай, Сельма, – говорят они, – ты вот читаешь Библию, а известно ли тебе, куда отправился Иаков, когда ему шел четырнадцатый год?
– А ну-ка скажи нам, как звали отца Зеведеевых сыновей?
– А известно ли тебе, чем занимаются двенадцать апостолов в царствии небесном?
– А что скажешь про старушенцию, которая прочла всю Библию от доски до доски, а после объявила, что поняла каждое слово, кроме «аз есмь», «присносущий» и «усекновение»?
Но это в общем пустяки. Человеку выпадают испытания и похуже, когда он решил прочитать всю Библию, а ему только десять лет.
Папенька уже на ногах, одет, но по нескольку часов в день отдыхает, лежа на диване: его одолевают изнеможение и слабость, да и кашель никак не проходит. Он говорит, что, поди, никогда не станет таким, как прежде.
Папенька, маменька и Анна ездили в Филипстад на свадьбу маменькиной сестры, тети Юлии, но от этого ему не полегчало. Однако ж теперь маменька надумала, что он должен поехать на купания в Стрёмстад, ведь такими здоровыми, как тем летом, когда были там да купались, они не чувствовали себя ни раньше, ни позже. Я-то знаю, что ехать ни к чему, он все равно выздоровеет, как только я дочитаю Библию, но говорить об этом, понятно, нельзя ни под каким видом.
Может быть, сам Господь устраивает, чтобы папенька уехал, а я могла продолжить чтение.
Пока папенька не таков, как раньше, ему не говорят ничего, что могло бы его огорчить. Поэтому домашние не рассказывают ему, что народ думает, будто в тот раз, когда мы слышали на постоялом дворе проповедь Паулуса Андерссона из Сандарне, я обратилась и стала сектанткой.
Но ведь, может статься, он все равно доведается об этом, и что я отвечу, если папенька спросит, почему я читаю Библию? Лгать нельзя, но и правду тоже не скажешь.
По крайней мере, замечательно, что летние вечера такие долгие и светлые. Маменька приходит, слушает, как мы молимся, потом уходит, Анна засыпает, а я слезаю с кровати, сажусь у окна и читаю, читаю.
Папенька снова дома, и мы все очень рады, потому что он здоров и такой же, как прежде, до того, как поехал собирать налоги и ночевал на сырых простынях.
И у нас тут множество гостей, великое множество. Дядя Шенсон с Эрнстом, Класом и Альмой, и дядя Хаммаргрен с тетей Наной, Теодором, Отто и Хуго, и дядя Уриэль Афзелиус с тетей Георгиной, Элин и Алланом, и дядя Кристофер Вальрот, у которого нет жены.
Алина и Эмма Лаурелль тоже приехали, но не затем, чтобы начать занятия, а просто чтобы отпраздновать с нами 17 августа, когда папеньке исполнится пятьдесят.
Погода стоит чудесная, и смородины видимо-невидимо, и крыжовника, и вишен, и яблоки астраханские вот-вот поспеют. Все замечательно. Одно только неприятно: не успела я дочитать Библию. Почти до конца добралась, читаю Откровение, но когда столько гостей, весь дом полнехонек, невозможно найти местечко, чтобы хоть часок посидеть тихо-спокойно и дочитать Писание.
Впрочем, нынче маменька надумала после полудня повести всех на Стурснипан, полюбоваться прекрасным видом. Они ушли – и взрослые, и дети, – я одна дома. Мне тоже хотелось пойти, но маменька сказала, что для меня путь слишком далекий. За последние дни я, мол, очень много бегала да играла, и она опасается, что я сызнова начну хромать, как до поездки в Стокгольм и занятий гимнастикой.