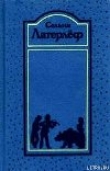Текст книги "Девочка из Морбакки: Записки ребенка. Дневник Сельмы Оттилии Ловисы Лагерлёф"
Автор книги: Сельма Оттилия Ловиса Лагерлеф
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Сельма Лагерлёф
Девочка из Морбакки:
Записки ребенка
Дневник Сельмы Оттилии Ловисы Лагерлёф
Записки ребенка
Алина Лаурелль
Нам кажется совершенно замечательным, что в Морбакке появилась такая славная гувернантка.
Зовут ее Алина Лаурелль, отец ее жил в Карлстаде, был там главным землемером, и жили они, без сомнения, богато, пока отец не умер. После его кончины мать Алины Лаурелль обеднела, и г-жа Унгер из Вестра-Эмтервика, Алинина тетя по матери, договорилась с нашими родителями, что Алина приедет сюда и станет учить Анну и меня французскому и игре на фортепиано.
Замечательным кажется нам и то, что приехала она не одна, а с сестрой по имени Эмма, которой всего десять лет; Эмма тоже будет жить здесь и вместе с нами учиться у Алины. По Эмме видно, что раньше они жили богато, ведь у нее множество красиво расшитых надставочек для панталон, [1]1
В XIX в. девочки носили короткие платьица, из-под которых были видны длинные панталончики, позднее декоративные надставные штанины приметывались к штанишкам или подвязывались под коленями. – Здесь и далее прим. перев.
[Закрыть]она унаследовала их от Алины и других сестер; мы-то в Морбакке никогда такими не пользовались. Воскресными утрами Эмма старательно приметывает надставочки к своим штанишкам, а это ох как непросто, потому что одни чересчур широкие, другие чересчур длинные, и, когда после всех трудов она их надевает, порой случается, что одна свисает до самой щиколотки, а другая едва прикрывает колено. На наш взгляд, красивыми эти надставочки не назовешь, в особенности когда они сидят плохо, наперекосяк, однако ж Эмма, вероятно, полагает, что раз уж у нее в комоде их целый ящик, вдобавок так чудесно расшитых, то надобно их носить.
По странному стечению обстоятельств, аккурат той осенью, когда Алина сюда приехала, я была в Стокгольме, ходила на гимнастику и жила у дяди Уриэля Афзелиуса, тети Георгины, Элин и Аллана на Клара-Страндгата, в доме номер семь. Отсутствовала я всю зиму и впервые увидела Алину только весною следующего года. Конечно, я очень радовалась возвращению домой, но притом и робела, поскольку знала, что у нас теперь есть гувернантка, а все гувернантки, как мне казалось, старые, неприглядные и злые.
Из Стокгольма я приехала домой в шляпке-панаме с бело-голубой лентой вокруг тульи и белым пером с пряжкой, в голубом летнем пальто с блестящими пуговицами и в бело-голубом муслиновом платье, которое мне сшили по заказу тети Георгины, то есть вид у меня был роскошный. И гимнастика мне хорошо помогла, хромота стала почти незаметна. Я подросла, выглядела по-настоящему высокой и уже не настолько худой и бледной, как перед поездкой в Стокгольм, пополнела и разрумянилась. Волосы, заплетенные в косу, лежали на спине, не как раньше, когда их подкалывали возле ушей, так что домашние едва меня узнали. Все твердили, что из Стокгольма воротилась совсем новая Сельма.
Увидев Алину, я очень удивилась, ведь она была молодая, хорошенькая и понравилась мне с первой же минуты. А сама Алина, увидев меня, подумала, что с виду я настоящая стокгольмская девочка, и испугалась, уж не окажусь ли я избалованной и жеманной.
Отлучка моя длилась очень долго. И мне хотелось столько всего рассказать, что говорила я буквально не закрывая рта.
Рассказывала, что побывала и в Опере, и в Драматическом театре, и в Малом, а первого мая в Юргордене видела Карла XV, и королеву Ловису, и «маленькую принцессу». Рассказывала, что Луиза Тиселиус, самая красивая девушка в Стокгольме, занималась такой же гимнастикой, как и я, а потому мне довелось видеть ее каждый день, и что дом, где живет дядя Уриэль, принадлежит французу, герцогу Отрантскому, и что этот герцог держит лошадей и экипаж, кучера и прислугу, а его папеньку во время Французской революции все жутко боялись. Я показывала красивые книжки, полученные от дяди и тети в подарок на Рождество, хвасталась большим детским рождественским праздником у оптовика Глусемейера, куда были приглашены Элин, Аллан и я и где нам выпало разряжать елку и каждый из нас унес домой кулечек конфет. Еще я побывала в магазине Лейи и видела огромное количество игрушек, и шоколадные сигары, и фонтан с красной, голубой и зеленой водой, который назывался «калоспинтерохроматокрен».
Алина Лаурелль сидела, слушала мою болтовню и ничего не говорила, но думала, что эта вот Сельма, воротившаяся домой из Стокгольма, не по годам развитая девочка.
А самое скверное то, что я, сама не подозревая, все время говорила на стокгольмском диалекте. И Алина Лаурелль восприняла это как подтверждение моей манерности и сумасбродства, ведь уроженцам Вермланда негоже стыдиться родного диалекта.
Я так и сыпала названиями вроде Дроттнинггатан, и Берцелии-парк, и Шлюз, и Бласиехольм, говорила о разводе караула и Королевском дворце, о том, что побывала в католической церкви, видела Святого Георгия и Страшный суд в Соборе, [2]2
Старейший храм Стокгольма, построенный в XIII в. основателем города Биргером Ярлом; деревянная фигура св. Георгия, поражающего змия, – главная достопримечательность Собора, лучший в Северной Европе образец позднеготического искусства
[Закрыть]брала читать у дяди Уриэля все романы Вальтера Скотта и занималась с очень славной учительницей, которая сказала, что, по ее мнению, я тоже смогу стать учительницей, когда вырасту.
Алина все это слушала и думала, что с такой самодовольной девочкой ей никогда не подружиться.
Поскольку же всего через неделю-другую начнутся летние каникулы и Алина с Эммой уедут в Карлстад к своей маменьке, папенька говорит, что для меня нет смысла приступать к занятиям с Алиной, поэтому я до осени свободна. И как замечательно – пойти на кухню и поболтать с экономкой, полюбоваться Гердиными куклами, поиграть с собаками и котятами, почитать маме вслух из «Всеобщей истории для дам» Нёссельта, помочь тетушке Ловисе с посадками и посевом в саду, но проходит всего несколько дней, и однажды утром во время уроков я все-таки захожу в детскую, не затем, конечно, чтобы включиться в работу, считать или писать, а просто посмотреть, как там все происходит.
Алина экзаменует Анну и Эмму по катехизису. И Анна как раз читает наизусть длинное трудное изречение «О язычниках, не имеющих закона».
Когда Анна заканчивает чтение, Алина начинает беседовать с нею и с Эммой о совести. Объясняет длинное и трудное изречение так превосходно, что Анна с Эммой в точности понимают его смысл, и я тоже. По-моему, Алина совершенно права, когда говорит, что мы всегда должны поступать, как велит совесть. Ведь тогда мы избежим ее укоров.
Ровно в одиннадцать урок заканчивается, у Анны с Эммой десятиминутная переменка, они выбегают на улицу поиграть, но я остаюсь в детской.
Подхожу к Алине, чувствую, как щеки горят огнем, и тихим, еле слышным голосом спрашиваю, не поможет ли она мне отослать двадцать четыре шиллинга на станцию Лаксо, жене путевого обходчика, которая там проживает.
– Отчего же не помочь, – говорит Алина, – если ты знаешь ее фамилию.
– Нет, не знаю, а дело тут вот в чем: когда поезд, на котором я возвращалась домой, подъезжал к станции Лаксо, он задавил путевого обходчика. Сама я не видела, но в поезде говорили, что его разрезало пополам.
– Так-так, – говорит Алина, – и теперь ты жалеешь его жену?
– Она ужасно кричала. Бегом прибежала на станцию. Вы даже представить себе не можете, Алина, как она кричала. В поезде еще говорили, что она бедная и у нее много детей.
– Теперь я припоминаю, что читала об этом в газете. Но разве же там не собирали деньги?
– Конечно, собирали, Алина, – говорю я. – В наш вагон зашел кондуктор, спросил, не желаем ли мы помочь обходчиковой жене. И многие дали денег, а я нет.
– У тебя тогда не было денег?
– Были, две монеты по двенадцать шиллингов, только, видите ли, Алина, я хотела купить на них в Карлстаде жареного миндаля и орехов, в подарок Анне и Герде. И произошло все так быстро. Кондуктор очень спешил и даже не взглянул в мою сторону. И я не смогла отдать деньги.
– Но теперь все-таки хочешь послать?
– Да, если вы поможете их отправить. Я не стала покупать в Карлстаде жареный миндаль, сохранила деньги. Мне было так стыдно, когда я сидела в поезде, казалось, все в купе смотрят на меня и думают, почему я не дала ни гроша, и дома меня тоже каждый день мучает стыд. И мне правда очень хочется послать эти деньги обходчиковой жене.
Алина смотрит на меня своими большими серыми глазами.
– Почему же ты не поговорила об этом со своей маменькой? – спрашивает она.
– Я вообще не собиралась никому говорить, но вот услышала, как вы рассказывали про совесть.
– Вот оно что, – говорит Алина. – Ладно, тогда я, конечно, помогу тебе.
И я иду за своими монетами, отдаю их ей.
Теперь мы с Алиной добрые друзья. Я рассказываю ей все то, о чем не говорю больше никому. Рассказываю даже, как однажды, когда мне было семь лет, прочитала замечательную книгу под названием «Оцеола» и с тех пор решила, что, когда вырасту, непременно буду писать романы.
Толкование Библии
На наш взгляд, замечательное воскресное развлечение – после полудня сходить за почтой. Разрешается это только большим – Анне, Эмме Лаурелль и мне. Мы тихонько выбираемся из дома, пока Герда не проснулась после дневного сна, не то ведь будет реветь, оттого что ее с нами не отпускают. Герде всего-навсего шесть лет, и нам кажется, ей, малышке, такая дорога не по силам, не сможет она без посторонней помощи перепрыгнуть через канаву или перелезть через изгородь.
Иногда нянька Майя спрашивает, нельзя ли ей пойти с нами, дескать, невмоготу ей сидеть дома все воскресенье, время тянется очень уж медленно. Майя – Гердина нянька, и ни папенька, ни маменька вовсе не велят ей присматривать за нами. Анне двенадцать, Эмме Лаурелль одиннадцать, а мне десять, и мы считаем, что «пасти» нас совершенно незачем. Нянька Майя идет с нами просто веселья ради. Куда лучше идти с Анной, Эммой Лаурелль и мною за почтой, чем стоять возле дровяного сарая да вести разговоры с Ларсом Нюлундом и Магнусом Энгстрёмом. По словам няньки Майи, эти парни вечно болтают всякие глупости.
Нынче нянька Майя опять с нами, и пока мы спускаемся под горку к скотному двору и шагаем по лугам, мимо хибарки Пера из Берлина, нянька Майя рассказывает, как все было, когда она, Ларе Нюлунд и прочая мелюзга с хутора Хёгбергссетер ходили пасти овец в лес Осскуген. Однажды Ларе Нюлунд убил гадюку, которая аккурат прицеливалась укусить Майю в большой палец на ноге. А в другой раз нянька Майя до самого подбородка провалилась в Большой торфяник, и, не вытащи ее Ларе Нюлунд, не видать бы ей больше белого света.
Всегда занятно слушать, как нянька Майя рассказывает, что было, когда она пасла овец, но Анна вдруг говорит, что, судя по всему, нянька Майя крепко влюблена в Ларса Нюлунда. Нянька Майя отвечает, что это неправда, и точка. Просто играли в такую игру, по малолетству. А мне жаль, что Анна поддразнивает няньку Майю, ведь теперь та не станет ничего больше рассказывать.
Хорошо все-таки, что с нами нет Герды, могу себе представить, как бы она устала, в ее-то шесть лет! Я устаю, а ведь мне десять. Не то чтобы мне вообще трудно пройти четверть мили [3]3
Шведская миля – 10 километров.
[Закрыть]или около того. С той зимы, когда я в Стокгольме ходила на гимнастику, нога у меня совершенно не болит. Но дорога от хибары Пера из Берлина до хёгбергского постоялого двора раскисла, сущее болото. Чавкает при каждом шаге. Мы и не знали, что здесь, к западу от нашего дома, земля успела по-настоящему оттаять, ведь оттепель началась всего несколько дней назад. Анна говорит, что скверная дорога наверняка задержала почтаря и никакой почты мы не получим.
Не понимаю, откуда Анне все это известно. Представьте себе, добравшись до постоялого двора, мы первым делом слышим, что почтовая карета покамест не проезжала и почтовой сумки для Морбакки не оставляла. Анна считает, надо незамедлительно повернуть домой, однако нянька Майя предлагает все-таки немного подождать, ведь поручик Лагерлёф очень расстроится, если мы придем с пустыми руками.
Я действительно рада, что Анна соглашается и теперь можно зайти в просторную комнату постоялого двора и немного отдохнуть. Хозяйка ставит нам стулья возле самой двери, мы сидим и молчим, поскольку никто с нами не разговаривает. Озираемся по сторонам. На большом столе у окна выставлены сливочное масло, хлеб и сыр, на другом столе – множество кофейных чашек, блюдец и тарелок. На плите – несколько большущих кофейников, они булькают, шумят и иной раз перекипают через край. Старшая дочь хозяев мелет кофе. Нянька Майя вполголоса замечает, что ничего нет лучше запаха свежесмолотого кофе, в особенности когда ты устал, промок и озяб; мы все так думаем, но Анна утихомиривает Майю, ведь нам совсем не хочется, чтобы на постоялом дворе решили, будто мы ждем угощения.
Никто нас и не угощает, и немного погодя нянька Майя выходит посмотреть, не завиднелась ли вдали почтовая карета. Отсутствует нянька Майя так долго, что нам кажется, больше мы ее никогда не увидим, вдобавок нас беспокоит, что во дворе толпится множество народу. Иные отворяют дверь, вроде как собираются войти, но, заметив нас, качают головой и поворачивают обратно. И мы слышим, как старшая дочь, та, что молола кофе, шепчется с хозяйкой, спрашивает, неужто эти маленькие девчонки из Морбакки так никогда и не уйдут. Анна шепотом говорит Эмме Лаурелль и мне, что ей сдается, тут готовится пирушка и им невтерпеж от нас отделаться. А мы вовсе не намерены мешать и уговариваемся, что, как только появится нянька Майя, сразу же уйдем.
Однако няньки Майи все нет и нет, и я слышу, как Анна шепчет Эмме Лаурелль, что нянька Майя, наверно, назначила Ларсу Нюлунду свидание на постоялом дворе, потому так и рвалась идти с нами. Но мне не верится, что нянька Майя этакая хитрюга. Я сижу, не сводя глаз с окна, высматриваю ее.
Прямо передо мной, через двор, расположена конюшня, а на углу этой конюшни есть старая лестница, встроенная, видны только две нижние ступеньки. И на этих ступеньках стоят двое. Я не могу разглядеть, кто это, потому что вижу только сапоги и кусочек штанин одного да ботинки и подол полосатой юбки второго. Но им явно есть что сказать друг другу, ведь стоят они на лестнице уже давно. Самое удивительное, что я вроде бы узнаю полосатую юбку, хотя очень странно, что нянька Майя стоит там и разговаривает с обладателем брюк, она же пошла глянуть, не едет ли по дороге почтарь. Я как раз собираюсь спросить Анну, что она думает по поводу полосатой юбки, когда хозяйка направляется в нашу сторону. С нами она не заговаривает, лишь мимоходом роняет, словно обращаясь к самой себе:
– Н-да, им тоже охота послушать Паулуса Андерссона из Сандарне.
Мы молчим, только слушаем. Теперь хозяйка, стоя у нас за спиной, достает поленья из дровяного ларя.
– Хвала и благодарение Господу, что Паулус Андерссон нынче будет толковать Писание в моем дому, в четыре часа пополудни, – говорит она себе, громыхая поленьями. – Всех, кому охота послушать, милости просим оставаться, – продолжает она. – Приходящего ко Мне не изгоню вон, [4]4
Ин. 6:37.
[Закрыть]говорю я, как Иисус. Но тот, кто боится людей больше, чем Господа, пусть уходит.
Мы все три устремляем взгляд на большие стенные часы, а на них уж без пяти четыре. Эмма Лаурелль и я спрыгиваем со стульев, намереваясь уйти, однако Анна сидит не шевелясь, только знаками показывает, чтобы мы опять сели.
Да о чем же это Анна думает? Мы что, останемся слушать толкование Библии? Разве Анна забыла, что, по мнению папеньки, ничего нет хуже странствующих проповедников и священников? Разве она забыла, сколько раз папенька твердил, что если кто из его домашних пойдет на такое вот молитвенное собрание, то порог Морбакки больше не переступит?
Я не успеваю спросить у Анны, о чем она думает и что замыслила, – возвращается нянька Майя. Она поспешно сообщает нам, что в четыре часа в этой комнате будет толкование Писания, а стало быть, нам надо уходить. Но Анна не хочет.
– Да ведь вы, барышня Анна, хорошо знаете, поручик Лагерлёф не желает, чтоб мы слушали странствующих священников, – говорит нянька Майя.
Однако Анна отвечает, не наша, мол, вина, что, пока мы ждем почтаря, у них тут будет толкование Библии.
– А я вот ужас как боюсь, так что, пожалуй, побегу домой одна, – говорит нянька Майя.
– Я все время хотела уйти домой, – шепчет Анна, и по голосу слышно, что она очень сердита на няньку Майю. – Но ты, Майя, уговорила нас остаться, очень тебе хотелось поболтать с Ларсом Нюлундом. И теперь пеняй на себя.
Ну вот, разговорам конец, потому что несколько молодых работников начинают расставлять лавки и стулья, а когда все сделано, народ, ожидавший во дворе, устремляется в комнату, где сразу становится тесным-тесно. Но мы не уходим. Только отодвигаемся на стульях подальше к стене, ведь раз Анна не боится, то и нам, остальным, тоже ничего не грозит. Вдобавок мы вправду сгораем от любопытства, интересно же узнать, как происходят такие вот собрания с толкованием Библии.
Наконец появляется Паулус Андерссон из Сандарне, и выглядит он как обыкновенный крестьянин, да и проповедует, по-моему, обыкновенным манером. Но я не могу толком следить за его рассуждениями, думаю лишь о том, что будет, когда мы вернемся домой.
Сколько бы мы ни говорили папеньке, что ждали почту, нам это не поможет. Напрасно Анна воображает себе такое. Нет, нас в самом деле прогонят из нашего уютного дома, за непослушание и любопытство. Нам уготована участь Адама и Евы.
Чем Анна нас оправдает, когда мы вернемся, и что с нами станется потом? Наверно, пойдем на большак, будем просить милостыню. У няньки Майи в Хёгбергссетере есть родители, у Эммы Лаурелль – маменька в Карлстаде, но мы-то с Анной – у нас ничегошеньки нет, кроме Морбакки.
Думая о неоднократных папенькиных утверждениях, что странствующие проповедники – сущий сброд, еще похуже воров и убийц, и должны поголовно все сидеть в Марстрандском остроге, я могу ожидать только одно: он вышвырнет нас на большак.
Хорошо хоть, Герда сегодня не пошла с нами за почтой. Она и понятия не имеет, как ей повезло.
Тут Анна подталкивает меня локтем, и я вижу, что в дверях стоит мужчина с почтовой сумкой. Мы тихонько выбираемся наружу и идем домой – Анна, Эмма Лаурелль, нянька Майя и я, – очень расстроенные, сердитые и дрожащие от страха, так что весь обратный путь никто из нас не говорит ни слова.
Миновали хибару Пера из Берлина, пересекли луга, поднялись в гору от скотного двора и видим: там стоит Лина, кухарка, нас поджидает.
Она всегда такая добрая, приветливая. И не иначе как вышла нас предупредить.
– Вы почему так поздно? – спрашивает она. – Только вы ушли, как поручику сообщили, что на постоялом дворе ждут проповедника, и он цельный вечер ходил да гневался, что вас нет, боялся, что вы сей же час в сектаторы подадитесь.
Отвечать нам недосуг, мы спешим по двору к крыльцу, и представьте себе, нянька-то Майя робеет войти с нами в парадную дверь, крадется к черному ходу.
Зато Анна не боится ни капельки, смело идет вперед. Отворяя дверь передней, предупреждает, чтобы мы помалкивали про няньку Майю и Ларса Нюлунда. Не хочет она, чтобы у няньки Майи возникли неприятности. А вот что мы должны молчать про толкование Библии, про это она ни слова не говорит.
Анна идет через переднюю прямо в залу, Эмма Лаурелль и я шагаем следом. Анна даже пальто не снимает, и мы тоже. Думаем, лучше всего делать, как она.
В зале задернули шторы и зажгли лампу, на диване возле круглого стола расположились маменька и Алина Лаурелль, раскладывают пасьянс с гаданием. Тетушка Ловиса, усадив рядом Герду, рисует ей цветочек, а папенька по обыкновению сидит в кресле-качалке и ведет разговор.
И хотя Анна сознает, что вопреки папенькину запрету была на толковании Библии, она подходит прямо к нему, протягивает почтовую сумку:
– Вот почта, папенька.
Но он словно и не замечает, что мы пришли. Анна так и стоит с почтовой сумкой. Он сумку не берет, продолжает беседовать с маменькой и Алиной Лаурелль.
А это верный знак, что он очень сердит.
Маменька и Алина Лаурелль бросают свой пасьянс, тетушка Ловиса перестает рисовать цветочек. Ни одна не говорит ни слова. Мы с Эммой Лаурелль беремся за руки, потому что нам до смерти страшно, но Анна держится спокойно и смело.
– Дороги такие скверные, почтарь припозднился, – говорит она. – Нам пришлось сидеть на постоялом дворе, дожидаться.
А папенька все сидит-качается и вовсе не слушает Анну, однако теперь слово берет маменька:
– Скажи-ка, Анна, чем вы там занимались, пока сидели и ждали?
– Первый час мы ничего не делали. Потом пришел странствующий проповедник, толковал Библию, – отвечает Анна. – А как только почтарь доставил сумку, мы сразу ушли.
– Но, Анна, – говорит маменька, – ты же знаешь, папенька не велел вам слушать сектантов.
– Да, вдобавок, маменька, это был Паулус из Сандарне, а он, как известно, из них самый опасный.
– Но, дитя мое, – говорит маменька, – ты что же, осталась оттого, что он опасный?
– Пока он не начал собрание, мы знать не знали, что у них там будет толкование Библии, – объясняет Анна, – и я подумала, что, если мы тотчас уйдем, он разозлится на нас и явится в Морбакку воровать.
– Да что же такое болтает эта девочка? – ворчит папенька, переставая качаться. – Неужто ума решилась?
В ту же минуту я вижу, как Алина Лаурелль, совершенно пунцовая, стискивает зубы и наклоняется пониже к пасьянсу, чтобы никто не заметил, что она едва сдерживает смех. А вот тетушка Ловиса, сидящая в углу дивана, откидывается назад и хохочет, даже за бока хватается от смеха.
– Вот видишь, Густав, – говорит маменька, и по голосу слышно, что ее тоже разбирает смех, – как оно бывает, оттого что ты вечно все преувеличиваешь. – Затем она опять обращается к Анне: – Кто тебе сказал, что Паулус из Сандарне ворует?
– Так ведь папенька говорил, что он мошенник еще похуже Лассе-Майи, [5]5
Лассе-Майя – прозвище знаменитого грабителя Ларса Мулина (1785–1845).
[Закрыть] – отвечает Анна, – и место ему в остроге.
Тут мы с Эммой Лаурелль тоже начинаем смеяться, мы-то всегда понимали, папенька просто имел в виду, что странствующие проповедники и священники-сектанты ничуть не лучше арестантов. Нам в голову не приходило, что Анна, такая разумница в свои двенадцать лет, поймет эти слова буквально.
Все вокруг смеются, и Анна мало-помалу, конечно, начинает смекать, что сделала какую-то глупость, верхняя губа у нее дрожит, она на грани слез.
Однако тут папенька встает, забирает у нее почтовую сумку.
– Ну-ну, все в порядке, Анна, – говорит он. – Ты хорошая девочка. Не обращай внимания на этих хохотушек, видишь ли, правы-то все равно мы с тобой. А теперь возьми-ка с собой Эмму и Сельму, подите разденьтесь и переобуйтесь! А потом можете попросить у тетушки сиропу и миндаля, сварите себе домашних конфет, вам ведь полагается небольшое вознаграждение, раз вы так долго ждали почту.