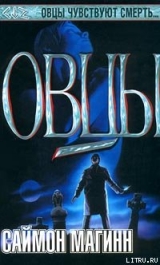
Текст книги "Овцы"
Автор книги: Саймон Магинн
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Саймон Магинн
Овцы
1. Утопленница
Это слово звенело в голове. Маленькая девочка тонула в море. Он стоял на вершине холма и наблюдал за тем, как женщина пытается удержаться и удержать своего ребенка над поверхностью воды. От его внимания не ускользнуло то, что море было достаточно спокойным. Наверняка ей удастся добраться до берега. По крайней мере сама женщина это, конечно, понимала. Он подумал, что она совсем недалеко от того места, где уже может упереться в дно ногами. Женщина билась и вертелась, словно морское чудовище; девочка пинала ее ногами, визжала и царапалась. Надо будет объяснить ей, что нельзя так вести себя с матерью. Женщина открыла рот и, прежде чем вода успела захлестнуть его, выкрикнула его имя:
– Джеймс!
Звук не сразу достиг его ушей, казалось, он будто завис в воздухе. Нет, подумал он, настала пора ей научиться твердо стоять на земле обеими ногами. Потом он сообразил, что вряд ли она может стоять там, в воде, и снисходительно хихикнул. Порой она так непрактична, так эмоциональна. Все, что ей нужно сейчас сделать, – это перестать орать и вытащить ребенка из воды. Будь я на ее месте, я бы закинул девочку на плечо – тогда можно было бы грести одной рукой. Почему она не делает этого?
– Джеймс! Умоляю тебя!
Ну вот, подумал он, глядя на то, как девочка показалась над водой последний раз, теперь обмякшая и спокойная. Ну вот. По крайней мере у нас есть еще один ребенок. Он обернулся и посмотрел на стоявшего за спиной мальчика, который улыбался и что-то лепетал о костях.
Он проснулся. Его саваном окружала тьма. Подушка промокла. Сердце отчаянно билось. Он сел и уставился в пространство перед собой. Теплые слезы катились по подбородку. Он попытался откашляться, но в результате всхлипнул и чуть не потерял сознание. Его затошнило. Он встал с кровати и пошел в ванную. Громкий и успокаивающий щелчок выключателя. Дергаешь за шнурок – и включается свет. Ну почему весь мир не устроен именно так?! Тогда бы не было мертвых дочерей, виноватых отцов, ночных кошмаров. Он плеснул на лицо воды и посмотрел на себя в зеркало.
– Господи, – громко сказал он. – Я похож на тысячелетнего старика.
С тех пор как погибла Руфи, он начал стремительно стареть.
В это невозможно поверить, но я никогда не думал, что начну стареть, подумал он. Правда. В собственном сознании он всегда видел себя двадцатилетним: отражение, которое увидел когда-то в стеклянной двери душевой в раздевалке университетского спортзала. Мокрый, блестящий, черноволосый (с ног до головы), с очень добрыми (и очень сексуальными, как он, покраснев, тогда подумал) глазами и легким стройным телом, мускулистым, но не перекачанным. И улыбка, которая способна заворожить с расстояния в двести шагов (кто это сказал такое?). А чему я улыбаюсь теперь? Он увидел, как лицо в зеркале ванной уныло улыбается ему в ответ. Черточки морщин вокруг глаз. Господи!.. Как такое могло случиться? Как я мог это допустить? Холодную одинокую ванную комнату и ту пропаренную раздевалку разделяли миллионы километров. Здесь находился тридцатидвухлетний мужчина, у которого умерла дочь, а сын взрослел и становился все более странным.
Странным. Чужим. Жутковатым, что-то бормочущим, скрытным. Похожим на своих друзей, вежливых, аккуратных, что собирают досье. И в один прекрасный день материалов там будет достаточно, чтобы приговорить отца безнадежно и навсегда.
Он не знал, что творится в голове Сэма. Вряд ли он знал и половину того, о чем думает сын. Может, десять процентов. Может, пять. Точно сказать нельзя. Сэм внезапно прекратил есть мясо. Никаких сосисок, никакого бекона (никакого бекона? – скептически думал он). Рыбный паштет вместо мясного – в коробке для завтраков с Бартом Симпсоном. Почему? Джеймс понятия не имел. Порой он натыкался на сына, когда тот сидел в своей комнате, или на лестнице, или на ограде вокруг качелей и бормотал. Джеймс удивлялся страху, который внушало ему это бормотание. Он не понимал, как вообще можно бояться собственного сына. Но дело обстояло именно так. Однажды, когда Джеймс приехал за ним в школу, его встретил Сэм, зареванный и мрачный.
– Что случилось, мисс Брайент? – спросил он школьную учительницу.
– Ну, это непросто объяснить, мистер Туллиан. Сэм начал рассказывать детям стихи.
– Стихи? О Боже, вы же не хотите сказать, что это непристойные... – Он не смог договорить и почувствовал, что не может даже дышать. – Боже мой, что же вы имеете в виду?
– Камнем уходит на дно к черту в гости,
Дьявол теперь заберет ее кости.
* * *
– Что?
* * *
В эту ночь, стоя в одиночестве перед зеркалом, Джеймс посмотрел в глаза своему отражению и признался, что уже не знает собственного сына. А Адель, спросил тихий далекий голос, ее ты знаешь? Его сердце на мгновение остановилось. Он не был в этом уверен. Пейзажи, которые она рисовала, – такие пустынные, такие заброшенные. Плечи отражения опустились, и Джеймс почувствовал, как задрожало его тело, когда он попытался произнести слово «смерть». Неоновая лампа загудела, загорелась, словно луна. Он плеснул воды на лицо, чтобы избавиться от рези в глазах. Затем высморкался, слушая, как шум разносится по тишине дома, выключил свет и пошел по темному коридору в комнату Сэма.
Джеймс понял, что Сэм не спит. Недавно у сына появилась привычка притворяться спящим, когда ему просто не хотелось разговаривать, но Джеймс уже научился определять, что происходит на самом деле. Сэм не знал и не мог знать, что когда он спал, то приоткрывал рот, и его вытекающая слюна образовывала клейкую нить между головой и подушкой. Джеймс берег свое знание как волшебство: это была секретная информация, власть, власть над собственным вежливым сыном. Кроме того, как бы это повлияло на самооценку мальчика, если бы ему сказали, что он пускает слюни во сне, словно грудник? Джеймс притворялся, что не знает, когда Сэм притворяется, и просто ждал, когда любопытство возобладает и Сэм «проснется». Он остановился в дверях. Через тридцать секунд глаза Сэма раскрылись, и Джеймс улыбнулся.
– Как преется, шеф?
Это была фраза из кинофильма, который они ходили смотреть вдвоем, только он и Сэм. Американская комедия, в которой главный актер постоянно нес какую-то белиберду, а этой фразой он здоровался. Услышав ее в первый раз, Сэм вскрикнул от радости и несколько следующих дней почти ничего другого не говорил. Джеймс сказал так, чтобы стало ясно: все в порядке, просто папа пришел проверить, не умер ли ты во сне. Ничего серьезного. Сэм улыбнулся и зевнул.
– Скока время?
– Не знаю. Уже поздно. Уже давно пора спать. Спи дальше. До завтра. – Джеймс подошел к стоявшей у окна кровати и потрепал Сэму волосы. Подбородок был влажным. Теплая ночь. – Хочешь, открою окно?
– Нет. Лучше прилепи его себе на морду. (Это было из того же фильма.)
– Ладно.
Джеймс ушел, стараясь не шуметь. С Сэмом было все в порядке. Вообще все было в порядке. Он старался не замечать, какой большой стала комната после того, как из нее убрали кровать Руфи.
* * *
Сэм медленно досчитал до двадцати, а потом прочитал в уме четверостишие:
Камнем она опустилась на дно,
Дьявол возьмется теперь за нее.
Кончится ночь, день наступит опять,
Он уползет и отправится спать.
Потом он поднялся и сел в кровати. На столике рядом стояла стеклянная чашечка. В ней плавал крохотный аквалангист с кислородными баллонами за спиной, в голубых ластах и маске. Если перевернуть чашечку, то аквалангист очень медленно погружался на дно; можно было отвернуться, десять раз сказать свое имя, повернуться обратно и увидеть, что он только-только начал движение. Сэм перевернул чашечку, тут же отвернулся и не смотрел на аквалангиста, пока тот почти не коснулся дна. В щель между шторами проникал свет с улицы. Сэм сконцентрировал свое внимание на нем, скривив лицо и прищурившись, как полицейский из фильма.
Чтобы занять время, он стал размышлять о том, чем может быть так расстроен его отец. Сэм слышал, как он бормотал во сне, потом раздался шумный вздох, а потом, после небольшой паузы, – шаги в сторону ванной комнаты и плеск воды. В туалет отец не зашел, но руки помыл. Затем он три раза высморкался – Сэм впервые слышал, как отец сморкался, если не считать тех случаев, когда он был простужен. У отца были красные глаза, но так бывает, когда люди просыпаются среди ночи. К тому же отец не стал бы так близко подходить к нему, если он простужен. Когда у него был грипп, он вообще запретил Сэму входить в его комнату. Сэм плакал – тогда он был еще слишком маленьким, чтобы понять, почему ему запрещено видеть собственного отца. А когда умерла Руфи (Сэм знал все об этом, а на самом деле он знал даже больше других, потому что они-то не догадывались, что Руфи вернется), отец с матерью, конечно, много плакали. Отец постоянно сморкался и ходил с красными глазами. Но с тех пор прошла уже тысяча лет. Сэм резко развернулся. Аквалангист был еще очень далеко от дна.
Сэм признал свое поражение и растянулся в постели. Мама говорила ему, что когда не можешь заснуть, можно попробовать считать овец. Он представил себе гигантскую кучу овец, огромную гору животных, уходящую в небеса. Гора стояла в большом поле, и кто-то все время подбрасывал в нее овец. Их головы бессмысленно болтались, потому что все они были дохлые. Тех, что с самого начала лежали кучей, он даже не пытался считать, потому что их было слишком много. Он считал лишь новых. Человек кидал их палкой. Двадцать один. Двадцать два. Сэм смог продержаться до восьмидесяти с чем-то. Но дальше их было слишком много. Сэм боялся продолжать, потому что числа были огромные. К счастью, на пятидесяти девяти он спокойно задремал.
Аквалангист опустился на дно чашечки. Он был прекрасен. Баллоны с кислородом, маска, очки. Он ждал, когда снова окажется наверху и, затаив дыхание, начнет бесконечное неторопливое путешествие в неизмеримые глубины. Внизу, в тесной захламленной кухне недовольно поскуливала во сне собака, потому что муха щекотала ей нос. Собака дергала задними лапами, потому что ей снилось, что кто-то нападает на нее сзади. Когда послышались шаги на лестнице, она подняла уши, открыла глаза, тяжело вздохнула, подтянула к себе задние лапы, повернула голову и опять погрузилась в теплую липкую трясину животного забытья. Только настороженно прислушивалась, продолжая охранять себя и дом. Муха, тихо жужжа, улетела прочь и полностью погрузилась в процесс высадки тысяч микроскопических яиц на цыпленка, который размораживался на сушилке. Совершая свой механический акт осквернения, муха дергала передними лапками. Блестящим пристальным взором она контролировала все линии и плоскости лабиринта темной комнаты, коварная, осторожная, бдительная. Яйца легко вываливались из острой, тонкой, как волосок, трубки, распространялись по коже цыпленка, укреплялись в плотной мышце крыла. Втянув в себя трубку, муха на мгновение замерла, а потом, жужжа, полетела прочь – чудо микродизайна, невольный пособник разложения.
* * *
Озябшая Адель неподвижно стояла перед мольбертом. Комната, расположенная в верхней части дома, идеально подходила для живописи. Большое венецианское окно и небо за ним. Она знала, что вообще-то полагается любить свет с севера, но отдавала предпочтение этому. Еще поднимаясь по лестнице, она уже чувствовала трепет – ее сердце билось, как рыба. Когда она открывала дверь и видела перед собой стол, заваленный тюбиками, кистями и ножами в стеклянных банках, штабелями холстов, прислоненных к стене, потертый синий кожаный диван, который Джеймс нашел на рынке у станции и настоял, чтобы его погрузили в такси и немедленно установили в студии, – ее сердце наполнялось чувством важности, таинственности, красоты. Здесь она жила. Никакое другое место на земле не было настолько ее. Сердце останавливалось, когда она думала, что что-нибудь может произойти и изменить это. Она боялась отдаваться этому чувству целиком – вдруг Бог наблюдает за ней и думает: «Хм, похоже, эта женщина уже забыла, что жизнь ее – юдоль печали».
Но она этого не забыла. Когда в ее руках, в страшной сверкающей воде умерла Руфи, слишком маленькая, слишком слабая, чтобы суметь противостоять зловещей силе, Адель подумала: вот наконец она вступила в реальный мир, все, что до этого происходило, – лишь грязная, подлая шутка, ее просто хотели заставить думать, что все в этой жизни хорошо. Вот каков он, реальный мир. Это – мертвый ребенок и ощущение непоправимости; и пусть ничего хуже произойти не может, такие вещи случаются в любое время, без всякого предупреждения, как раз когда ты улыбаешься и думаешь, что все просто прекрасно. Теперь мир никогда не будет прекрасным, потому что погибла Руфи.
Иногда она во внезапном испуге отворачивалась от Сэма: ей казалось, что его у нее тоже отнимут. Иногда она просыпалась с мыслью, что рано или поздно это будет именно так и лучше заранее привыкнуть к этому, держаться от сына подальше, быть холодной, постараться не привязываться. Сэм называл такие дни днями волшебных слов, потому что она вдруг становилась с ним очень вежливой: «спасибо», «пожалуйста». Он тоже становился вежливым, пристально смотрел на нее, и тогда она немножко оттаивала и снова становилась самой собой.
Адель подумала: «Мой ребенок, мой единственный сын», – и ее взгляд затуманился. Она понимала: несмотря на то что порой она казалась Сэму странной, он ее не осуждал. Он был замечательным ребенком. Но разве не все дети в его возрасте замечательны? Они начинают осуждать родителей потом, лет в тринадцать. И тогда берегись. Тебя будут постоянно пытаться вывести из равновесия, ты будешь всему мешать. Это она знала. Больше не будет поцелуев украдкой, маленьких влажных пальчиков, тянущихся к ее руке, когда они вместе переходят дорогу, ноготков, впивающихся ей в ладонь, когда мимо проезжают большие грузовики. Она размышляла о своей судьбе, и глаза ее наполнялись слезами. Из-за нее он будет выглядеть глупо перед своими друзьями (подружками? – подумала она, не в силах представить, что и такое может случиться), из-за нее он съежится от стыда, когда она скажет ему, что его друзьям пора по домам, а ему – спать. Она вздохнула, набрала в легкие побольше воздуха, задержала дыхание и выдохнула. Снова посмотрела на холст на мольберте.
Это был пейзаж. Ей казалось, что больше всего это походило на небесный пейзаж, потому что земли здесь было мало. Глубокая синева, незаметно выцветающая у горизонта в яичную скорлупу. Белое облако – несколько легких мазков в верхней части. Земля в коричневых и зеленых тонах. Трава, в контраст к реалистично выписанному небу, представляла собой простой геометрический орнамент полей с несколькими резко изломанными деревьями посередине. Она вытянула шею и прищурилась, чтобы получше рассмотреть картину. Она пыталась быть объективной, жестокой, смотреть на картину глазами своего агента, но, в общем, у нее это не очень хорошо получалось. Это же ее собственная картина, кто же еще вправе о ней судить? И картина была великолепна. Адель подумала: на ней же ничего нет. Ни домов, ни дорог, ни машин и, конечно, никаких людей. Даже животных не было. Она подошла к столу и стала искать цинковые белила. Овечка, думала она. Овечка.
* * *
Дядя Себастьян положил руку на плечи Джеймсу.
– Спасибо, что заехал к нам, Джеймс. Здорово, что смог вырваться. Бургер?
Джеймс вежливо отказался и попросил парня за прилавком сварить ему кофе, со сливками, два сахара. Ресторан – почему надо было назвать именно рестораном место, где тебе давали бургер и вышвыривали в среднем через двадцать минут, – был стилизован под ковбойский притон. На стенах висели большие пластиковые рога, пластиковые стулья были обиты воловьей кожей. Несколько ниш должны были по замыслу напоминать загоны для скота, но Джеймсу казалось, что они получились какими-то мрачно-функциональными, как на скотобойне. Но они не были единственной достопримечательностью этого места. Здесь подавали бургеры с необычными названиями: например, «Радость ковбоя» или «Голодная телка», которые имели необычную форму. В форме коровы (естественно), овцы, карты Техаса, ковбойской шляпы, а самым лучшим был бургер «Бюст игривой сью» в форме женской груди. У дяди Себастьяна было богатое и испорченное воображение.
– Ты бы обалдел, если бы узнал, кто к нам теперь сюда ходит, – говорил он, пока они ждали кофе. – Ребята в пиджаках с кейсами, заказывают все, что есть, и побольше, как будто хотят на продавца произвести впечатление. Чувствуют себя крутыми, будто они ковбои из кино. Им это нравится. Лондон – такое прозаическое место (он произнес слово «прозаическое» очень медленно, по слогам, чтобы Джеймс не пропустил его мимо ушей), а здесь они чувствуют себя, как в вестерне. Врубаешься?
– Незамысловато, – пробормотал Джеймс, думая о чем-то своем.
– Точно, – подтвердил Себастьян, наклонившись вперед. – А в результате рождается принципиально новый способ продажи бургеров. Я открыто признаю, что горжусь тем, как здесь организована торговля. А это, – сделал широкий жест, – это флагман. Скоро, через два, может быть, через пять лет, рестораны «Ковбой Джо» наводнят Лондон. Всю Британию. Организовать все по типу «Пицца-экспресс». Единственное, что придется делать, – это то, чего не делает никто: постоянно расширяться. Хочу тебе сказать, Джеймс, я полон оптимизма.
– Я понимаю, – сказал Джеймс.
Он отхлебнул, поморщился и старательно помешал кофе еще раз. Когда он разговаривал с Себастьяном, он чувствовал себя так, как будто... он даже не мог понять, как он себя чувствовал, когда разговаривал с Себастьяном. Наверное, как червяк, попавший в клюв птице. Как будто бы его переваривали.
– Вот так. Скоро меня уже здесь не будет.
Себастьян рассмеялся – это был смех на пятьдесят тысяч фунтов, в нем слышались поля для гольфа и лучшие ложи, – шлепнул Джеймса по плечу, потом игриво потрепал за щеку. Джеймс подумал: «Не может не потрогать, придурок» – и выдавил из себя улыбку.
– Ну что, перейдем к делу, Джим? Знаешь, когда Адель нас познакомила, я сразу понял, что она нашла себе отличного парня.
У Себастьяна был легкий акцент выходца из центральных графств. Нельзя сказать, чтобы сильный. "У" чуть глубже, "а" чуть короче и сильнее. Таким голосом люди обычно рассказывают о том, как росли в муниципальном доме, как отец порол их ремнем. Таким голосом после пары стаканов бренди начинают рассуждать о возможностях, которые эта некогда великая страна дарит человеку, наделенному воображением и решимостью, и, начав говорить, уже не могут остановиться. Нет, Джеймс не верил, что человек с таким голосом может когда-нибудь перейти к делу.
– Ну, я сразу к делу. Ты классный, сильный парень, верно? Сильные руки. Сильные ноги.
У Джеймса почему-то появилось ощущение, что Себастьян готов сделать ему непристойное предложение. Что, если мы с тобой прямо сейчас разденемся и немножко повозимся? Чтобы снять напряжение.
– Но это только начало. У тебя еще и голова есть на плечах. И между ног кое-что есть тоже, правда? Ты умеешь управлять. Людьми. Я говорю о людях, Джеймс. Не каждый умеет управлять людьми. Вот смотрю я на тебя. Как ты думаешь, что я вижу, Джим? Я вижу возможности. Пусть твой бизнес вылетел в трубу. Прости, но давай смотреть на мир реально. Всякий кризис сильнее всего бьет по строительному бизнесу. Особенно по таким одиночкам, как ты. Неудивительно, что ты идешь ко дну. Никто не может сказать, что ты неудачник. И если честно, Джим – я сейчас предельно откровенно с тобой разговариваю, – у тебя, – он сделал паузу, чтобы ткнуть Джеймса в ключицу, – впереди большой путь. Кто знает, насколько высоко ты поднимешься? Все зависит от тебя. Я могу сделать только одно – направить тебя в нужную сторону. Ну, может, чуть приоткрыть для тебя нужную дверь. Мир жесток, Джим, и сейчас он жесток как никогда. Конкуренция. И мне это нравится. Но хорошего парня никогда не вредно чуть подтолкнуть, чтобы он сдвинулся с места.
Джеймс напряженно пил кофе из кружки с оббитыми краями и молчал. Себастьян вызывал у него такое же отвращение, как и коммивояжер-неудачник, переехавший собаку. Кофе был густым и холодным. Интересно, этот самодовольный придурок собирается когда-нибудь заканчивать или все это будет продолжаться до тех пор, пока не появится один из ковбоев и не пристрелит его? Перед глазами Джеймса мелькнула кобура, а потом толстый дядя Сэм широко раскрыл глаза, вспотел и начал падать назад.
– Мистер Джеррет – ой, простите, простите, дядя Себастьян. – Вкус слов во рту напоминал дерьмо. – Я так понимаю, вы хотите мне сделать, как бы это сказать... предложение?
– Да.
В конце концов Себастьян угомонился и обрисовал свою идею. По мере того как Джеймс слушал, она обретала форму, а когда Себастьян закончил, Джеймс уже знал, что согласится тут же, без каких-либо условий и даже не советуясь с Адель. Это было великое предложение.
* * *
Недавно Себастьян навещал своего брата, который жил в Фишгарде, что на западе Уэльса. И ему вдруг вздумалось потеряться. Ему нравилось делать это время от времени: появлялись свобода и радость, те эмоции, которые трудно найти работящему, самостоятельному мужчине. Он наобум поворачивал то направо, то налево, куда взбредет в голову. Однажды он слышал на бизнес-семинаре, что мозг состоит из двух частей. Одна отвечает за все серьезные логические вопросы, а вторая занимается воображением и всякими веселыми штуками. Что-то типа этого, он не мог припомнить подробностей. Во всяком случае, часть, которой он позволил рулить в тот день, была не той, что практически из ничего построила ресторанную империю.
В конце концов Себастьян совершенно потерялся и очутился на дороге, которая вела из ниоткуда в никуда. Он остановил машину и вышел. Стоял туманный осенний день, теплый и неприветливый. Заметив на другом конце поля холм, он взобрался на него. Тут-то оно и случилось. Потом он присочинил разные детали, что его притянули туда особые силы, какой-то магнетизм, какие-то потоки. Себастьяна, при всей его приземленности, тянуло к неизвестному.
Перед ним простиралась огромная ферма. Викторианская, выстроенная из местного камня. Небольшие блоки разного размера, скрепленные цементом. Она явно была заброшена, кое-где начала разрушаться и все-таки выглядела внушительно, как некогда неприступная крепость. Она стояла в поле; на краю поля был утес, за которым начинался океан. Атлантический. Следующая остановка – Америка. Какая бы часть разума Себастьяна ни сидела в тот день за рулем, она немедленно нашла это место на вершине скалы, в духе Эмилии Бронте, дикое и пустынное. Решив, что надо брать, он не удивился, когда заметил прислоненный к стене щит «Продается». В доме чувствовалось некое стоическое равнодушие. Он будто бы говорил: пусть люди предаются в этих стенах своим бессмысленным страстям и разыгрывают свои драмы, поколение за поколением будет приходить и уходить, и только дом останется стоять вечно.
Себастьян был глубоко потрясен увиденным еще прежде, чем рассмотрел все вблизи. Неприятные предчувствия охватили его, как сквозняк в коридоре, но он не признавался себе в этом. Дом не может быть ни плохим, ни хорошим. Он может быть только безразличным, ну разве что немного враждебным. Этот-то уж точно не проявит ни к кому жалости, он может даже дать подножку тому, кто поведет себя неосторожно. Предчувствия перешли в радостное возбуждение. В нем пробуждался старый коммерческий запал, он уже обдумывал детали предприятия. Он берет этот дом. Он уже взял его. Себастьян чувствовал, как дом тянется к нему, засасывает в себя. Он берет этот дом.
Купив дом, пусть лишь в собственном воображении, Себастьян подошел поближе и обошел свои владения. Невероятно большой дом, трехэтажный, неправильной формы. Окна были совершенно примитивными, просто дыры, выбитые в сухом камне. К парадному входу, которого не было видно с дороги, вели две каменные плиты-ступени. Одна из плит была совершенно определенно могильной, но на ней остались лишь смутные воспоминания о резьбе. Она казалась невероятно старой. Парадная дверь представляла собой огромный дубовый чурбан, который, похоже, был когда-то частью невольничьего судна. И действительно, дверное кольцо напоминало ножные кандалы, частью которых оно могло когда-то быть, и как будто говорило посетителю, что огромные средства, истраченные на строительство дома и покупку земли, были получены на самых мрачных и жестоких дорогах славного девятнадцатого столетия. Можно было даже уловить влияние Бристоля.
С первого взгляда было понятно, что это не просто огромный дом, это кое-что получше: дом для могущественных, влиятельных людей. Вроде помещика-барона или дворянина-землевладельца. Люди, жившие в этом доме, были людьми видными, их прихоти удовлетворялись огромными доходами от импорта, однако они руководствовались в своей жизни законом. И в то же время они любили хорошо провести время. Одно из преимуществ, которые дает богатство – Себастьян считал себя богатым, а не просто обеспеченным человеком, – состояло в возможности купить себе компанию. Дом требовал от жильцов настоящей жизни. Вечеринки. Танцы. Музыка. Себастьян думал об огромном скоплении людей. Люди танцевали в поле возле утеса. Звон бокалов. Девушки. Наконец ум Себастьяна добрался до цели, вокруг которой вертелся все это время. Он понял, что надо делать в этом доме. Американцы назвали бы это «балами». Он – развлечением. Невинным, здоровым развлечением.
Очевидно, что дом пустовал уже давно. Несколько окон было разбито и заколочено досками. В юго-восточном углу крыша сильно провисла. Насколько он мог рассмотреть через окно нижнего этажа, комнаты были изуродованы пожаром и нуждались в капитальном ремонте. Работы много, серьезно подумал он. А потом, по его словам, он подумал: Джим Туллиан. Кто же еще? Семья. По крайней мере почти семья. Или, может, скоро будет семья. А? (Джеймс и Адель не были женаты. Ее родители терпеливо ждали, когда это случится. Его родители заявили, что свадьбу, если таковая состоится, посещать не намерены.) Цены упали, самое время покупать. Он записал номер агентства по недвижимости, указанный на побитом ветрами щите, и через час уже был в Хаверфордвесте, сидел в кресле и вел переговоры. У агента по недвижимости был такой вид, будто для него Рождество уже началось.
* * *
– Джеймс. Когда случилось это чудовищное происшествие с Руфью, – имя, произнесенное этим человеком, этим дядей Себастьяном, заставило Джеймса сжаться, – я чувствовал себя так, как будто умерла моя собственная дочь. Мне никогда не было так плохо. Честное слово, Джеймс. – «Ты просто не понимаешь, о чем говоришь, – подумал Джеймс. – Иначе ты бы этого не говорил». – И тогда я подумал, что тебе, Адели и малышу Сэму лучше всего убраться подальше от всего этого. В такое место, где бы вы могли быть вместе и, знаешь, попытаться пережить все это. Поменять жизнь. Перезарядить батарейки. Ты меня понимаешь.
– Себастьян...
– Не нужно пока ничего говорить, Джимми («Джимми?»), дай мне закончить. Я знаю, что малышу Сэму («ради Бога, ему уже семь лет») не очень хорошо в школе. Я слышал, что он плохо себя ведет, дразнится, правда? Ну, что-то такое. Все это очень печально. И Адель. Я знаю, что у нее скоро будет выставка. Очень важная. Ей собираются дать какой-то приз.
– Нет, просто комиссия выразила...
– На следующий год в мае?
– В апреле.
– В апреле. Точно. Это будет очень важное событие в ее жизни.
– Важное. Да.
Джеймс прекрасно понимал, какое огромное значение имеет эта выставка. Он знал, что происходило с Аделью: все, что она делала и что ей приходилось выносить, сколько решать проблем, бороться с равнодушием и критикой, стараться обзаводиться друзьями и знакомыми, чтобы стать тем, кем она была, – художником, агенту которого звонят из Призовой комиссии Тернера. Со времени первой выставки в художественной школе от нее многого ждали. Так все и говорили: «Многообещающий художник». Он помнил день, когда она впервые показала ему свои картины. Он сказал: «Многообещающе», – и она ударила его так сильно, что остался синяк, который ей потом пришлось покрывать бесконечными поцелуями...
– Джеймс? Ты слышишь меня? Я говорю: ты, Адель, малыш Сэм, все вместе вы поедете...
– Послушай. Дай мне сказать, – перебил его Джеймс, только чтобы убедить себя, что он тоже принимает какое-то участие в беседе (беседе? может, это инструктаж?). Порой Себастьян вел себя как армия оккупантов.
– Ты предлагаешь следующее: мы, то есть Дель, Сэм и я, переселяемся в этот твой дом в Уэльсе. На зиму. Скажем, на полгода, с октября по март. Я заберу Сэма из школы и буду учить его сам. Осмелюсь предположить, что смогу оправдать свою педагогическую квалификацию. Дель сможет спокойно работать, и добрые жалостливые друзья и соседи с подарками не будут прерывать ее каждые десять минут. И все это время старый Доббин, как ломовая лошадь, гнет спину, приводит дом в порядок, чтобы гордый владелец весной мог туда вселиться. Можно, например, придумать вечеринку, чтобы отметить это великое событие. Все веселятся, время взмахивает своей волшебной палочкой, зарубцовываются старые раны. И в конце этой счастливой идиллии – при условии, конечно, что дядя останется доволен работой, – Доббин пойдет на повышение, станет прорабом Фредом и будет руководить работой жизнерадостных потаскушек на всей ширящейся и растущей территории империи ковбойских ресторанов. Что-то вроде этого?
Джеймс понимал, что к концу своей речи почти перешел на крик. Ситуация была оскорбительная, он чувствовал себя как актриса, впервые в жизни встретившаяся с епископом.
– Ну Джеймс... – начал Себастьян, подняв руку, будто пытался остановить поток сделанных сгоряча неудачных заявлений, которые, конечно, нельзя уже взять назад, но впоследствии никто не будет использовать их против Джеймса. Если бы только этот поток иссяк, прежде чем хлынуть...
– Я согласен, – сказал Джеймс. Он услышал голос человека, которого только что уговорили купить то, о чем он и так мечтал всю свою жизнь. – Спасибо, Себастьян. Честное слово, – улыбаясь, сказал он и протянул руку. Это должно было выражать мужскую солидарность и конец переговоров. Себастьян сжал Джеймсу ладонь, подтянул его к себе, обнял его за шею, дыхнул в ухо перегаром и сказал:
– Молодец. Хороший парень.








