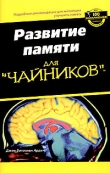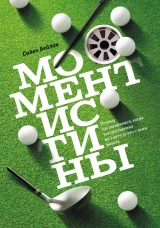
Текст книги "Момент истины. Почему мы ошибаемся, когда все поставлено на карту, и что с этим делать?"
Автор книги: Сайен Бейлок
Жанры:
Самопознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Музыкальные занятия, особенно начавшиеся в раннем возрасте, способны активизировать нервные связи между полушариями мозга.
Почему так? Некоторые считают, что занятия музыкой в детстве, например игра на скрипке или фортепиано, мало зависят от префронтальной коры мозга. Последняя принимает более активное участие в обучении на последующих этапах (она вообще полностью активизируется только ко взрослому возрасту). В детстве же в основном задействуются соматосенсорные системы и двигательные участки коры мозга. Раннее обучение помогает приобретению сложных навыков, в развитии которых активно участвуют именно эти отделы мозга.
Эти же механизмы задействуются при усвоении фонетики иностранных языков25. Обычно у нас лучшее произношение в тех языках, которые мы изучали с детства. По мнению ученых, причина отчасти в том, что в детстве запоминание иностранных слов обеспечивается при большем участии соматосенсорных участков коры головного мозга, чем во взрослом возрасте. Поскольку эти участки активны как раз в распознавании звуков иностранных слов и их произнесении, воспроизводить правильное звучание легче.
Вместе с моим соавтором Артуро Фернандесом мы показали, что между возрастом, когда гольфист начинает тренировки, и тем, как его мозг обеспечивает точность ударов, есть непосредственная связь. Мы установили, что хорошие гольфисты, которые начали обучаться игре в возрасте старше десяти лет, при обработке простых мячей опираются на рабочую память в большей степени, чем те, кто начал обучение раньше. Даже если выбрать группу одинаково профессиональных гольфистов, равных по квалификации (с гандикапом[6] по PGA, выражающимся одной цифрой), среди них будет разница: в зависимости от времени начала обучения игре их мозг по-разному контролирует действия.
Чем позже гольфисты начинают обучение и тренировки, тем выше у них вероятность психологического срыва.
Мы считаем, что чем позже гольфист начинает обучение и тренировки, тем выше для него вероятность психологического срыва. Как я покажу ниже, в условиях стрессовой нагрузки спортсмены иногда пытаются контролировать свое выступление так, что это приводит к провалу. Это явление (паралич анализа) зачастую вызвано перевозбуждением префронтальной коры. Один из путей решения проблемы – овладение методиками снижения зависимости от рабочей памяти. Если вы начинаете заниматься гольфом в детстве, то можете приучить себя к тому, что префронтальная кора не будет излишне задействоваться в стрессовых ситуациях. Те, кто начинает играть в гольф в первые годы жизни, могут успешнее других противостоять стрессам. Но чтобы избежать отрицательного влияния слишком ранней концентрации на одном виде спорта, хорошо сочетать детский гольф с другими видами физических занятий.
Склонность спортсмена к навязчивому переосмыслению своих выступлений – симптом возможного срыва во время ответственных соревнований.
Доктор Ричард Мастерс и его коллеги, создавшие Институт по изучению человеческих возможностей в Гонконгском университете, уверены, что склонность спортсмена излишне сосредоточиваться на навязчивом переосмыслении своих выступлений может быть сигналом будущего срыва во время ответственных соревнований.
Мастерс просит спортсменов расставить нижеприведенные ответы по порядку от «категорически не согласен» до «полностью согласен». Он показал, что характер ответов на эти вопросы предопределяет вероятность неудачного выступления спортсмена под воздействием стресса26.
Я редко забываю моменты, когда мои моторные навыки меня подвели, даже если неудача была мелкой.
Я всегда стараюсь понять причину, по которой мое действие оказалось неудачным.
Я много думаю о своих движениях.
Я всегда думаю о своих движениях, когда выполняю их.
Я всегда держу в голове то, как я выгляжу при выполнении движений.
Иногда мне кажется, что я смотрю со стороны на то, как я двигаюсь.
Я осознаю, как действуют мои разум и тело при выполнении того или иного движения.
Меня очень беспокоит, как я двигаюсь.
Если я вижу свое отражение в витрине, то внимательно слежу за своими движениями.
Меня очень волнует, что думают люди о том, как я двигаюсь.
Мастерс обнаружил, что члены университетской команды по сквошу[7] и теннису, которых тренеры считали «склонными к срывам под воздействием стресс-факторов», были в основном более согласны со смысловой направленностью вопросов, чем те, кого тренеры рассматривали как «крепких орешков», неподвластных стрессам. В последнее время Мастерс и его коллеги обнаружили еще и такой интересный феномен: люди с болезнью Паркинсона также чаще согласны с приводимыми утверждениями, чем те, у кого нет неврологических болезней дегенеративного типа. Чем дольше люди болеют, тем чаще положительно отвечают на вопросы. Болезнь Паркинсона характеризуется двигательными нарушениями. Это часто заставляет излишне сосредоточиваться на каждом действии. В спорте излишняя концентрация может привести к сильной деформации привычных движений, что происходит во время того самого «ч-черт!» при непопадании простейшего мяча в лунку. Мы вернемся к этому в главе 727.
Итоги
Наша футбольная звезда Дэн провел на поле долгие часы, стараясь развить свои скоростные качества и превратить их в свое преимущество. Фору давала ему и дата рождения. Ведь он был старше товарищей по команде, обладал лучшей координацией движений и был более развит физически. Его рано отобрали для усиленных тренировок и подготовки к ответственным соревнованиям. Дэн для удовольствия активно занимался и другими видами спорта, что уберегло его от специфических спортивных травм и раннего перегорания футболом. А может, и от обеих этих опасностей.
Все эти факторы, тесно связанные с тренировочным процессом, важны для будущих успехов ребенка. Понимание того, как люди становятся лучшими – на спортивной площадке, на сцене, в конференц-зале, в учебной аудитории, – само по себе интересно. Но еще интереснее понять, почему люди терпят неудачу в условиях стресса. Прежде чем мы рассмотрим природу подобных провалов (и вопрос о том, что предпринять, чтобы минимизировать отрицательные результаты), стоит затронуть еще несколько тем, касающихся приобретения различных навыков и умений.
Всем ясно, что уровень природных мыслительных и моторных способностей у всех разный. Например, финский лыжник Ээро Мянтюранта отличался генетическими особенностями метаболизма, в результате которых в его крови было повышенное содержание гемоглобина, что обеспечивало более обильное поступление кислорода в мозг и мышцы28. Конечно, это помогло ему достичь вершин в таком виде спорта, где выносливость играет одну из важнейших ролей.
Что знает современная наука о различиях в генетике людей и как они влияют на достижения в спорте и образовании, эффективность в различных областях? Даже если мы могли бы упорными тренировками сравнять эти различия – нужно ли это? В следующих главах мы это обсудим.
Глава 3
Когда лучше меньше, чем больше
Почему перенапряжение префронтальной коры мозга не всегда полезно
Сара выросла на холмах города Окленда, в просторном доме, который ее семья обожала. Дом стоял в тихом тупиковом переулке, и оттуда открывался восхитительный вид на залив Сан-Франциско. Но летом того года, когда Сара пошла в седьмой класс, они переехали ниже по холму в город Пьедмонт. Причина была проста: высокое качество государственных школ в Пьедмонте.
Возможно, вы и не слышали о Пьедмонте или о системе его школ. Это небольшой «спальный» городок с населением 11 тысяч человек, со всех сторон окруженный Оклендом. Географически два города тесно связаны, но при этом они очень разные. Во-первых, средняя цена жилых домов в Пьедмонте почти в три раза выше. Главная причина – система среднего образования. Школы Пьедмонта занимают первые строчки рейтингов среди государственных школ Калифорнии. Школы Окленда располагаются в этом рейтинге ближе к концу. Когда люди покупают дом в Пьедмонте, они платят не только за место проживания, но и за право отправлять своих детей в прекрасные школы.
Родители Сары, несомненно, рассматривали качество преподавания и атмосферу школы, в которой предстояло продолжать учиться их дочери, как важнейшие факторы, определяющие ее успехи в учебе. Как я показала в главе 2, постоянные тренировки и практика необходимы. Но хотя качественное преподавание важно, никто не сомневается и в том, что не менее значима и атмосфера. Как и родители Сары, многие люди тратят тысячи долларов на то, чтобы переехать в более престижные места, где их дети могут посещать хорошие муниципальные школы. Другие отдают большие деньги в престижные частные учебные заведения. Далеко не все родители могут позволить себе переехать в район с хорошими школами, как не все могут позволить себе траты на частные заведения. Поэтому дети и получают очень разное по качеству среднее образование.
Если бы уровень преподавания в школе был единственным фактором, определяющим будущие успехи ребенка, то после Пьедмонта Сара непременно оказалась бы в одном из престижнейших университетов Лиги плюща вроде Гарварда или Принстона. А ее школьные товарищи из Окленда могли бы попасть разве что в менее известные вузы. Но вышло иначе. После школы Сара поступила в Чикагский университет, который считается менее академически продвинутым, чем Стэнфорд или Калифорнийский университет в Беркли, куда как раз и прорвались некоторые ее одноклассники из Окленда.
Значит, фактор среды всего не объясняет. Мы рождаемся не только с разными физическими параметрами, но и с разными способностями. И эти различия (наряду с различиями в образовательной среде) могут повлиять на наши успехи в школе и университете. Но хотя Сара никогда не блистала в своей школе в Пьедмонте и не попала в престижный университет, это не помешало ей позже достичь заметного жизненного успеха. Сегодня ей немного за тридцать, она успешная бизнес-леди, совладелица и генеральный директор рекламной компании, занимающейся продвижением высокотехнологичных продуктов и расположенной в престижном районе Сан-Франциско. Ее часто отмечают за изобретательные рекламные кампании и особый «импровизационный» стиль. Заказов у компании больше, чем она может выполнить. По всем показателям Сара успешна.
В школе она любила многие предметы, но никогда не питала пристрастия к математике. Ее не увлекали числа, она не любила таблицу умножения и алгебраические уравнения. К ее счастью, в преподавании математики в ее пьедмонтской школе больше времени посвящалось не написанию формул или запоминанию таблицы умножения, а решению логических задач. Учитель у Сары был прекрасный. Он понимал, что развитие у детей логических способностей и умения правильно рассуждать – важная часть становления их математических способностей. Но он мог и не знать, что логические задачи, которые он давал ученикам, психологи используют, чтобы выявить тех, кто обладает развитыми когнитивными способностями, и тех, умственные возможности которых ниже.
Возьмем следующую задачу.
1.-Дано. Все млекопитающие могут ходить. Собаки – млекопитающие.
Заключение. Собаки могут ходить.
Заключение логически вытекает из исходных условий?
Теперь вторая задача.
2.-Дано. Все млекопитающие могут ходить. Дельфины – млекопитающие.
Заключение. Дельфины могут ходить.
Заключение логически вытекает из исходных условий?
Дельфины ходить не могут. Но с точки зрения логики ответы для обеих задач должны быть положительными.
Все, кому предлагаются эти задачи, решают первую правильно. Положительный ответ и логичен (вытекает из исходных условий), и правдоподобен (действительно, собаки могут ходить). Со второй не всё так просто. Почему? Ее решение требует не только логического мышления, но и отыскания среди хранящейся в памяти человека информации ответа на вопрос о правдоподобности заключения. Эта информация используется при принятии решения. Решать задачу нам помогает рабочая память.
Но всегда ли активация рабочей памяти, «локомотива» нашего сознания, – это хорошо? С одной стороны, исследования показывают, что чем больше у человека объем рабочей памяти, тем лучше он справляется с учебными заданиями, начиная от понимания текста и заканчивая математическими задачами. С другой стороны, то, что позволяет людям с лучшей рабочей памятью легче решать логические задачи второго типа, может помешать им же тогда, когда необходимо принимать нестандартные, «импровизированные» решения. Людям с развитым интеллектом зачастую труднее оценивать поступающую информацию по-новому. И чем больше мы узнаем об этом явлении, тем более реальным оно нам представляется. Есть много примеров того, как люди начинают испытывать проблемы с решением задач, когда в их голове есть слишком обширные знания и ментальный потенциал. Возьмем задачу, которую предложил немецкий психолог Карл Дункер[8] в 1945 году. Он просил испытуемых закрепить свечу у вертикальной стены только при помощи коробки кнопок и упаковки спичек типа «книжка».

Задача Дункера со свечой29
Для решения задачи нужно понять, что коробка может быть не только контейнером, но и подставкой. Взрослые особенно трудно приходят к этой мысли, зацикливаясь на том, что она нужна только для хранения кнопок. Даже пятилетние дети часто решают задачу лучше взрослых. Причина в том, что рабочая память и префронтальная кора, отвечающая за нее, развиваются с возрастом. Взрослые труднее находят решение, поскольку слишком убеждены, что коробка – только контейнер для кнопок. Пятилетние малыши еще не очень хорошо осознают главную функцию коробки и не скованы влиянием префронтальной коры. Поэтому они могут предложить новые и необычные пути использования коробки. В результате они находят творческое решение30.
Далеко не все взрослые попадают в ловушку функциональной закрепощенности – неспособности увидеть новый и непривычный способ использования хорошо известного предмета, как в случае с коробкой для кнопок, когда ее нужно применить как подставку. Вы слышали выражение «решить задачу в стиле Макгайвера»? Это выражение запечатлело в себе название популярного приключенческого боевика MacGyver, который шел в США на телеканале АВС с середины 80-х до начала 90-х. Главный персонаж, секретный агент Ангус Макгайвер (его играл актер Ричард Андерсон), использовал свою находчивость и последние научно-технические достижения, чтобы решать любые задачи. С помощью шоколада он останавливал утечку кислоты из гигантской емкости, а с помощью зажима для бумаги обесточивал атомную ракету. Макгайвер постоянно демонстрировал способность придумывать неожиданные способы использования привычных объектов. Он не испытывал функциональной закрепощенности.
Или вспомним полет космического корабля «Аполлон-13» на Луну в апреле 1970 года. Тогда астронавтам пришлось быстро устранять серьезную неполадку после того, как на корабле взорвалась емкость с кислородом и повредила его. Это создало угрозу жизни участников полета. Судя по всему, многолетняя привычка к принятию нестандартных решений помогла этим людям, независимо от размера их рабочей памяти, придумать необычный способ спасения. Чтобы максимально сохранить ресурсы основного корабля, астронавты перешли в спускаемый модуль, пристыкованный к «Аполлону-13». Но в специальных емкостях этого модуля было недостаточно гидроксида лития, который используется для очистки углекислого газа, выдыхаемого членами экипажа (при разработке программы полета не планировалось, что астронавты проведут в спускаемом модуле столько времени). А в самом корабле запасов вещества хватало. В центре управления полетами предложили соединить выходные клапаны емкостей корабля с очистительной системой лунного модуля при помощи импровизированного трубопровода из пластиковых пакетов, картона и клейкой ленты для герметизации воздуховодов. Иными словами, космические инженеры смогли предложить новый способ использования привычных вещей, что обеспечило астронавтам воздух.
С потолка свисают две веревочки. Они слишком далеко друг от друга для того, чтобы можно было, держась за одну, подойти к другой. Под веревочками стоит стол, на котором лежит коробка спичек, отвертка и несколько кусочков ваты. Как связать концы веревок?
Я попросила знакомых мне брата и сестру – второклассника Дина и семиклассницу Изабеллу – решить эту задачу. После тщательного обдумывания каждый из них дал свой ответ. Изабелла предложила привязать к одной из веревочек отвертку, раскачать ее наподобие маятника и в какой-то момент поймать в месте наибольшего приближения ко второй веревке. Дин идею сестры одобрил, но, в свою очередь, предложил подставить под веревки стол так, чтобы захватить обе и связать. Очень простое решение.
Когда люди видят в отвертке не подобие маятника, а только инструмент для закручивания болтов и шурупов, они не могут придумывать творческие, импровизационные решения. Семикласснице Изабелле удалось избежать этого. Но работа ее более развитой (во всяком случае по сравнению с братом) префронтальной коры не позволила ей найти еще более простое решение: встать на стол.
Когда люди с развитой рабочей памятью сталкиваются с проблемами вроде задачи с веревками, которые требуют нестандартного подхода, им часто сложно найти быстрый и простой ответ. Многие взрослые никогда не думали об отвертке как о маятнике. Им даже в голову не пришло бы, что решить задачу можно, просто встав на стол. Люди с высокими интеллектуальными способностями склонны к поиску сложных путей решения проблем. Даже если в итоге они находят правильный ответ, они тратят на это массу времени и сил.
Несколько лет назад я и моя докторантка Марси получили убедительное подтверждение этому. Мы попросили студентов университета решить ряд математических задач, в целом известных как «задачи Лачинса с сосудами», и посмотрели на способы решения в зависимости от уровня развития рабочей памяти31. Условия задачи Абрахама Лачинса таковы: есть три сосуда разной емкости, из них нужно переливать жидкость так, чтобы в четвертом сосуде в итоге оказался определенный ее объем.
Участникам эксперимента предлагается математическая формула решения задач и числовые обозначения емкости сосудов (написаны под ними). Студенты могут мысленно переливать воду из сосуда в сосуд в любых количествах. При этом важное условие – найти самый простой способ решения.
Мы с Марси дали примерно сотне студентов один и тот же блок из шести задач. Первые из них можно было решить, только применяя сложный многоходовый способ.

Например, чтобы решить изображенную выше задачу, вы должны полностью наполнить сосуд В (96 единиц), затем вылить из него 23 единицы в сосуд А, затем вылить остаток жидкости в сосуде В (96 – 23 = 73) в сосуд С… и так дважды. Получится 73 – 3 – 3 = 67. Вот как выглядела формула решения задачи: В – А – 2С (96 – 23 – 3 – 3). Эта формула применима и к следующей задаче (49 – 23 – 3 – 3 = 20).

Но для решения второй задачи применим и гораздо более простой способ: А – С (23 – 3). Нас с Марси интересовало, смогут ли испытуемые найти его (помните, мы ставили условие, что решение должно быть максимально простым) или продолжат использовать сложный.
Как мы и предполагали, чем большей рабочей памятью обладали студенты, тем труднее им было искать простое решение. Оно даже не приходило им в голову. А их сверстники с менее развитой рабочей памятью сразу находили легкое решение.
Почему же, по теории Абрахама Лачинса, большая развитость рабочей памяти может приводить к неудачам в поиске простых решений? Почему этот фактор вызывает сложности в отходе от стереотипов, как это произошло с нашими бейсбольными фанатами? Или в случае с коробкой для кнопок, которая в пустом виде могла стать основанием или подпоркой для свечи?
Люди с развитой рабочей памятью хорошо воспринимают важную информацию и игнорируют менее значимые раздражители. Часто такая способность к концентрации внимания может стать серьезным преимуществом. Например, при решении задачи, где нужно проигнорировать заключение «Дельфины могут ходить», чтобы дать правильный ответ на вывод, который логически вытекает из условий задачи. Но это не всегда возможно. Чрезмерная сосредоточенность на чем-то одном может помешать человеку увидеть альтернативные пути решения. Она даже иногда не позволяет обнаруживать неожиданности, происходящие вокруг вас.
Вспомните один из известнейших эпизодов из истории университетского американского футбола. Он произошел 20 ноября 1982 года на стадионе Memorial Football Stadium в Калифорнийском университете. Здесь проходил важнейший матч между принципиальными соперниками: командой Golden Bears из Калифорнийского университета и Cardinals из Стэнфорда. За четыре секунды до конца матча Стэнфорд провел голевой удар и повел в счете 20:19. Большинство зрителей решили, что игра уже окончена, включая и участников оркестра Стэнфордского университета, которые начали выходить на поле, готовясь громко отпраздновать неминуемую, казалось бы, победу своей команды, хотя игра еще продолжалась.
Однако в одном из самых невероятных маневров за всю историю американского футбола команда Golden Bears отыграла голевой удар Стэнфорда серией продольных пасов и победила со счетом 25:20.
На следующий год журнал Sports Illustrated опубликовал большую статью на 12 страниц, посвященную этому матчу и озаглавленную «Анатомия чуда»[9]. Эксперты журнала пришли к выводу, что игра прошла по всем правилам и ее счет законен, хотя члены спортивного оркестра Стэнфорда вышли на поле за несколько секунд до ее окончания. Музыканты даже не успели заметить приближения калифорнийской команды. Это доказывал тот факт, что игрок Кэлс Моен, который принес команде последнее очко, поймав мяч в 25-ярдовой (23-метровой) зоне, сбил с ног стэнфордского тромбониста Гэри Тайррелла, который находился на поле и не представлял себе, что там происходит.
Тайррелл, видимо, не заметил несущегося на него игрока, потому что в тот момент у него работала только префронтальная кора мозга, которая отвечает за рабочую память. В такой ситуации другие части мозга, контролирующие соматосенсорику и моторику, работают менее активно. А ведь именно они наиболее чувствительны к неожиданным ситуациям, тогда как префронтальная кора скорее анализирует уже случившееся. Люди, у которых преимущественно работает префронтальная кора, пропускают неожиданные события именно потому, что не могут воспользоваться преимуществами отделов мозга, которые на подсознательном уровне улавливают изменения вокруг нас.
Вспомните последнюю вечеринку, в которой вы участвовали. Да, именно вечеринку. Способность уловить ваше имя, которое кто-то произнес в другом конце комнаты – не громко, а вполголоса, – усиливается тогда, когда когнитивная деятельность мозга менее активна. Эта способность называется коктейль-пати эффектом32. Да, это термин из современной психологии. У тех, у кого рабочая память меньше, этот эффект более выражен, чем у людей с большим ее объемом, потому что первым обычно трудно сосредоточиться на чем-то одном и их внимание скользит, останавливаясь на многих раздражителях. И они слышат свое имя даже тогда, когда не стараются его услышать. И такой способности улавливать неожиданности был лишен тромбонист Гэри Тайррелл.
Таким образом, получение новой неожиданной информации иногда легче дается людям с менее развитыми когнитивными способностями. Конечно, способность подслушать с точки зрения науки не относится к числу особо ценных качеств. Но умение не сосредоточиваться полностью только на одном объекте иногда полезно для освоения некоторых умений и навыков, важных для получения образования и работы, например изучения иностранных языков. Есть распространенное мнение, что людям с меньшей рабочей памятью (например, с синдромом дефицита внимания и гиперактивности) труднее действовать в сложных ситуациях. Но есть и такие сферы человеческой деятельности, где меньше значит больше. Вы увидите это ниже.
Учитесь как дети
Люди, которые начинают говорить с детства на двух языках, обычно одинаково хорошо владеют обоими в зрелом возрасте. Этого нельзя сказать о тех, кто начинает учить второй язык позже, уже в зрелом возрасте, независимо от того, сколько они корпят над учебниками. Дети так легко овладевают иностранными языками, в частности, потому, что когнитивные способности человека развиваются с возрастом. Рабочая память у детей значительно меньше, чем у взрослых. Это и помогает им быстрее схватывать иностранные слова.
Чтобы изучить чужой язык, вы должны уметь правильно отбирать различные единицы информации в разговоре. Это слова и их сочетания. Это грамматические показатели, изменяющие их значение, такие как s в английском языке (показатель множественного числа). Исследуя типовые ошибки, которые люди совершают при изучении иностранного языка, ученые обнаружили, что у взрослых и детей они разные. А причина в том, что взрослые в процессе обучения слишком активно используют рабочую память.
Например, они воспринимают слова как целые единицы. Они переносят их по отдельности или фразами в новые контексты, даже если эти единицы для последних не подходят. Поэтому зачастую взрослые сохраняют показатель множественного числа s в слове, подразумевая форму единственного числа: просто потому, что слышали слово во множественном числе и запомнили его. А дети улавливают любые отдельные единицы языка, что помогает им запоминать их быстро и правильно.
Ученые Алан Керстен и Джулия Эрлз показали, что при изучении иностранного языка взрослые лучше запоминают слова и правила их использования тогда, когда сначала эти слова им представляют отдельно, а потом в составе предложений33. Взрослые справляются с чужим языком хуже, если им сразу показывают все его сложности. Запоминание небольших единиц информации позволяет им осваивать язык так, как будто их рабочая память не задействована полностью и у них бездействует мощная префронтальная кора, как у детей. Тогда они изучают иностранные языки быстрее.
Конечно, развитые когнитивные способности в большинстве видов человеческой деятельности приносят скорее пользу, чем вред. Когда в магазине вы решаете в уме математическую задачу, выбирая самую выгодную покупку, притом что для разных товаров цены указаны за разные объемы, то чем больше развита ваша рабочая память, тем лучше. Но когда вы должны найти творческое импровизационное решение или применить гибкую тактику в разрешении проблемы, то наличие сильной рабочей памяти (и отсутствие способности «отключать» ее по команде) может создать дополнительные трудности. В таких ситуациях люди с меньшим объемом рабочей памяти справятся лучше.
Однажды итальянские исследователи попросили пациентов с поврежденной в результате несчастного случая или инсульта префронтальной корой поучаствовать в решении необычных математических задач. С этой же просьбой они обратились к группе здоровых людей34.
Вначале обеим группам предложили арифметические задачи вроде представленных ниже. Задачи были изображены на спичках.

По сути, это не математическая задача. Суть в том, чтобы, передвинув одну спичку, получить правильное арифметическое выражение. Нужно было переместить самую левую спичку вправо от римской цифры V, чтобы получилось так:

Более 90% здоровых участников и столько же пациентов с нарушениями префронтальной коры правильно решили задачу. Это неудивительно: решение лежит на поверхности.
Но картина изменилась, когда условия задачи поменялись:

Здесь участникам эксперимента предстояло отойти от чистой арифметики и вообразить другое возможное использование спичек. Только 43% здоровых людей смогли решить ее. Удивительно, что гораздо больше – 82% – пациентов с нарушениями префронтальной коры нашли правильное решение.
Сдаетесь? Нужно изменить знак «+», повернув вертикальный штрих на 90 градусов – в горизонтальное положение. При этом выражение превращается в математическую тавтологию.

Пациенты с пораженной префронтальной корой смогли посмотреть на проблему с необычного угла и увидеть возможность превращения знака «+» в знак равенства. Здоровые участники были слишком сосредоточены на математической сути задачи и не смогли увидеть нестандартного решения.
Больше или меньше?
Каков вывод? С одной стороны, более развитая рабочая память – это хорошо. Люди, у которых она действует активнее, как правило, достигают по всем привычным меркам высоких результатов в учебе. С другой – мы только что увидели несколько примеров того, как способность сосредоточиваться на одной единице информации или раздражителе и игнорировать другие (основа рабочей памяти) может помешать творческому мышлению, изучению языков, принятию импровизационных решений.
Вспомните о Саре, семикласснице, которую родители перевезли из Окленда в Пьедмонт, чтобы она посещала лучшую школу. Сара никогда не блистала по общепринятым показателям вроде текущих оценок и результатов тестов. Скорее всего, ее отнесли бы к нижней части группы сверстников по показателю рабочей памяти. Однако она всегда мыслила творчески и умела находить новые, нестандартные пути решения проблем. В итоге ее ждал успех в рекламном бизнесе – сфере, где умение находить необычные решения и импровизировать не только важно, но и необходимо. Но что лучше? Превосходить других в когнитивных способностях или нет? И да и нет. Оптимальный вариант – иметь достаточные мыслительно-аналитические способности и в то же время быть в состоянии в нужный момент «выключать» их, когда они не дадут преимущества.
Психологи из Университета штата Луизиана, кажется, нашли элементы ключа, с помощью которого можно достичь этой цели, по крайней мере при изучении иностранных языков. Взрослым удается достичь лучших результатов, когда они могут рассредоточивать свое внимание и не зацикливаться на том, что они в данный момент пытаются заучить35.
Взрослым удается достичь лучших результатов в изучении нового для них языка тогда, когда они могут рассредоточивать внимание и не зацикливаться на том, что они пытаются заучить, – то есть тогда, когда они больше походят на детей с неразвитой префронтальной корой головного мозга.
Ученые рассказали студентам об американском жестовом языке (амслене) для глухих и пообещали научить их простым предложениям вроде «Я помогу тебе» или «Ты поможешь мне». Студенты просмотрели видеозапись, на которой предложения сначала показывались в письменном виде, а затем воспроизводились жестами. Некоторые запоминали комбинации жестов, ни на что не отвлекаясь. Другие просматривали видеозапись с жестами и одновременно выполняли другие отвлекающие задания. Например, подсчитывали количество высоких звуков, которые были также записаны на видео. В конце студентов попросили попытаться составить новые предложения из жестов, которые они запомнили.