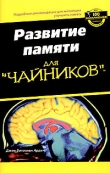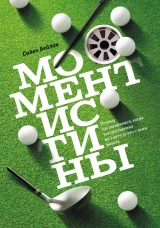
Текст книги "Момент истины. Почему мы ошибаемся, когда все поставлено на карту, и что с этим делать?"
Автор книги: Сайен Бейлок
Жанры:
Самопознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Можете представить себе процедурную память в виде набора когнитивных инструментов, обеспечивающих успешную поездку на велосипеде, попадание мячом для гольфа в лунку, удачный бросок в баскетболе или почти автоматическое управление функциями мобильного телефона. И все они работают у вас в основном на подсознательном уровне. Всё потому, что, освоив их, вы реализуете их слишком быстро, чтобы успеть осознать свои действия. Поэтому вам трудно описать словами то, что хранится в вашей процедурной памяти. Если вы не думаете об отдельных действиях, которые совершаете при решении задачи, то описать их другому человеку (или использовать при оценке времени, необходимого для их повторения) вам может быть сложно.
Процедурную память отличают от декларативной (эксплицитной), которая обеспечивает способность логически оценивать текущие события и вспомнить детали разговора с супругом(-ой) пару недель назад2. Как ни странно, у нас есть память, наличие которой мы не осознаем, и память, которая работает с участием сознания. Но когда вы узнаете больше о строении головного мозга, это перестанет вас удивлять. За процедурную и декларативную память отвечают разные отделы мозга; одни виды действий обеспечиваются одним видом памяти, а другие – другим.
Одно из самых сильных доказательств разделения видов памяти у человека было получено в случае с пациентом по имени Генри Моллисон. 1 сентября он перенес сложную нейрохирургическую операцию, в ходе которой у него удалили височные доли мозга и часть гиппокампа[3]. Моллисон страдал тяжелейшими эпилептическими припадками, и никакие лекарства ему не помогали. Операция оставалась последним средством. После хирургического вмешательства припадки у Моллисона прекратились, но он утратил и значительную долю гиппокампа – части мозга, которая отвечает за перевод новой информации в декларативную память, создавая долговременные воспоминания. В результате он перестал запоминать новые события. Спустя неделю он не помнил людей, которых уже встречал. При этом пациент сохранил способность усваивать некоторые навыки (например, последовательность движений пальцев при игре на пианино или наблюдение за перемещениями предметов по их отражению в зеркале), которые в основном поддерживаются процедурной памятью. Она обеспечивается двигательной областью коры головного мозга, теменной долей и подкорковыми узлами. Они не затрагивались в ходе операции3. Разумеется, Моллисон не был способен ответить на вопросы о том, как именно он реализовывал навыки, основанные на процедурной памяти. Этого не могут сделать и люди, чей мозг не подвергался хирургическому вмешательству. Представьте себе на секунду, что мог бы сказать вам Майкл Джордан о том, как он забивает мяч сверху. Возможно, он в шутку сослался бы на слоган корпорации Nike и произнес бы что-то вроде «Просто делаю, и все!» (Just do it). И не потому, что не хочет раскрывать секреты своих полетов над площадкой, а поскольку не осознает, что именно он делает. Чем лучше мы осваиваем навык – будь то владение функциями мобильного телефона или умение ездить на велосипеде, – тем слабее он отражается в декларативной, сознательной памяти. Мы реализуем его всё лучше – и наша процедурная память сохраняет его всё четче. Но нам не становится проще рассказать о том, как мы действуем, или научить этому навыку других.
Чем лучше мы осваиваем навык, тем слабее он отражается в нашей декларативной памяти.
В этой части лекции меня перебивает мужчина, сидящий прямо передо мной. Он представляется Джоном и предлагает свою историю. Я соглашаюсь, и Джон рассказывает о том, что произошло с ним несколько месяцев назад, когда возглавляемая им группа специалистов в области информационных технологий хотела предложить одной крупной авиакомпании новую программу резервирования билетов онлайн. Эта программа должна была привлечь больше клиентов на сайт компании и значительно упростить для них процедуру резервирования.
Джон установил для сотрудников срок разработки нового ПО и подготовки презентации, которая должна была состояться на следующей неделе с приглашением представителей заказчика. Рабочее совещание с коллегами он провел в понедельник и попросил их собраться в его кабинете с наработками в конце дня в пятницу. День подходил к концу, но ни один из подчиненных Джона в его кабинете не появлялся. Наконец вошел один из менеджеров среднего звена и честно заявил, что группе не хватило времени, чтобы решить поставленную задачу. Сначала Джон испытал приступ гнева. Но когда сотрудник объяснил ему, как много часов потратила группа на работу и с какими неожиданными трудностями ей пришлось столкнуться, Джон понял, что он недооценил сложность задачи. Самому ему приходилось сталкиваться с такими же трудностями в прошлом, когда он был рядовым сотрудником. Но он почти забыл о них при оценке возможностей своей группы выдать «на-гора» окончательный продукт.
Что же могут сделать руководители, чтобы научиться точнее оценивать способности и возможности подчиненных? Полезно выслушать рекомендации кого-то с меньшим опытом работы. Вспомните эксперимент Памелы Хиндс. Испытуемые с небольшим опытом использования мобильного телефона оказались самыми точными в определении времени, необходимого новичку для освоения устройства. Джон тоже стал прибегать к такой практике. Теперь, прежде чем поручить команде новый большой проект, он спрашивает у некоторых сотрудников мнение о проблемах, с которыми они могут столкнуться, а также о нужном времени и возможной помощи. Джон считает, что заблаговременное прояснение этих вопросов позволяет ему и команде адекватно оценивать перспективы. Это, в свою очередь, дает возможность точнее определить сроки работы для клиентов, что повышает уровень их удовлетворенности компанией.
Людям с обширными знаниями и опытом полезно выслушивать мнения менее искушенных коллег не только в мире бизнеса. Известно, например, что создание пары из студентов-математиков с более и менее высоким уровнем знаний позволяет каждому из них понять сложные математические проблемы глубже, чем если бы они занимались этим поодиночке. Неудивительно, что более слабые студенты выигрывают от совместной работы с более сильными. Но и для более сильных студентов такое сотрудничество полезно. Несомненно, это происходит в том числе и потому, что, обучая того, кто знает меньше тебя, ты в конечном счете сам лучше усваиваешь материал.
Людям с обширными знаниями и опытом полезно выслушивать мнения и соображения менее искушенных коллег.
Менее подготовленные студенты могут помочь более сильным посмотреть на проблему свежим взглядом. При этом включаются творческие способности, необходимые для решения нетипичных задач на интуитивном уровне. Иногда более знающим людям необходимо привлекать в помощь менее знающих.
Даже если в какой-то группе никто не знает правильного ответа на возникший вопрос, несколько голов лучше, чем одна. Когда в ходе одного эксперимента с участием студентов Университета штата Колорадо они отвечали на вопросы с помощью устройств для голосования, исследователи заметили, что некоторые меняли ответ, посоветовавшись с соседом. И в большинстве случаев новые ответы оказывались верными4. Даже если в начале эксперимента никто из участников не знал правильного ответа. Обсуждение какой-то проблемы с другими людьми обычно сближает альтернативные мнения и в итоге чаще приводит к оптимальному решению. Как отметил один студент: «Обсуждение полезно даже тогда, когда его участники не знают верного ответа. Обычно рассматриваются разные варианты и отметаются те из них, которые не могут быть правильными». Разъяснение своего мнения другому человеку дает ценную возможность развития коммуникативных способностей и умения логически мыслить. Это относится как к новичкам, так и к признанным экспертам.
Психологические срывы под влиянием стресса: почему, когда и как они происходят
Поговорив о естественных недостатках, которые, как ни странно, могут быть свойственны обширным знаниям и опыту, я должна рассказать аудитории о том, почему даже люди с хорошими навыками не всегда полностью реализуют их и что с этим можно сделать. Когда неделю назад я говорила по телефону с президентом пригласившей меня компании, та сказала, что ее вице-президенты проводят уйму времени, выступая на различных презентациях (или готовя сотрудников к таким выступлениям). И ситуации, в которых проводятся такие презентации для клиентов, могут быть охарактеризованы идиомой «пан или пропал». Если презентация проходит без сучка без задоринки, особенно если клиент удовлетворен ответами на возникшие у него вопросы, то контракт в кармане. Если нет – прощай всё: деньги, клиенты и будущие контракты. В этом бизнесе вторых шансов практически не бывает.
Я слушала президента и не могла не думать, что такая нагрузка похожа на ту, которую испытывает выпускник школы на стандартизированных академических тестах SAT. Или гольфистка, которой нужно загнать мяч в последнюю лунку, чтобы пробиться в очередной турнир Американской женской профессиональной ассоциации гольфа. Или скрипач, который через мгновение будет исполнять соло в конкурсе на вакансию первой скрипки симфонического оркестра. Если всё прошло хорошо – перед вами распахиваются двери в будущее. Если вы выступили неудачно, то другого шанса может и не быть.
Иногда не спасает даже второй шанс. Вспомните очаровательную американскую фигуристку Мишель Кван. В конце 90-х и начале 2000-х она считалась лучшей одиночницей в мировом фигурном катании, но ей не удалось завоевать золото на Олимпиаде. На зимних Олимпийских играх в 1998 году она уступила юной американке Таре Липински. Во второй попытке в 2002 году Мишель лидировала после короткой программы. На втором месте была еще одна американка, Сара Хьюз. Казалось, Кван как никогда близка к заветной цели. Но в произвольной программе она выглядела зажатой, в одной из комбинаций приземлилась после прыжка на обе ноги и в итоге упала после тройного флипа. А Хьюз собралась, прекрасно выступила и выиграла золото.
Миллионы поклонников страстно желали Кван победы. Когда ставки так высоки, даже опытные исполнители испытывают чудовищную нагрузку в стремлении победить. Всем тогда показалось, что Сара Хьюз была вдохновлена важностью стоящей перед ней задачи и поэтому сумела показать все, на что способна. Мишель же не справилась со стрессом и выступила хуже, чем могла. Более высокие результаты любого выступления, достигнутые в самый решающий момент, объяснимы. Человек прикладывает чуть больше усилий, будучи мотивированным на успех. А вот неудача под воздействием стресса требует дополнительных объяснений. И мне тут есть где развернуться.
В моей Лаборатории по изучению возможностей человека в Чикагском университете мы изучаем людей, которые подвергаются мощной стрессовой нагрузке во время выступлений на спортивной арене, в процессе учебы или в бизнесе. Наша единственная цель – понять, почему, когда и как возникают неудачи и провалы. Если мы поймем, отчего под давлением обстоятельств люди терпят неудачи (психологический срыв на фоне стресса), то сможем разработать методики, которые снизят вероятность возникновения таких явлений.
Но почему же одни люди блистают, а другие терпят неудачу в самые ответственные моменты, будь то поступление в университет или выступление на Олимпийских играх? Почему на Олимпиаде-2002 Мишель Кван упала, а Сара Хьюз идеально приземлялась после каждого прыжка? Все ли виды стрессовых нагрузок одинаковы? Что мы можем предпринять в своей сфере, если вдруг понимаем, что падаем, вместо того чтобы благополучно приземлиться после прыжка?
С одной стороны, стрессовые нагрузки при сдаче важного экзамена, предложении сделки важному клиенту или выступлении на олимпийской арене очень похожи. Люди стараются проявить все, на что способны, но, как ни парадоксально, иногда выступают значительно хуже, чем могут. Однако механизм срыва под влиянием стресса зависит от того, чем конкретно мы занимаемся в данный момент, и от того, какой именно вид нашей памяти обеспечивает реализацию того или иного навыка.
Как я уже писала выше, нашу память (и решаемые с ее участием задачи) можно грубо разделить на декларативную (эксплицитную) и процедурную. Эксплицитная помогает нам складывать числа в уме, приводить логические аргументы в сложных переговорах с клиентом или вспомнить, что было сказано сторонами в ходе напряженного разговора с вашим коллегой на прошлой неделе. Процедурная подсказывает, как правильно произвести удар в гольфе, приземлиться после двойного акселя в фигурном катании или использовать функции мобильного телефона. Поскольку разные навыки поддерживаются разными видами памяти, ответ на вопрос о том, почему люди не всегда могут проявить себя блестяще и как избежать этого, не может быть универсальным.
Я начинаю разговор со слушателями с примеров психологических срывов в процессе обучения студентов. Любые подсказки, помогающие понять, почему люди сталкиваются с такими срывами, расширят наши представления о поведении человека. Но я вновь и вновь повторяю собравшимся: чтобы понять суть психологического срыва и методы его предотвращения в их профессиональной деятельности, необходимо рассмотреть данные, полученные в ходе исследований различных мест, где проявляются человеческие способности: от университетских аудиторий до конференц-залов корпораций.
Провал отличника
Иоганн Карл Фридрих Гаусс (1777–1855) – великий немецкий ученый и математик, внесший огромный вклад в разработку теории чисел и статистики. Рано развивший свои способности, большинство своих открытий в математике он сделал в очень молодом возрасте. Уже в 23 года он опубликовал свой капитальный труд «Арифметические исследования»[4], где представил блестящие математические теории того времени. Конечно, Гаусс был исключительно талантливым математиком. Но причина моего интереса к нему еще и в том, что в моей лаборатории мы знакомим студентов с некоторыми из его теоретических построений, стремясь выявить, кто во время экзамена забудет все, чему его учили.
Одним из разделов математики, который создал Гаусс, была так называемая модулярная арифметика. Мы, ученые, любим задачи из этого раздела потому, что обычно участвующие в наших экспериментах студенты до прихода в лабораторию с ним не встречаются. Они в целом имеют представления о вычислениях, необходимых для решения таких задач (такие вычисления присутствуют в академических тестах SAT и тестах на поступление в магистратуру и аспирантуру категории Graduate Record Examinations, GRE), но сами с ними ранее не сталкивались. Если кому-то не удается решить эти задачи, а кто-то умудряется это сделать, то мы знаем, что это не зависит от того, кто из студентов успел или не успел познакомиться с модулярной арифметикой. Каждый приходит в нашу лабораторию «чистой доской». И уже здесь мы учим студентов, как пользоваться базовыми математическими методами, чтобы успешно решать задачи модулярной арифметики. Но мы отчасти хитрим. Мы хотим научить людей решать такие задачи с тем, чтобы потом посмотреть, станут ли их результаты хуже под воздействием стресса. В свою защиту мы можем сказать, что хитрим из благородных побуждений. Мы хотим понять, почему происходят психологические срывы.
Обычно мы учим участников эксперимента решать задачи вроде 32 ≡ 14 (mod 6) в два этапа. Сначала из первого числа вычитается второе: 32 минус 14. Затем полученная разность делится на модуль целого числа (здесь 6). Если разность делится на модуль 6 без остатка, то числа 32 и 14 сравнимы по модулю. Если нет, то не сравнимы. Другой способ проверить сравнимость чисел по модулю – их простое деление на модуль сравнения. Если они дают одинаковый остаток (в приведенном примере, если 32 и 14 разделить на 6, остаток будет одинаков: 2), то числа также сравнимы.
Как и на экзаменах по математике при поступлении в аспирантуру, примеры мы даем испытуемым по одному, выводя их на монитор компьютера. Участников просят решить их как можно быстрее и точнее. Но если честно, нас не слишком интересуют результаты при такой постановке задач, поскольку никакому дополнительному психологическому воздействию люди не подвергаются. Цена ошибки минимальна, ее возможное влияние на судьбу человека ничтожно. Нам гораздо интереснее, как изменятся результаты каждого, если в процессе испытаний он будет подвергнут стрессу.
В ходе одного эксперимента я и моя аспирантка Марси собрали около ста студентов, каждый из которых самостоятельно решал по нескольку десятков примеров из модулярной арифметики5. Перед экспериментом Марси расклеила в кампусе университета множество объявлений о приглашении желающих поучаствовать в психологических тестах, имеющих отношение к теории принятия решений. Мы специально не упомянули о том, что речь идет о решении математических задач, чтобы к нам не пришли люди, любящие и знающие математику. Мы хотели собрать в лаборатории как можно больше участников разного психологического склада и академических пристрастий. Нам важно было посмотреть, как разные люди будут вести себя в условиях стресса.
Когда испытуемые собрались, Марси поблагодарила их за согласие поучаствовать в эксперименте, провела в зал и усадила за мониторы. Она объявила, что студентам предстоит решение математических задач, и объяснила, как это нужно делать. Некоторые из собравшихся закатили глаза и даже недовольно забурчали, узнав, что предмет эксперимента – математика. Но большинство были готовы начать работу. После того как студенты немного поупражнялись на примерах, наступила реальная фаза эксперимента. Если вначале мы говорили ребятам, что ждем от них максимально быстрого и точного решения задач, то теперь мы решили заострить ситуацию. Непосредственно перед тем, как начать показывать примеры, Марси сделала следующее заявление, которое должно было существенно повысить их интерес к достижению хороших результатов в ходе теста.
Те задачи, которые мы сейчас покажем, мы уже предлагали для решения другим студентам в прошлом семестре. По результатам мы вывели средний показатель скорости и правильности. Сегодня мы применим те же критерии для оценки вашей работы. Каждому, кто превысит средний показатель прошлого года, мы выплатим 20 долларов.
Но есть нюанс. В этом эксперименте нам особенно интересен вопрос об эффективности командной работы. Каждому из вас была подобрана пара. Чтобы получить 20 долларов, вы должны продемонстрировать результаты не ниже, чем у партнера. Партнеры уже прошли то же испытание сегодня утром. И в среднем их результаты оказались на 20% выше, чем у группы прошлого года. Теперь и вам нужно добиться тех же результатов. Если получится – 20 долларов будут выплачены каждому из вас и вашей паре. Если нет, никто не получит ничего.
Кроме того, ваша работа будет записана на видеокамеру. Некоторые преподаватели и студенты этого университета, а также учителя математики ближайших городов смогут посмотреть видеозаписи. Сейчас я установлю видеокамеру – и начнем.
Как и в других случаях, когда я привожу этот пример, мои вице-президенты поежились, представив себя на месте тех студентов. Но я тут же добавила, что сразу после того, как студенты закончили решение задач, мы сказали им, что элементы психологического давления, описанные Марси, – только инсценировка. Каждый получит 20 долларов независимо от результатов теста. Вы, наверное, думаете, что студенты были неприятно удивлены нашим обманом? Мы объяснили, что для чистоты эксперимента должны создать стрессовую нагрузку. Только так мы можем нащупать пути к разработке методик сдачи экзаменов, главная цель которых – уменьшение влияния стрессов на результаты. Большинство студентов поняли это, потому что не раз находились под давлением стресс-факторов в процессе учебы. И многие из них были искренне заинтересованы в результатах наших исследований. Кстати, в ходе того эксперимента от студентов не прозвучало ни одной жалобы на то, что каждый по окончании опытов оказался на 20 долларов богаче.
Стрессовые нагрузки, которые мы создаем в своей лаборатории в ходе исследований, очень похожи на те, что окружают студентов в жизни. Деньги, которыми мы обещали наградить их в случае хороших результатов, наводят на размышления о стипендиях и грантах за успехи в учебе и спорте. Стрессовая нагрузка от общественной оценки видеозаписи схожа с характерной для оценок из реальной жизни – например, родителей, учителей и представителей неправительственных организаций при подведении итогов стандартизированных академических тестов SAT. Или большого количества судей в присуждении олимпийских медалей.
Разумеется, уровень нагрузки, создаваемой в ходе экспериментов в нашей лаборатории, не идет ни в какое сравнение с тяжестью стрессов в реальной жизни, особенно в ситуациях типа «пан или пропал». Но полученные нами результаты поразительны. В эксперименте с математическими задачами результаты работы студентов значительно ухудшались под влиянием стресса.
По ходу моего выступления еще раз высказался Джон – менеджер руководящего звена, который говорил о необходимости точной оценки возможностей работников. «Моя дочь, – сказал он, – была единственной ученицей своего восьмого класса, которая всегда получала только самые высокие оценки за домашние задания по алгебре. Но на экзаменах ей никогда не удавалось даже приблизиться к ним. У меня сложилось впечатление, что под давлением стресса она не может выдать результат, на который способна. Думаю, и в вашем эксперименте участвовали очень хорошие ребята. Но в условиях стресса они не смогли проявить себя в полной мере». Другие участники семинара закивали головами. Некоторые соглашаясь, а некоторые – с сомнением. А наши данные говорят о том, что Джон, по существу, прав.
К тому моменту я еще ничего не сказала аудитории о другом нашем с Марси эксперименте. Мы протестировали размер рабочей памяти. Подробнее я остановлюсь на этой теме позже. Сейчас скажу, что рабочая память – главный локомотив нашей мыслительной деятельности. За этот вид памяти отвечает отдел мозга, называемый префронтальной корой. Он обеспечивает кратковременное хранение информации в мозге человека. Но речь не просто о сохранении данных, как на жестком диске компьютера. Рабочая память позволяет накапливать информацию (и защищать ее от стирания) и одновременно действовать. Например, она используется, когда вы стараетесь запомнить адрес ресторана, куда направляетесь, и одновременно читаете письмо друга, с которым вы должны встретиться за ужином в этом ресторане.
Почему рабочая память так важна именно для студентов? Ряд исследований показал, что различия в эффективности ее работы на 50–70% определяют различия в способности к абстрактному мышлению6. Это краеугольный камень коэффициента интеллекта (IQ).
Методика оценки объема рабочей памяти
Тест, который мы с Марси использовали для оценки объемов рабочей памяти (нашего когнитивного «локомотива»), имел целью показать способность сохранять человеком информацию в памяти в то время, как его внимание отвлекается на другую задачу или цель. В нашем эксперименте участников просили запоминать буквы и одновременно читать вслух текст.
При оценке объемов рабочей памяти не очень важно, что именно запоминает человек. Гораздо важнее измерить его способность сохранять информацию и уберечь ее от стирания в момент, когда одновременно он занят еще чем-то.

Доли человеческого мозга. Префронтальная кора – самая передняя часть лобной доли7
Приведу пример с деталями. В одном из испытаний – «Тесте на определение объемов рабочей памяти чтением»8 – испытуемому предлагается громко прочесть высвечивающиеся на мониторе предложения.
В теплые солнечные дни я люблю гулять в лесу. ? F
Фермер привез виноград спящему медведю. ? E
Охотник увидел орла в небе. ? D
Человек подумал, что свет хорош после дневного поезда. ? R
После работы эта женщина всегда приходит домой обедать. ? B
По прочтении каждого предложения мы просим участника оценить, есть ли там смысл, а потом громко вслух назвать буквы, стоящие в конце. Затем предложение и буква исчезают с экрана, на нем появляется очередная пара. Решить, есть ли в предложении смысл, несложно. Например, он присутствует в первом предложении и отсутствует во втором. Но это отвлекающий маневр. Нас не очень интересуют ответы студентов в этой части теста. Нам нужно оценить их способность запоминать буквы в конце предложения. После чтения подряд нескольких пар мы просим испытуемых вспомнить буквы, стоявшие в конце предложений, причем именно в том порядке, в котором они появлялись (в нашем примере F, E, D, R, B). Участники с самого начала знают, что они должны запомнить порядок букв. Но они не в курсе, когда их о нем спросят. Поэтому они должны держать буквы в памяти, одновременно давая оценку смысловой составляющей предложений. Вопрос о сохранении информации с одновременным занятием другим делом как раз выводит нас на самое острие темы рабочей памяти.
Рабочая память очень важна для нашей повседневной деятельности. Запомнить телефон и одновременно вытащить горячий поддон из духовки. Спланировать поворот, чтобы спуститься на две улицы к центру, и одновременно лавировать в транспортном потоке. Прикинуть на глаз, как новый диван будет выглядеть с разных точек и при разном местоположении в гостиной. Все это требует рабочей памяти. Ее объем позволяет сделать обоснованные предположения о возможных успехах в обучении, в частности в усвоении текстов и решении математических задач. Вас, вероятно, удивит, что участники эксперимента – самые способные студенты с солидным объемом рабочей памяти – оказались одними из худших на испытаниях в условиях стрессовой нагрузки.
Самые способные студенты с солидным объемом рабочей памяти оказались одними из худших на испытаниях в условиях стресса.
Неудивительно и то, что студенты с развитой рабочей памятью обходили своих товарищей примерно на 10%, когда решение математических задач проводилось в тренировочном режиме. Но когда подключалось дополнительное внешнее воздействие в виде стрессов, результаты у людей с развитым интеллектом сравнивались с теми, у кого он был невысок. А результаты студентов с менее развитой рабочей памятью из-за стрессов не снижались. Почему же?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы с Марси вернулись к истокам нашего эксперимента и более внимательно посмотрели на математические примеры. Как вы помните, в модулярной арифметике задача состоит в том, чтобы определить, верно или неверно сравнение 32 ≡ 14 (mod 6). Решить эту задачу можно путем вычитаний и делений (сначала отнять 14 от 32 и затем разделить остаток 18 на модуль 6). Можно это сделать и более коротким путем. Например, если студент решит, что правильнее сравнивать с четными числами (потому что при делении двух четных чисел обычно не бывает остатка), то это верно для примера 32 ≡ 14 (mod 6), но неверно для примера 52 ≡ 16 (mod 8). Поэтому, когда люди используют сокращенные пути решения задач вроде «если в примере все числа четные, отвечай “да”, если это не так, отвечай “нет”», они избавляются от необходимости держать в голове действия для решения задачи. И они могут прийти к ответу без особых усилий. Но такие методы не всегда дают правильный результат.
Марси и я выяснили, что студенты с развитой рабочей памятью предпочитали решать задачи модулярной арифметики через вычитание и деление, поскольку стремились к более точным ответам. Мозг подсказывал им: «Если у тебя есть что показать, то покажи!» А студенты с небольшим объемом рабочей памяти выбирали решения попроще и побыстрее.
Когда стресс не висит над вами дамокловым мечом, более мощный мыслительный потенциал дает преимущество. Люди с большим объемом рабочей памяти лучше проявляют себя на тренировочных занятиях и в упражнениях. Но под давлением стресса способные студенты склонны волноваться и выбирать простые пути, которые менее способные студенты использовали чаще. Волновались и менее способные. Но поскольку их обычные упрощенные решения не требовали повышенных усилий (иногда они вообще были на уровне догадок), студенты пользовались ими, и их результаты не сильно ухудшались даже в условиях стресса.
Я делаю паузу и задаю моим вице-президентам вопрос. Кому из них доводилось наблюдать у себя (или у подчиненных) стремление искать легкие решения или быстрые выходы из сложных ситуаций под влиянием стрессов (как у тех способных студентов, которые переключались на простые пути решения задач)?
При организации нашего семинара президент компании сказала, что им еще предстоит найти более совершенные методы противодействия неожиданным ситуациям, которые порождает кризис. Менеджеры и сотрудники часто испытывают стресс то от неожиданных вопросов клиентов, которые требуют заблаговременной и тщательной проработки, то от внесения в последнюю минуту корректировок в ход презентации, которую предстоит провести уже сегодня днем. Президент заявила: если бы работники компании научились делать в стрессовых ситуациях паузу, перегруппировывать силы «под огнем», то, вероятно, им было бы легче находить пути выхода из трудных ситуаций.
И действительно, есть многочисленные доказательства того, что эта необычная на первый взгляд тактика может помочь. Особенно людям, которые в повседневной деятельности активно пользуются эксплицитной памятью и задействуют значительные объемы рабочей. Пауза в ходе решения задачи помогает избежать неверного пути. Да, это возможно не всегда. Когда наша деятельность обеспечивается в основном процедурной памятью, которая функционирует на бессознательном уровне, слишком длительные раздумья и сосредоточенность на действиях дают негативный эффект (мы подробнее поговорим об этом ниже). Но когда студенты проходят важное тестирование или вынуждены рассматривать новые для них проблемы, важно дать рабочей памяти, нашей ментальной «рабочей лошадке», время для того, чтобы она смогла тщательно проанализировать их.
Пауза перед стрессом
В начале 1980-х психолог Мишелин (Микки) Чи и ее исследовательская группа обнаружили, что значительное различие между студентами, которые успешно решали сложные задачи, и теми, кто регулярно терпел неудачу, состояло в количестве времени, которое они тратили на обдумывание задачи до того, как приступить к ее решению. Наскок на проблему на полном ходу может негативно повлиять на результат. Чи особенно интересовалась вопросом решения проблем в точных науках. Она попросила нескольких профессоров и докторантов с физического факультета Питтсбургского университета (где она была старшим научным сотрудником), а также нескольких студентов-первокурсников, которые прослушали всего один семестр лекций по механике, решить ряд задач по физике9. Пока все над ними работали, Микки и ее команда занимались гораздо более простым делом: они наблюдали.