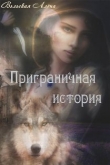Текст книги "Не говори маме (СИ)"
Автор книги: Саша Степанова
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Я помню, что в тот вечер Март был занят: Прости, сегодня встретиться не получится, задержусь в тренажерке.
Прости, но если ты не приедешь прямо сейчас, я выйду из окна. Я уже открываю его, слышишь? Да. Вот так. Внизу все такое маленькое. И холодно, очень холодно. Я буду ждать тебя здесь, Март. Тут, на подоконнике. Приезжай. Мне очень многое нужно тебе сказать.
Так должно было быть, но вместо этого я ответила: Да, хорошо. Еще немного почитаю и лягу. Скучаю очень. До завтра!
Я прерываюсь и делаю глоток воды, потому что у меня начинает болеть голова. Все чаще кажется, что я напрасно взялась за подкаст о Марте и всех этих людях. Его уже нет. Даже могилы не осталось – кремировали тайно, боялись, что информация о дате и месте похорон просочится в СМИ и найдутся желающие поглумиться над гробом.
Мне написала Алина, сводная сестра Марта. Раньше я никогда с ней не общалась, знала только, что она есть. Мы встретились в центре буквально на полчаса, там она сказала, что я могу прийти на кремацию, но если решу иначе, меня никто не осудит. Еще сказала, что всегда чувствовала в Марте что-то такое. Что он способен убить человека. И не удивилась, когда все выяснилось. Наверное, рассуждала она совершенно спокойно, ему отомстили. Кто-то из родственников этих бездомных – у бездомных ведь обычно есть родственники, ты это знаешь? Необязательно никто их не любит. «Мне совсем его не жаль. Если бы его не убили, ты бы и дальше думала, что он нормальный. Может, замуж бы за него вышла». Я приехала в крематорий позже, гроб был уже закрыт. Все происходило очень тихо. Алина переписывалась с кем-то в мессенджере, будто вообще случайно зашла и ужасно спешит; мама и отчим Марта держались за руки, я хотела подойти, но они посмотрели на меня, как на чужую, не узнавая, и я осталась у дверей. Не верилось, что внутри этого лакированного ящика действительно Март – вроде близко, но совсем далеко. Я принесла цветы, они так и остались в моих руках. Его родной отец не счел нужным приехать на похороны сына. Подумалось: «Его здесь нет» – но не про отца, а про Марта. Когда гроб поставили на транспортер, Алина поднесла к уху телефон, громко сказала «алло» и вышла из зала. Без нее стало легче, я смогла подойти к родителям и неловко из-за их спин прошептала соболезнования. Мама Марта опустила руку с платком, в котором прятала лицо.
– Значит, так нужно, – сказала она. – Так нужно.
И я поняла, что не было у нее никакого сына – только дочь. В этой семье никогда не рождался мальчик по имени Мартин. Он станет тайной, «тем, кого нельзя называть». Размышляла ли она о том, как можно было не заметить такое?.. После того, как мне позвонил следователь Масленников и рассказал, кем на самом деле был Март, я перестала спать и постоянно переслушивала наши голосовые за тот период, когда все уже было, и пыталась уловить это в его голосе, но нет, ничего, ничего, ничего, у него не было ни одного из симптомов депрессии – снижения активности, апатии, слабости, появление зависимостей, избегания социума, снижения самооценки, – а главное, он не стал другим. Вообще не стал другим.
«Какой-нибудь бывший зек. Или нет, полицейский, точно! Только не местный – из провинции, может, даже из деревни, – азартно, будто сочиняя сюжет для романа, говорила Алина на той нашей встрече. – Такому проще вычислить и убийцу, и его адрес. Позвонил в дверь, назвался участковым, Март впустил его, пригласил на кухню, а тот его ножом по горлу – и конец. Его никогда не найдут, а если и найдут, то не выдадут. Кому охота вообще расследовать убийство такого, как мой братец? Может, это и есть правосудие. Ты никогда не думала о том, что для некоторых лучше вернуть смертную казнь?» Я никогда об этом не думала, но прошло несколько месяцев, а убийцу Марта так и не нашли, у них даже подозреваемого не было. Русских и Ремизов после суда отправятся в колонию. Так не лучше ли забыть эту историю навсегда? Сжечь записи, уничтожить нашу переписку – сделать как собиралась и жить себе, радуясь тому, что никто меня не узнаёт. Зачем все это?..
Перед глазами стоит одна из фотографий Анны Николаевны. Обычный школьный снимок: двадцать первоклашек и она. Хорошая, счастливая. Наверняка подарили кучу букетов. Еще бы – первая учительница! Нашу с Мартом первую учительницу звали Елена Максимовна. Светловолосая, маленькая мама Лена. Старшеклассниками забегали к ней в кабинет на втором этаже и смотрели сверху вниз… Она, конечно же, знает о том, что случилось с Мартом. Я представляю, как он избивает ее, и сжимаю кулаки. Что, если ему отомстил кто-то из тех выросших детей, называвших Анну Николаевну мамой Аней? Впрочем, нет, так не бывает. У всех своя жизнь. Никто не готов ломать ее из-за первых учителей.
Я укладываю голову на подушку и лежу с закрытыми глазами, чувствуя, как в черепной коробке перекатывается ото лба к затылку тяжелый равнодушный шар. Отнять жизнь. Целую огромную жизнь. Холод, тепло, вкус, запах, воспоминания. Имя. Боль, улицы, лица прохожих, почерк, голос мамы, когда она звала завтракать, слезы, оргазм, чтение. Выбор. Фотографии. Возможность посмотреть на свою ладонь. Отражение в зеркале. Волосы. Цвет детского комбинезона. Тяжесть одеяла, горячий чай, рецепт пирога с клубникой…
Открываю файлы диктофона – я записала почти час аудио про Марта. Свайпаю влево – появляется красный квадрат с корзиной. «Удалить».
Исполнитель желаний
Объявление, приколотое к пробковой доске на первом этаже, поначалу остается без внимания. Но когда я сдаю куртку в гардероб и возвращаюсь к расписанию, чтобы уточнить номер кабинета, обнаруживаю, что перед «лишними вещами» уже стоит высоченная девчонка в круглых очках, как у Гарри Поттера. Из-под ее вязаной шапочки выбиваются ярко-рыжие кудряшки. Мы точно виделись раньше. В «Печатной». Когда она достает телефон, чтобы записать номер, сердце пропускает такт. Только теперь я действительно понимаю, что «вещи» будут, и эйфория от нового приключения накрывает меня с головой.
– Подойдут любые, – говорю я, слегка задыхаясь от волнения. – Главное, не рваные, чтобы в них еще могли ходить люди.
Она оборачивается и приподнимает брови.
– Ты и есть Майя? Привет! Я Маша. – Мы обмениваемся рукопожатием. – Классная идея. Правда, я собиралась принести рваные джинсы…
– Джинсы нормально, – поспешно заверяю я и, кажется, краснею. – Их же не мышь прогрызла?
Маша хохочет так искренне, что я и правда чувствую себя завзятой шутницей.
– Обычно я сдаю все старое в переработку, – поясняет она, отсмеявшись, – но продать и помочь кому-то – это еще лучше.
– В переработку? – Меня интересует не процесс, а то, что в Красном Коммунаре такое вообще возможно, но Маша этого не угадывает.
– Не совсем, конечно. Что-то попадает в секонды, что-то – на пошив всякой ерунды вроде тряпочек для уборки. А совсем старье – да, перерабатывается в волокно…
– Так ты их в Москву отвозишь? – осеняет меня.
– Ага. – Она снимает шапчонку и растрепывает пальцами примятые кудряшки. – Это не так уж запарно, как правило, один нетяжелый пакет, а езжу я часто. У меня там девушка живет.
Я смотрю на нее с неприкрытым восхищением. Красный Коммунар только что догнал меня и прописал увесистого пинка.
Вдруг, почти одновременно, мы понимаем, что рядом кто-то стоит.
– Майя, можно тебя на минутку?
Маша кивает мне на прощание и убегает, а меня берут под локоть и отводят в сторонку. Секретарь из нашего деканата, я уже видела ее раньше, но имя напрочь вылетело из головы, если вообще там было. Сейчас зачитает тысячу здешних правил и попросит снять мою бумажку. Или не общаться с Машей. На всякий случай я пытаюсь выразить мимикой вежливое любопытство.
– Очень, очень хорошая идея с распродажей, – негромко говорит она, выдыхая мне в лицо запах табака. – Ты знаешь Яночку?
– Нет, – признаюсь я честно. – Но я видела ее маму с плакатом возле универмага и думаю, что это унизительно.
Она мелко кивает.
– Конечно, конечно. Это они тебя попросили?
– Это я сама придумала. Они ничего не знают. Я просто отдам им деньги – и все.
– И все?
– Да.
Занятия уже начались, в опустевшем коридоре остались только мы. Фотографию Кати с траурной ленточкой убрали – теперь на этом столике лежат листовки по профориентации.
– Ну хорошо, – благословляет она и наконец отпускает мой локоть. – Беги на лекцию. Ты молодец.
Разговор оставил странный осадок – то ли обиды оттого, что меня пытались уличить в мошенничестве, то ли вины за то, что я лезу в чужую жизнь этаким непрошеным «помогатором», готовым во что бы то ни стало причинить добро, а нужно ли это кому – даже спросить не удосужилась. Зря я, наверное, написала имя Яны. С другой стороны, иначе это и правда смахивало бы на мошенничество, к тому же все и так читают ее имя на картонке с молитвой.
Шурх, шурх – кто-то стремительно догоняет меня на лестнице и хлопает по плечу. Я подпрыгиваю и едва не роняю тетиполину сумку, временно выданную мне взамен украденного рюкзака.
– Джон!
– Привет. – Он ерошит челку и как ни в чем не бывало чмокает меня в щеку. – Уже нашла гараж?
У меня нет машины. Мне не нужен гараж. И с самого утра тяжело дается межличностная коммуникация.
– Для гаражной распродажи.
– Это просто название. Распродажа ненужных вещей, которые хранятся на чердаках и в гаражах. Как-то так.
Он галантно распахивает передо мной дверь аудитории.
– И все-таки он у тебя есть.
Лучше, чем было, но хуже, чем могло бы. Места там достаточно, особенно если сделать уборку и переставить мебель, и расположение удобное: от колледжа десять минут пешком. Вот только этот мостик и дорога с разбитым в крошку асфальтом… Впрочем, выбора все равно нет. Придется постараться, чтобы превратить владения короля Джона во что-то более-менее уютное. Несколько красивых гирлянд и постеры легко с этим справятся, но сколько же там работы…
– Спасибо! – шепчу я сидящему рядом Джону.
Илья ожидаемо отсутствует. С соседнего ряда на нас искоса поглядывает Вика. Они со Стасей почему-то не вместе – та забилась в уголок, даже куртку не сняла, и уткнулась в телефон своим модильянинским носом. Надо бы поблагодарить ее за вещи.
Забавно, но, стремясь меня приодеть, они раздобыли настоящие винтажные сокровища. Были там и белая джинсовая юбка с оборками и надписью «Lambada» (в кармане лежал флакончик засохшей туши для волос синего цвета), и синтетические спортивные брюки «Абибас», и футболка с Кейт и Лео – могло бы прокатить, в прошлом году такие снова появились в «эйче», правда, не ярко-оранжевого цвета… При виде джинсов «Мавин» я расхохоталась так, что на звук пришла тетушка, решив, видимо, что мне требуется помощь врача.
Разумеется, выставлять все это на распродаже не имеет смысла.
«Тряпки, – пишу я на последней страничке тетради. – “Доместос”, швабра, ведро, перчатки, освежитель воздуха с диффузором, полироль, гирлянды, крафтовая бумага, рейлы 4 шт., Москва – ?»
Москва.
Яна, клянусь, что не думала об этом раньше, но сейчас – спасибо тебе.
Я могу вернуться в Москву. Хотя бы ненадолго – на два, три, четыре часа, – ну и пусть! Вцепиться в нее, внюхаться, прижать себя к ней местом отрыва, остановить кровотечение. Притвориться, что по делу. Сделать очень-очень сосредоточенный и строгий вид. И дышать, захлебываться ею, набивать пакеты и сумки, загребать в выемки на подошве, рассовывать по карманам, прятать в волосах и швах одежды – оплата картой. Прикладывайте! Час в метро, час обратно, а между ними – я и она. Еще Март. Мои родители… Квартира, в которой теперь живут чужие люди – нужно позвонить им и предупредить о визите. Бо́льшую часть вещей я сложила в огромные пакеты и убрала в гардеробную. После того, что сделала мама, разбираться с переездом пришлось очень быстро – я демпинговала непреднамеренно, квартиру пришлось сдать по цене ниже рыночной, только бы не тратить время на общение с агентами и не платить им за то, что я в состоянии сделать сама: компанией из десяти человек – можно, с детьми и животными – буду только рада. Мне срочно нужно уехать на пару лет в Красный Коммунар.
Жданова? Наверное, просто похожи, мне часто это говорят. Понятия не имею, кто она такая.
Мы с Олегом и Евой буквально нашли друг друга: они не стали выяснять, Жданова я или Зарецкая и что не так с моей трешкой с парком «Царицыно» в пешей доступности, раз я прошу за нее так мало, а я была не против переделки одной из комнат в детскую для восьмимесячного мини-Олега, да ладно, пусть отдирает, обои все равно дурацкие, и диван этот мне никогда не нравился.
А теперь там поселилась еще и шиншилла Жевастик, прозванная так не только по хозяйской прихоти.
Я пишу Еве в «ватсапе», что завтра заскочу за кое-какими вещами, и, простите за беспокойство, будет еще доставка, там все оплачено, нужно только встретить курьера. Она, конечно, присылает эмодзи – пальчики, сложенные в «окей», – что ей еще остается, и наверняка уже выкатывает из кладовки пылесос. Следом приходит эсэмэска: в перерыве между лекциями меня будет ждать некто Юля. С вещами. Невольно вспоминается сцена из «Богини»[8]8
Фильм Ренаты Литвиновой «Богиня: Как я полюбила».
[Закрыть], где зазеркальный двойник Фаины, которую играет Рената Литвинова, – тоже Рената Литвинова, разумеется, – дремлет на мосту, устроившись на пакетах с тряпьем. Здравствуй, мама, плохие новости: герой погибнет в начале повести[9]9
Цитата из песни Земфиры «Любовь как случайная смерть».
[Закрыть].
– Ну и зачем тебе распродажа? – спрашивает Джон, вышагивая рядом со мной по коридору. – Эта тетка побирается на площади уже года три, и всем по фигу.
Затем, что когда я представила, что Март сделал бы с Яной, то испугалась. Мне захотелось защитить ее. Потому что мама Яны отложила для нее хачапури. Потому что я обязана вернуть миру хотя бы малую толику того, что забрал у него Март. И еще я чувствую себя виноватой. Из-за того, что вместо «если ты не приедешь прямо сейчас, я выйду из окна», сказала: «да, хорошо, еще немного почитаю и лягу».
Ерунда, наверное. Особенно по сравнению с тем, что делают Саня и другие ребята из «Ночлежки»: в августе им наконец-то удалось открыть консультационный центр для бездомных в Москве, и в другой жизни я бы попыталась стать частью их команды. Но не после Марта. И не после травли в соцсетях. Все, что я могу здесь, в Коммунаре, – убаюкать свою совесть, подписавшись на ежемесячные пожертвования фонду и продавая одежду. В общем:
– Просто так. Я не знаю. Просто хочу помочь.
Нам навстречу спешит девчонка в свитере с оленями. К груди она прижимает небольшой целлофановый сверток. Никаких Фаин, по крайней мере, не сегодня.
– Привет, Джон! – Он отвечает бледной улыбкой. – Вот, это все, что мне родители разрешили взять. А прийти может кто угодно или только те, которые сдавали?
– Кто угодно, – заверяю я. Нужно будет уточнить это в новом объявлении.
– А что почем?
– Юль, давай потом, а, – морщится Джон и тянет меня за руку – надеется успеть покурить, – но я мягко высвобождаю локоть. Ему хорошо, он может менять будущее, а у меня чуть меньше вариантов.
– От ста рублей, – говорю, – максимум пятьсот.
За то немногое, что я привезу из Москвы.
– Если будут еще вопросы, пиши мне, ладно?
На том и расходимся. Мы с Джоном оказываемся на улице и сворачиваем в курилку. На заброшку со спортзалом я стараюсь не смотреть.
– Я подумал и решил тебе помочь. С твоей распродажей. – Я уже готова рассыпаться в благодарностях, но, когда он договаривает, мне приходится отвернуться, чтобы спрятать ухмылку. – Я все сделаю. Деньги будут.
– Перепишешь будущее? – хмыкаю я в стену. Мне действительно не хочется его обижать, но рассуждать о магии на серьезных щах – сильнее меня.
– Если что, это довольно опасно.
Он закуривает и тянет дым молча, что на него вообще-то непохоже. Обиделся.
Пока разогревается айкос, я сую нос в Юлин сверток – там все очень розовое: китайский розовый, розово-лиловый, лососевый, розовый для Барби, танго, Мексика – все вещи размером с мини-Олега.
– Ну хорошо, – не выдерживаю я. – Как? Как ты это делаешь?
Даже не смотрит. Крепко обиделся.
– Мне действительно интересно!
Помалкивает, курит и от злости, кажется, пахнет можжевельником еще сильнее.
– Хотя бы с покупками после занятий поможешь?
– Да, – говорит он. Бросает окурок себе под ноги и почти бегом возвращается в корпус.
***
– Где ты ее взял?
– Там была, – отмахивается Джон. – Запрыгивай.
– Серьезно?
Продуктовая тележка выглядит так, словно в последний раз на ней перевозили слона. Хуже точно не станет, решаю я и забираюсь в нее с ногами.
– Только не гони! А-а-а! Не гони-и!
На нас все оглядываются. Наверняка думают, что мы пьяные или просто психи. Тележка скрипит, но терпит. Джон паркует ее возле прилавка с хозтоварами и подает мне руку.
– Нет, не могу, – пищу я. – Страшно.
– Я держу, вылезай.
– Она покатится, не могу!
Продавщица усердно притворяется, что не замечает нас, Джон хватает меня за талию и делает только хуже – перекидывает через плечо, словно товар. Я взвизгиваю – теперь смущаюсь по-настоящему – и брыкаюсь, к прилавку подходят люди, еще немного, и кто-нибудь вызовет охрану.
– Дурак, – говорю я тихонько, когда он наконец ставит меня на пол, и за его плечом вижу высокого мужчину с лицом, как на иконе, даже бородка такая же, а рядом – Савву из «Печатной». Тот поспешно отворачивается, поймав на себе мой взгляд. От его отца, резчика по дереву, невозможно отвести глаз. Я ловлю себя на мысли, что если бы это он сказал мне все то же самое про магию и изменение будущего, я бы точно поверила. И еще мне отчего-то неловко перед самим Саввой. Хотя с чего бы?
Они покупают невероятных размеров мешок стирального порошка и расплачиваются. Перед тем, как уйти, Савва почти незаметно кивает мне, но я не успеваю ответить тем же: отец и сын явно спешат.
– Знаешь Терпигорева? – цедит Джон. Только тогда я вспоминаю, зачем вообще мы сюда пришли, и достаю из заднего кармана джинсов сложенный вчетверо список покупок.
– Не особо. – Я вообще не сторонник того, чтобы болтать о людях за их спинами, а Савву и его милую «Печатную», единственный уголок города, в котором мне было хорошо, хочется оставить только себе. – «Доместос», пожалуйста! Самый большой. И три рулона тряпок.
Пока мы упаковываем все, что я назвала, в пакеты, Джон хранит молчание, но заметно, что слова копятся в нем и вот-вот отыщут выход.
Это происходит, когда мы оставляем тележку и покупки перекочевывают в руки Джона – он не позволяет мне ничего нести, а мне же совесть не позволяет его тут бросить. Если бы не она, то вместо того, чтобы тащиться в гараж, я с радостью поехала бы домой.
– Долбаные сектанты, – выплевывает Джон. – Воскресные чтения Библии. Половина города уже этой хуйней страдает, и всем срать.
– Страдает чтениями Библии вместо того, чтобы бухать, так?
Джон резко останавливается, и у меня мелькает мысль, что если сейчас он бросит пакеты на землю, развернется и уйдет, не будет у меня ни гаража, ни распродажи. Но он только смотрит на меня светлыми от злости глазами и кривит губы, а ветер яростно треплет его острую от геля для волос челку.
– Что бы ты понимала.
На этом конфликт вроде бы исчерпан, и мы продолжаем путь, но через несколько шагов он снова замирает и смотрит на меня все так же неприязненно.
– Сам отнесу. Не провожай.
И уходит. А я остаюсь. Подхватываю тетиполину сумку, которая так и норовит соскользнуть с плеча, наблюдаю, как уезжает мой автобус, и медленно иду в другую сторону. Яниной мамы на площади нет, и это к лучшему – только ее протянутой руки мне сейчас и не хватало. Чертова сумка. Завтра куплю себе новый рюкзак.
Изо всех сил стараясь вообразить себе «прекрасное завтра», я иду через сквер – выложенная брусчаткой дорожка упирается в щербатые ступени здания с колоннами. Тот самый Дом культуры. Сейчас он выглядит необитаемым: никто не заходит и не выходит, окна темны. Я смотрю в них, как смотрят в глаза человеку, подмечая его недобрый взгляд, и укрываюсь за гранитной стелой, установленной в память о краснокоммунарцах, погибших на фронте, – от собственной ассоциации мне становится не по себе. На пустынной аллейке меня резво обгоняет женщина с коляской. Поначалу я не обращаю на нее внимания, но эта спина чем-то притягивает и заставляет пойти следом и даже ускорить шаг.
Зеленый рюкзак с енотами и круглым логотипом «Канкен». Мой рюкзак!
– Стефа?
Она вздрагивает и сжимается, как если бы я с размаху зарядила ей промеж лопаток камнем, а затем пускается бежать. Свернуть при этом не догадывается: мы вращаемся вокруг стелы и, должно быть, выглядим довольно комично. Такие себе Том и Джерри, причем, учитывая соотношение роста и массы наших тел, я определенно кот. Ей не составило бы труда оторваться, если бы не коляска, но даже с ней она невероятно проворна. Круге на пятом под мое «просто поговори-ить» она наконец замечает лазейку и улепетывает по одной из дорожек, лучами расходящихся от стелы – но попадает в западню. «Зебра» здесь есть, но перекресток не регулируется, и никто не спешит пропустить мать с ребенком. Стефа загнанно озирается – теперь я вижу, что это действительно она, синяк в пол-лица побледнел, но не исчез полностью – и прет через дорогу. Если ее сметут с «зебры», она, конечно, окажется потерпевшей, вот только кому от этого легче?
«Если ты едешь в левом ряду, – говорил мне инструктор по вождению, – а в правом кто-то притормаживает – на всякий случай сделай то же самое. Он может видеть то, чего не видишь ты. Например, пешехода».
«Рено» в правом ряду притормаживает, но я вижу то, чего не видит Стефа – летящий по левой полосе внедорожник.
Время не замедляется, мысли не становятся «вязкими, как кисель». Ничего не меняется, я просто в два прыжка оказываюсь рядом, хватаю ее за капюшон, а коляску – за ручку, и рывком втаскиваю обоих обратно под защиту «Рено». Ветер от промчавшегося внедорожника бьет нам в лица. Мужик за рулем «Рено» вытирает лоб, пожилая дама на пассажирском сиденье смотрит на нас не моргая.
– Спасибо, – говорю я им. – Спасибо. – Даже кланяюсь и разворачиваю коляску обратно. Сестра Ильи молча семенит рядом и не пытается ее отобрать.
Мы медленно, потому что ноги меня не держат, возвращаемся к Дому культуры. Там я выпускаю коляску из рук и кулем приземляюсь на ступени.
Стефа садится рядом. Лицо у нее белее белого.
– Рюкзак не отдам. С ним на прогулке удобно, все помещается.
– Да черт с ним, с рюкзаком. Владей. – Я прячу лицо в ладонях и слышу собственное сердцебиение. – Как его зовут?
– Митя.
– Классное имя. А я Майя. Зарецкая.
– Так ты… – вспыхивает Стефа. Она хорошенькая, могу понять, почему Дима на нее повелся: острые скулы, яркие брови, очень похожа на Илью в его второй ипостаси. Интересно, что она об этом думает. Но спрашивать сейчас не хочется. А Стефа тянет: – Твою ма-ать…
И в точности моим движением закрывается руками.
– Я думала, ты новая сучка Джона, – выдает эта красотка. – Просто проучить тебя хотела. Но чтоб не трогали. Я попросила, чтоб не трогали.
– Благодарствую! – Уж не челом ли тебе за это отбить? – Ладно, выяснили. Я – не новая сучка Джона, а новая Зарецкая. Хоть и не понимаю, почему сучек Джона нужно наказывать экспроприацией.
Молчит. Моргает.
– Грабить, говорю, зачем?
– Потому что Джон ебанутый, – звучит как нечто само собой разумеющееся. – Он Катьку и отца ее убил.
– Стой. Подожди.
Там, под синтетическим пологом цвета моря, который видел фиг знает сколько младенцев, лежит избежавший смерти человек Митя, и мне бы не хотелось, чтобы он слушал брань. Пусть даже он ее и не разумеет. Я заглядываю в коляску, чтобы убедиться в крепкости сна человека Мити, но убеждаюсь только в одном: он не похож ни на Диму, ни на Стефу, ни тем более на меня – а похож только на довольного жизнью лягуха, который чиллит в ситуации, способной кого угодно заставить наложить в штаны, прибухнуть или закинуться веществом из сказки с дурным концом. Спи, человек Митя. Ты знаешь, это лучший способ пережить любую жизненную фигню.
Когда я оборачиваюсь, Стефа уже цедит что-то из детского термоса.
– Винишко. Будешь?
Пакетированная кислятина. Мне нужно время, чтобы протолкнуть отпитое внутрь себя и не опозориться. Стефа истолковывает мою гримасу по-своему:
– Я не кормлю его грудью, че я, больная, что ли.
– Окей. Ты говоришь про Катю, которая попала под поезд? И ее отца?
– Джон втянул Катьку в свою херню с поездами. – Человек Митя в коляске начинает хныкать, словно в знак протеста против знакомства с миром, в котором есть Джон и херня с поездами, но быстро успокаивается. Боюсь, эта покладистость не появилась из ниоткуда. – Точно знаю. Она говорила. Еще он пытался с ней переспать, но она его послала, потому что ее отец ходил к Терпигореву вместе с моим. Им там мозги промывают, они потом верят, что, если твои дети трахаются до брака, ты сам попадешь в ад, а херачить своих детей головой об стену… – Она трогает щеку. – Короче, если бы он узнал, что Катька с Джоном, он бы ее убил. Но она все равно ходила в гараж, потому что вся эта магия… Типа работает, понимаешь?
– Не-а, – говорю. – Нет никакой магии. Это полная дичь.
– Она работает, – шепчет Стефа и зябко натягивает на голову капюшон. – Катя загадала поступить в колледж – и поступила. Потом еще она думала, что у нее опухоль, а оказалось – просто воспаление. Захотела стать старостой – и стала. И Джона она любила по-настоящему, вот только он даже не смотрел в ее сторону. Загадала – и на тебе, чуть не изнасиловал. Но она отца очень боялась и сказала «нет». А ведь это Джон ее всему научил.
– Чему? – замираю я.
Стефа смотрит на меня осоловелыми от вина глазами.
– Ложиться под поезд в определенном месте. Там раньше было языческое капище для человеческих жертвоприношений, он сам ей рассказывал. Когда ложишься, ты типа жертва. Понарошку. И можешь загадать что угодно – сбудется.
– Ясно, – говорю я. – Понятно. То есть она погибла случайно?
– Никто не знает. То ли делала ритуал, то ли Джону мстила. Ну и…
– А Катин отец? – Человек Митя снова издает хнык.
– Джон встречался с ним на болоте, а потом тот пропал. Больше ничего не знаю. Нам домой пора, Митя скоро проснется.
– Подожди! – Она замирает с моим рюкзаком, не до конца закинутым на плечо. – В смысле, подождите вы оба, с Митей. Я переживаю за Илью. Как он?
– Ты переживаешь за Илью?..
Он вылизывал мой чертов ботинок и смотрел на меня снизу вверх заплывшим глазом, как будто подмигивал, вот только он не подмигивал, его избили из-за моих вещей, ни одной из которых он не получил, зато получила ты, так что да, я переживаю за Илью с тех самых пор, как вымыла обувь под краном и надраила ее воском, но так и не перестала видеть его язык и ниточку слюны на шнурках. Определенно.
– Он говорил о тебе, пойдем.
И мы идем с ней и с человеком Митей, который уже открыл умные серые глазенки и помалкивал, глядя то на меня, то на висящую погремушку. Привет, когда-нибудь мы свалим отсюда, только не вздумай намекать на это сейчас, вдруг она понимает больше, чем нам кажется.
***
Коляску она оставляет в темном закутке под лестницей – не-а, не стырят, пусть только попробуют – и с ребенком на руках подходит к неказистой деревянной двери с номером 3. Я пытаюсь помочь, но Стефа отталкивает мою руку и справляется с замком сама. Внутри темно и затхло. Сырость, как в погребе, и погребной же запах. Я скидываю ботинки с мыслью, что они, возможно, чище пола.
– Туда иди. – Стефа указывает подбородком на пустой дверной проем, и, пока я на цыпочках, стараясь не запачкать носков, крадусь в кухню, уносит человека Митю в единственную комнату. Судя по его возмущенному писку, он предпочел бы продолжить прогулку.
Я сажусь на краешек стула и рассматриваю пластиковую клетку: она стоит прямо на полу возле батареи. Под толстым слоем опилок копошится кто-то живой. Пахнет хомячьей мочой и сушеными яблоками – сморщенные дольки разбросаны по противню, водруженному на табурет и нависающему над клеткой с издевательской недоступностью. Я принюхиваюсь, на мгновение учуяв запах газа, но нет – пахнет сушеными яблоками.
Стефа возвращается довольно быстро. Бухает на плиту сковородку, тычет спичкой в конфорку. Огонь загорается с жутким хлопком, но Стефу это не пугает: она невозмутимо достает из шкафчика банку тушенки, несколько секунд глядит на нее, покачивая в ладони. В следующее мгновение хватает вилку и пытается вскрыть ею банку. Ничего не получается, и вот она уже отбрасывает вилку и берется за нож. Снова ничего. В ход идут ее собственные зубы. При этом она настолько потешно кривляется, что я рассмеялась бы, не напоминай она до ужаса в этот момент своего брата. Если бы я не видела их вдвоем в тот вечер, когда меня ограбили, то решила бы, что никакой Стефы нет.
– Это ты сейчас. – Она показывает банку. Я ничего не понимаю. – Но Джон не отстанет, пока не… – И достает из ящика консервный нож.
Я вздрагиваю, когда из дыры брызжет сок.
– Дошло? – спрашивает она резко.
– Джон безобидный. Он ничего мне не сделает.
– Еще скажи, что вы… – Тушенка с шипением шлепается на раскаленную сковороду. – Просто друзья-а.
– Так и есть.
– Вика и Стаська ему надоели. Они его сучечки. – Тут она вдруг высовывает язык и дышит с открытым ртом, изображая собаку. Не понимаю, это страшно талантливо или просто страшно. – Делают все, что он скажет, даже друг с другом, а потом сидят за разными партами, потому что каждая хочет его себе.
Смешав с тушенкой комок слипшихся макарон, Стефа переставляет противень с сушеными яблоками прямо на хомячью клетку и садится на освободившийся табурет. В ее пальцах появляется сигарета.
– А тут ты, – договаривает она, щелкнув зажигалкой. – Такая вся из себя. Да ты его уже бесишь. Я знаю, он ко мне тоже подкатывал. Но у меня Димка был.
– Я справлюсь.
Вслед за скрипом половиц из темноты коридора появляется заспанный Илья. На нем спортивные брюки и расстегнутая куртка, под которой белеют бинты.
– Даров, – говорит он сипло и салютует мне двумя пальцами. Достает из холодильника пакет молока, прикладывается к нему, запрокидывает голову и жадно глотает – я вижу, как на его тощем горле дергается кадык и как из уголка его рта стекает белая капля.
– Как ты?
– Нормас.
– Ешь садись, – командует Стефа. – Я пойду с Митькой полежу, устала.
Илья занимает ее табурет и тоже закуривает. Дышать уже невозможно. Я смотрю на него и не знаю, о чем говорить. Просить прощения? Глупо как-то. Вряд ли он захочет вспоминать о том, что было на стройке. Стефа сказала, он говорил обо мне. Зато теперь молчит и явно не рад моему появлению.
Раз так, то обсуждать здоровье нет никакого смысла.
– Чем ты занимаешься, кроме учебы?
Он поворачивается ко мне, глаза его пусты.
– Что тебе интересно?
Илья не отвечает и ковыряет пальцы, можно подумать, я прошу его вычислить на доске предел функции.