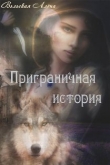Текст книги "Не говори маме (СИ)"
Автор книги: Саша Степанова
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Владения короля Джона
Красный Коммунар – грязный город. Целые мусорные горы, встречающие тебя за каждым поворотом. Заваленные хламом дворы, тропинки, протоптанные между пакетами из «Магнита», полных отходов. Жалкий ручеек на дне оврага, журчащий под автомобильными покрышками и пустыми бутылками, и мостик, перекинутый через него, чтобы прохожим было удобнее швырять вниз все, что есть лишнего у них в руках, карманах, сумках, гаражах и квартирах. Мы перепрыгиваем с дощечки на дощечку, рискуя провалиться ботинками в дыры между ними, и если для Джона это привычный маршрут, то мне приходится проявлять чудеса ловкости. На наших глазах то же самое проделывают женщина с ребенком в одной руке и коляской в другой, старуха с «кравчучкой» и пьяный мужик. За мостом наши пути расходятся: местные огибают вкопанное посреди дороги бетонное кольцо и исчезают среди одинаковых трехэтажных бараков, а мы с Джоном сворачиваем вправо, где по обе стороны от разбитой асфальтовой дорожки горбятся ржавые гаражи, и выглядят они так, словно внутри каждого спрятано расчлененное тело.
– Добро пожаловать, – торжественно говорит Джон и достает из кармана связку ключей.
То, что нам нужно, скрывается за последней «ракушкой» – дальше начинается поросший бурьяном пустырь – и выглядит как товарный вагон. Раньше это и был товарный вагон, но теперь он лишился колес и своей передней части – стал похожим на вагоноребенка, зато обзавелся гаражными воротами. Именно эти ворота Джон и отпирает одним из своих ключей.
– Входи, не бойся, – командует он и исчезает за облезлой створкой. Пока я гадаю, чего ожидать, в вагоне загорается лампа, звякают бутылки. Я наконец осмеливаюсь заглянуть.
– Ничего себе!
– Входи давай! – говорит он нетерпеливо. – И дверь закрой.
Как только я делаю шаг внутрь, Джон оказывается рядом. Я слышу щелчок – он запирает ворота изнутри.
– Это просто защелка, – поясняет он в ответ на мой испуганный взгляд и проделывает все это снова: закрыто-открыто. – Ты в любой момент можешь отпереть и выйти, но пока мы здесь, сюда никто не войдет. На всякий случай.
Свободного места внутри предостаточно, но большую часть пространства занимает диван с настолько засаленной обивкой, что ее изначальный цвет даже не угадывается. Над спинкой к стене прибиты раскрашенный фанерный щит с гербом – это поезд, нарисованный почти по-детски, – и два деревянных меча. Другие стены украшены репродукциями, но, чтобы разглядеть их получше, мне не хватает света. Под самой крышей в стене пропилено круглое отверстие, в котором вяло вращается механический вентилятор, правда, с количеством выкуриваемого здесь табака он не справляется. Просто мальчишечье убежище мечты, когда бы не этот душок расставания с детством.
Джон вкладывает мне в пальцы пластиковый стаканчик и с загадочным видом откидывается на спинку дивана.
– Садись, – говорит он и отодвигается. – В ногах правды нет.
Но нет ее и в том, чтобы цитировать житейские мудрости, однако я все же устраиваюсь рядом и делаю маленький глоток – так и есть, вино не состояло с виноградом даже в дальнем родстве.
Я смотрю на Джона – он потирает скулу и явно ждет вопросов.
– Что это за место?
Он закуривает, закидывает ногу на ногу, сквозь дым рассматривает потолок, подыскивая ответ.
– Владения короля Джона.
Я хмыкаю в стакан. А он отхлебывает прямо из горлышка и вдруг наклоняется ко мне так близко, что я вижу его ярко-красные от вина губы. Шепчет:
– Майя, ты веришь в магию?
Чем топит себя еще больше. От фей и эльфов нет отбою. Верить в магию после того, как избитый Илья вылизывал мои ботинки на заброшенной стройке? Верить в нее, сидя на этом диване? Верить в Красном Коммунаре?..
– А ты?
Отстраняется, ерзает. Пытается выдернуть из обивки невидимую ниточку.
– Скажем так: кое-что умею.
Я молчу, чтобы с ходу не выдать своих соображений о том, что его умения настолько же подлинны, как вон те мечи и щит на стене, и обширны, как владения короля Джона. Пусть попробует прочесть мои мысли.
– Поклянись, что никому не расскажешь, – не сдается он, еще не догадываясь, что нарвался на скептика.
– Клянусь, – запросто обещаю я.
– Мы… – начинает Джон. Делает очередной глоток и договаривает: – Мы умеем изменять будущее.
– Ага, – говорю. – Значит, судьба страны в надежных руках.
Наконец до него доходит.
– Ерничаешь… А зря. Как тебе кажется, почему Преля еще не вылетел из колледжа? Думаешь, он хоть раз лекции записывал?
То, что записывает в своей тетрадке Илья, я прекрасно помню – и пожимаю плечами.
– И родителей, которые купили бы ему зачет, у него тоже нет, – напирает Джон. – Оба алкашня. Но Преля очень сильный. Если чего-то захочет – всегда добивается.
– Не боишься, что он отомстит тебе за сегодня? – невольно включаюсь я, хотя вся эта болтовня нисколько меня не убеждает.
– Пф-ф.
Он гасит окурок в жестяной банке из-под горошка и сразу прикуривает вторую. Я пропитываюсь дымом, кажется, навсегда.
– Преля – трус. До усрачки боится меня потерять. Ты, наверное, заметила, что он придурок. И ничего, ходит, живой и почти здоровый, хотя то и дело косячит, как с твоим ограблением. Пытается стать своим, но у него ничего не получится, потому что он придурок, и все это знают.
– Тогда зачем ты с ним дружишь?
– Дружу? – выдыхает он вместе с дымом. – Мы не друзья.
– Но… – Разумеется, не друзья. Друзей не заставляют целовать обувь. И все же я не совсем понимаю.
– Он меня забавляет. Вот только за него я не вступился бы так, как за тебя. – С этими словами Джон протягивает руку и словно поправляет за моим ухом несуществующую прядь. Я отвожу взгляд, как поступают люди, тесно прижатые друг к другу в вагоне метро или в лифте, но он берет меня за подбородок и легонько разворачивает к себе. В глаза не смотрит – смотрит на губы.
– Давай не будем.
Он морщится дважды: сначала от моего отказа, затем – от стука в дверь. Колотят так, что даже стены дребезжат.
– Джон! Я знаю, что ты там! Открой!
– Скоро передумаешь, – обещает он, прежде чем встать.
– Давай, измени мое будущее, – бормочу я ему вслед, и во владениях короля Джона появляется еще одна подданная – Вика. Распущенные волосы, за которыми она скрывала свой поцелуй с Джоном, сейчас красиво лежат на белоснежной ткани куртки. При виде меня Вика истерично всхлипывает и, пока я перебираю в уме слова, способные сделать ситуацию не столь отчаянно сериальной, убегает – мелкие камушки, которыми усыпана дорога между гаражами, хрустят все тише.
– Дура, – резюмирует Джон и собирается снова закрыть дверь, но я протискиваюсь мимо него на улицу и уже оттуда – по пустырю одиноко бродит мужчина с собачьим поводком в руке, но без собаки – скороговоркой объясняю про домашнюю уборку, и вообще, спасибо за откровенность, давай, до понедельника.
Вика стоит на дырявом мостике, облокотившись на перила. В отличие от худенькой Стаси, даже при всей ее любви к стразам, Вика заметна издалека – рослая, в сапогах-ботфортах, с распущенными волосами длиной до талии. Духи у нее приторные, не из новинок – похожи на «Нину» от Nina Ricci, первые из серии «яблочных» флакончиков. Сейчас я обошла бы ее десятой дорогой, если бы только знала, где та пролегает. Сама Вика меня не видит, и мне, пожалуй, удалось бы прокрасться мимо незамеченной, если бы не ее вздрагивающие плечи. Но нет, они действительно вздрагивают.
– Мы просто разговаривали. – Я обращаюсь то ли к ее плечам, то ли к самой себе. – Про магию. Смешно.
– Он тебе рассказал? – спрашивает Вика, не оборачиваясь. – Можешь не верить, но это правда. Мы делаем так, что наши желания исполняются. Почти любые, кроме…
– Да не нравится он мне, – убеждаю я теперь уже свои ботинки. – И никто в этом городе. Я вообще не собираюсь здесь задерживаться.
Она оттопыривает большие пальцы и вытирает потекшую тушь, только после этого я вижу ее круглое лицо и замазанную тональным кремом сыпь на щеках.
– Мечтаешь вернуться в Москву?
– Не мечтаю. – Глаза начинает щипать. Я всматриваюсь в ветви деревьев, нависшие над мостом. Никогда не видела столько птичьих гнезд. Пытаюсь их пересчитать, но сразу сбиваюсь. – Точно вернусь. Вопрос времени.
– Два года назад, – хрипло говорит Вика, – умирала моя мама. Тогда Джон научил меня, что надо делать. Было очень страшно, но я пошла и… – Она облизывает и без того обветренные губы. – Спасла ее. Моя мама жива. И мне насрать, веришь ты Джону или нет.
– Насрать так насрать, – соглашаюсь я.
Она снова проводит пальцем под глазами, внимательно изучает его, а потом прячет руки в карманы и отмеряет шагами несколько шатающихся досок, но тут я вспоминаю о важном.
– Вик!
Замирает, смотрит через плечо.
– У тебя случайно нет ненужной одежды?
***
Я возвращаюсь в тот день всякий раз, когда из-за угла дома вдруг показывается еще один дом и на какую-то долю секунды кажется, что между ними нет совсем никакого зазора, хотя на самом деле там помещаются парковка и небольшой магазин, а из чьей-то раскрытой форточки пахнет блинчиками. И под ногами жирная черная слякоть, а небо серое-серое, уже готовое к снегу, как и все мы здесь, внизу, но вместо белых хлопьев на шапки и куртки осыпается мелкая морось.
Он был очень веселым, когда мы прощались: вкусно рассказывал о том, как приедет и сразу же растопит баньку, достанет бочонок пива, подаренный соседом дядей Мишей, и с тем же дядей Мишей разопьет его после парилки. Девчонки, а? Может, передумаете? Но мама второй день страдала от мигрени и лежала с мокрым полотенцем на лбу, а я вообще наведывалась в деревню только летом, да и то ненадолго – не понимаю, как можно получать удовольствие от огорода, комаров и купания в мелком пруду с непрозрачной от ряски водой. К тому же мы с Мартом уже купили билеты в кино и договорились о том, чтобы завтра утром захватить с собой ноутбуки, встретиться на Чистых и готовиться к ЕГЭ в «Розетке и кофе». Мы с мамой смотрели через кухонное окно, как папа выходит из подъезда с небольшой сумкой на плече. Была суббота, три часа дня. Прежде чем сесть в машину, он помахал нам, и мы помахали в ответ. После этого мама ушла в спальню, а я убрала со стола тарелки, из которых мы с папой ели борщ, вымыла их и стала собираться, чтобы поехать в центр на встречу с Мартом. Самый обычный, долгожданный для всех выходной.
Для всех, кроме, наверное, того человека из дома у дороги. Дом этот, неподалеку от бабушкиного, был когда-то пристройкой к еще одному дому, от которого остался один бревенчатый остов. Часть кровли сползла и повисла до земли – сквозь нее пророс ствол березы. Вокруг еще виднелись столбики утлой изгороди, но на ее месте топорщился частокол иссохшего кустарника. В пять лет – еще жива была бабушка, и я приезжала к ней в июне, и в деревне еще много оставалось тех, кто жил там, как она, безвыездно, а с ними и ребятня моего возраста – я была уверена, что развалюха у дороги – это детский дом, куда меня непременно отдадут за плохое поведение. Позже, в семь или восемь, я стала расспрашивать бабушку о том, кто там живет. Хозяина я видела всего пару раз, когда брала велосипед и ехала мимо этого дома на пруд. Он сидел на крыльце своей пристройки – полуголый, в одних только штанах, худющий, страшный. Звали его Константин. Раньше он жил в Туле и работал на автозаправке, а потом попал в тюрьму. Когда вышел и вернулся домой, мать прогнала его, и он поселился в заброшенном доме в нашей деревне. «Почему прогнала, ба? Почему?» – приставала я, уже понимавшая, что за плохое поведение так не наказывают. «Он случайно убил свою сестру». Больше я от нее ничего не добилась, но всякий раз, проходя мимо этого дома, смотрела на него и думала: «Здесь живет человек, который случайно убил свою сестру».
И пока папина машина отматывала километры по трассе, Константин откупоривал не первую и не последнюю бутылку водки, прикуривал одну сигарету от другой, а потом устал и решил прилечь. Папа обходил наш пустой участок с замерзшими грядками – Константин лежал с тлеющей в руке сигаретой и засыпал, уставший от своих бесконечных выходных. С участка папа заметил дым. Соседи видели, как он бежал к горящему дому, пока они вызывали пожарных. Вокруг собрались люди, но внутрь не полез никто, кроме папы. Ему помогали – несколько пар рук вытащили Константина наружу через окно. Папа не успел. На него упала горящая балка.
«Зачем нужно было его спасать?» – спрашивала мама, и я не могла ее за это винить.
«Зачем такому дерьму вообще жить?» – спрашивал той ночью Март. Мы сидели на кровати в моей комнате, он обнимал меня так крепко, что было больно, но я не говорила ему об этом. И плакал. Он тогда еще не занимался армейской борьбой, не ходил в зал, не знал ни Руса, ни Родиона Ремизова, потому что с нами еще не случилась «Яма». И все-таки задавал тот же вопрос.
Я не спрашивала ни себя, ни других о жизни человека из дома у дороги. Я знала.
Так решил папа. Мой сильный, веселый папа, который спасал людей. Люди запирали в квартирах своих детей, напивались и забывали о том, что у них есть дети. Балансировали на карнизах, видя под ногами бесконечно прекрасную дорогу к звездам. Заселяли колодцы, заброшки и теплотрассы, сражались с демонами и бесами, искали другие миры, пытались проститься с этим, уставали и засыпали, не докурив. Но они, понимаешь, были Сашами, Ксюшами, Петями, Сонечками и Львами Владимировичами. Папа так их и называл.
Всех, Март.
«Прости, – говоришь ты тринадцатого сентября, когда убил Анну Николаевну Нелидову, – сегодня встретиться не получится, задержусь в тренажерке».
«Прости, сегодня…»
«Прости, сег…»
«Прости».
Слушать это невыносимо. В день гибели Льва Коя мы долго обменивались голосовыми о последнем спектакле в «Гоголь-центре», на который сходили и тут же решили идти на следующий (ты перевел мне деньги, я скинула тебе электронный билет). Ты: «Я искал такое яблочко, которое не почернеет после укола... Я не нашел его». Эти слова из «Боженьки» тебя зацепили. Только сейчас я понимаю, чем именно: я должна была стать тем яблочком, которое не почернеет после укола. Останется с тобой даже после того, как прочитаю твою исповедь. Но не стала.
Интересно, что изменилось бы, если бы ты знал их имена? Стопка бумаги с исповедью лежит на краю стола, крепко прижатая «Домом, в котором...». Я подумывала сжечь ее и закопать пепел, даже стащила с кухни коробок спичек, чтобы избавиться от этих записей сразу после того, как сотру нашу переписку в «телеграме», но случайная мысль об именах тянет за собой другую: у меня есть нечто, чего нет у Сани Сориной. То самое знание, которого мне не хватало. Информация.
Саня сделала то, что хотела бы сделать я. И я завидовала ей. Завидовала, потому что она позволила людям, которых убил Март, говорить через нее после смерти. Как медиум, отдала им свой голос. Они назвали свои имена и рассказали, кем были при жизни, – благодаря ей. Если бы я могла сделать то же самое…
Говорить. Это будет подкаст. Мой подкаст.
Я запрыгиваю на кровать и нависаю над столом, поджав под себя ноги – неполезный, но отличный способ, удобнее, чем продавленное компьютерное кресло. Еще в прыжке намечаю кое-какой план: шесть выпусков – по одному на историю каждого из убитых тобой – нет, Мартом – людей. Я хватаю блокнот, который купила еще в Москве, но так ни разу и не воспользовалась, и открываю его на первой чистой странице.
Загвоздка в имени. Ни Майя Жданова, ни Майя Зарецкая не подходят. Лучше всего – вообще не Майя, а ноунейм, в чьи руки «случайно попали сенсационные материалы». Правда, так мне никто не поверит, и они будут правы: она, конечно, все придумала, чтобы, как говорится, хайпануть в разгар судебных процессов над Русских и Ремизовым. Доказательств-то нет, писал это мертвый Лютаев или не писал. Вот только если…
«Использовать голосовые сообщения», – чиркаю я, и бумага морщится от прикосновений моей вспотевшей руки.
Ничего страшного. Просто не буду читать комментарии. Но я должна рассказать о Марте и о том, как можно было не заметить такое.
***
К обеду воскресенья мне удалось разобраться, как извлечь голосовые сообщения из «телеграма» и вмонтировать их в аудиофайл, который только предстояло записать. Я как раз заканчивала с фрагментом о жизни Анны Николаевны, когда в прихожей лязгнул звонок, тетиполины тапочки прошлепали по коридору, а сама она крикнула: «Майя!» – и вернулась к просмотру сериала. Я изучала все, что только могла найти о бездомной учительнице – в какой школе она работала, каким человеком была, – и всматривалась в ее немногочисленные фотографии при жизни и после смерти, обмирая от мысли, что это один и тот же человек… Забыла, кто я сама и где нахожусь, и глядевшие снизу вверх глаза Ильи, и то, как он держал меня за ногу, пока целовал мой ботинок. Но всегда приходится возвращаться. Тем не менее я все еще в пижаме, и никакие Майи в мои планы не входят.
За приоткрытой входной дверью стоит Вика.
– На, держи, – говорит она и протягивает мне небольшой пакет. – Это от меня и Стаси.
Я теряюсь настолько, что даже пытаюсь припомнить, не день рождения ли у меня. В пакете какие-то вещи – пестрые заношенные тряпочки, и я ума не приложу, зачем она их притащила.
– Старая одежда. Ты просила, – поясняет Вика. В ее пальцах с акриловыми ногтями дымится сигарета, дым тянется прямо в прихожую. Тете Поле это не понравится.
– А, – хмуро говорю я. – Да, точно. Спасибо.
– Если тебе не в чем ходить, – продолжает она, – напиши объявление и повесь его в колледже. Только мобильный укажи.
И наверняка думает, что подложила свинью, но на самом деле такое простое решение мне даже в голову не приходило, и я собираюсь внести этот пункт в свой планер, чтобы не забыть сделать завтра утром.
– Может, – говорю, – чаю?
Вика кривится, будто я предложила фотосъемку голышом.
– Мы вообще-то с Джоном договорились встретиться. – Держит паузу. Мне не терпится вернуться к своему подкасту. – В гараже затусим. – И смотрит выжидающе.
– Отлично, – говорю я, прежде чем захлопнуть дверь. Но тут же открываю ее снова и кричу: – Вик!
Она стоит как стояла, разве что моргает чуть чаще.
– Откуда ты знаешь мой адрес?
– Так все знают.
Я бросаю пакет вглубь прихожей и складываю руки на груди, чтобы слегка выразить свое возмущение.
– Ты Зарецкая, значит, сестра Димы Зарецкого, значит, живешь у его мамы.
– А Дима – местная знаменитость?
Вика фыркает носом.
– Козел он. Еще скажи, что про ребенка не знаешь.
– Майя! – кричит тетя. – Дверь закрой, всю квартиру прокурили!
Я послушно закрываю, только за своей спиной.
– Какого еще ребенка?
Вика отступает на шаг и озирается, словно кроме нас на лестничной клетке прячутся сто тысяч шпионов. Но здесь никого нет.
– Ты Прелю помнишь? – шепчет она, и я вздрагиваю: налитый кровью глаз тут как тут. – Так вот, у него есть сестра, Стефа. Она малололетка. – Мы с Викой примерно одного роста, но сейчас кажется, что она выше меня на голову, просто на глазах вытягивается. – Полгода назад родила. Димка сразу в армию свалил, еще до того, как Стефа рассказала своим, кто отец ребенка. Иначе он бы его убил.
– Кто кого?
Вика снова оглядывается.
– Старший Апрелев – твоего брата. Он ходит в ДэКа на чтения Библии. У меня приятели тоже один раз сходили и ушли с середины – скукотища, одни бабки. А он туда ходит уже давно, и, по их учению, девушкам до свадьбы нельзя. – Вика начинает шептать: – Он ее на аборт не погнал, потому что ему батюшка на чтениях сказал, что это страшный грех. Хотя твоего брата даже батюшка не спасет, – добавляет она своим обычным голосом.
Я на всякий случай заглядываю в квартиру, чтобы проверить, не подслушивает ли нашу занимательную беседу тетя Поля. Но горизонт чист: телевизор бубнит, кресло поскрипывает, тапочки ведут себя смирно.
– Расскажи мне про Стефу. Сколько ей лет?
Вика достает из кармана куртки еще одну сигарету и прикуривает.
– Пятнадцать, – говорит. – Обычная девчонка. У них с Димкой любовь. С Джоном Димка в контрах был из-за того, что Джон Прелю постоянно гнобит, но это он просто Прелю плохо знал… Джон к Стефке катил, но она его отшила еще раньше, чем они с Димкой сошлись. Если хочешь знать, – усмехается она, – я думаю, что Джон тебя и в гараж позвал, чтобы отомстить твоему брату за свой провал со Стефкой.
– Мы с Димой, – говорю я, придавленная новой информацией о человеке, в чьей комнате я сейчас живу, – последний раз виделись, когда нам было по три года. План так себе.
– Ну и забей, – фыркает Вика и отправляет окурок в полет между этажами. – Ладно, пойду.
– Пока, – говорю я и теперь уже окончательно запираю дверь.
Так значит, Дима заступался за Илью, надо же… Вот только с объектом любви просчитался – после того, как Стефа организовала мне троицу бандитов в подворотне, я едва ли способна испытывать к ней симпатию.
– Такие дела, брат, – негромко произношу я вслух, чтобы если не сам Дима, то хотя бы его комната прониклась моими чувствами.
После разговора с Викой утреннего вдохновения как не бывало. Я сохраняю файл с текстом для выпуска и создаю чистый документ. После обеда я собиралась надиктовать первую запись из дневника Марта на телефон, но сейчас в голове одни библейские чтения. Что это – местный книжный клуб? Бюджетный способ скоротать досуг?..
***
СБОР ЛИШНИХ ВЕЩЕЙ!
больше не нравится или надоела, а выкидывать жаль, —
время освобождать место для новой!
Приносите все ненужное (в хорошем состоянии)
на ГАРАЖ-СЕЙЛ,
который состоится через неделю.
Здесь можно будет купить вещи по выгодной цене.
Все вырученные средства поступят на счет девочки
с детским церебральным параличом.
Давайте вместе подарим Яне жизнь!
«Лишние вещи» – такая себе лингвистическая находка, но я решаю оставить. Перечитываю и остаюсь вполне довольна: вышло позитивно и без лишнего пафоса. В конце я указываю свое имя, номер группы и мобильный для связи. Дело за малым: найти, где бы это распечатать.
В кухне хлопает холодильник – видимо, тетя начинает накрывать на стол. Я спешу помочь, хотя никто меня об этом не просит, и, пока она ставит на плиту кастрюлю с щами и включает газ, достаю две тарелки и стаканы для лимонада, который купила утром. Тетя такое не покупает.
– Теть Поль, – решаюсь я, когда она заканчивает нарезать хлеб и усаживается напротив. – А что за чтения Библии в Доме культуры?
– Ой, – говорит она и округляет глаза. – Откуда знаешь?
– Объявление. – Я неопределенно киваю за окно. – На остановке.
– Сектанты они, – без обиняков заявляет тетушка. – Не вздумай ходить. Библию можно и дома почитать, а у них там песни и пляски под странную музыку, и Библия своя, не такая, как у нас. Узнаю, что ходила…
– Да не пойду я.
Она наливает мне исходящие паром щи. Взамен я наполняю ее стакан – этикетка обещает базилик, апельсин и манго, но на вкус это просто апельсин. Тетя Поля подозрительно принюхивается, делает маленький глоток и морщится.
– Я вообще, – говорю, – в Бога не верю.
– Я, что ли, в твоем возрасте верила? – усмехается она. – Но чем ближе к той стороне, тем чаще задумываешься – а вдруг есть? И буду я тогда стоять перед ним как идиотка: другие все порядки знают, Полина Георгиевна, вы-то где были?
И я вдруг понимаю, что лед треснул. Меня приняли. Не пожалели и не полюбили, но я здесь пробуду еще долго, и если с этим ничего нельзя сделать, то придется со мной говорить – возможно, я даже окажусь неплохим собеседником.
Губы сами собой растягиваются в дурацкой улыбке. Тетя Поля, кажется, сама готова рассмеяться.
– Поживи с мое!
Я дую на ложку и осторожно пробую.
– Щи как у мамы…
Смотрю в тарелку, не вижу тетушкиного лица – только руку, которая лежит на куске хлеба и не спешит его брать.
– Скучаешь по ней? – спрашивает она тихо, и горло мгновенно сжимается так, что туда не проходит даже бульон. Слова не даются тоже – я киваю, наклоняюсь ниже, чтобы скрыть слезы, но не получается, они капают в тарелку, и тогда тетя Поля подходит ко мне и обнимает меня за плечи, а я всхлипываю и не могу остановиться.
– Так и надо, – приговаривает она, – все правильно, девочка, это же мама. Как я жалею… Ужасно жалею. Мы ведь с ней не дружили. Когда она родилась, мне было тринадцать. Комната, где ты сейчас, – наша бывшая детская. Я одна была хозяйка, а пришлось потесниться. Злилась ужасно. Вообще часто на нее злилась, ревновала, даже нарочно до слез доводила, хотя становилось еще хуже: жалели всегда ее, а наказывали меня. Чего добивалась?.. Потом выросла, мечтала съехать, в общаге жила. Муж, работа, вроде и жизнь наладилась… Со Светой виделись только в выходные, да и обида прошла, она выросла, поумнела, но так мы и не сдружились. Она вышла замуж за твоего отца и уехала в Москву, а я развелась и вернулась сюда. Так и осталась, – невесело усмехается тетя Поля, – единственной хозяйкой. Мечтала об этом – и вот. Только провались бы оно все…
– Вы не виноваты. – Я высвобождаюсь из ее объятий и беру салфетку, чтобы вытереть лицо.
Мама никогда не рассказывала об отношениях с сестрой: есть тетя Поля и двоюродный брат Дима, но мы к ним не ездим, и они к нам тоже. Я была бы не против познакомиться с родней, да все не складывалось: то погода плохая, то Луна в Скорпионе, то на даче дела поважней. Но мне бы и в голову не пришло винить в чем-то тетушку. Просто так сложилось – и у нее с сестрой, и у нас с мамой.
– Как знать, – вздыхает она и возвращается за стол. – После смерти твоего папы я звонила Свете, предлагала приехать, пожить с ней. Но она, мол: все в порядке, ничего не надо. Другая бы настояла, а я, ты знаешь, даже обрадовалась. Что ехать не придется, в метро этом вашем плутать, потом смотреть, как она убивается… Утешать я не умею – сухарь. Еще родители так говорили: ты, Полина, у нас сухарь, тебе бы прокурором работать.
– Вы бы все равно ей не помогли. Она спилась. Тут помогли бы только нарколог с психиатром. Она могла бы не пить, но выбрала пить. Я не просила у нее денег, мне не так уж много надо. И поступила на бюджет. Она могла встать на биржу труда. Сдать комнату – хоть какие-то деньги, потеснились бы. Но выбрала пить. И в этом никто не виноват – ни вы, ни я, ни папа.
Возможно, мои слова звучат слишком резко, но я не жалею о сказанном. Щи мы доедаем молча.
***
Подвальчик с симпатичной деревянной вывеской «Печатная» я заприметила накануне из окна автобуса – придется прогуляться и не терять надежды, что их услуги достаточно востребованы, чтобы работать в выходной.
С вывеской они и правда заморочились. Табличка выглядела так, словно была вырезана ножичком, вручную. Люблю такие вещи: кривоватые, но теплые и не от мира сего. Ведь куда проще было бы повесить пластиковый короб с буквами из «оракала»: «КСЕРОКОПИЯ». От деревянной «Печатной» веяло историей. Не стариной, а историей жизни человека, который почему-то решил оформить свой незатейливый бизнес именно так.
В режиме работы воскресенье значится выходным, но я тяну за ручку, и дверь оказывается не заперта. Тренькает колокольчик. Я шаркаю ногами по коврику, чтобы не тащить внутрь уличную грязь, и на цыпочках, хотя звон уже выдал меня с головой, крадусь мимо вешалки с двумя куртками в слабо освещенную комнату. Крепко пахнет кофе – не растворимым, а настоящим, может, из кофемашины. За деревянной стойкой никого нет, но в комнатушке, отгороженной книжным стеллажом, сидят люди: рыжая девушка с ноутбуком, двое ребят, склонившихся над настольной игрой, и еще взъерошенный парнишка с книгой в руках. Увидев меня, он вскакивает и спешит к стойке.
– Привет! Ты уже была у нас раньше? Правила знаешь?
– Нет, – говорю. Остальные не обращают на нас никакого внимания. – Можно без правил? Просто файл распечатать.
– А! – Он чешет в затылке и складывается вдвое. – Этим обычно мама занимается. Но попробуем разобраться.
Пока он включает компьютер – я не вижу, но понимаю по звуку, – игроки азартно обмениваются непонятными репликами. Рыжая натягивает куртку и пудрит нос, а затем убирает в сумку пудреницу, ноутбук и распечатки, которые лежали перед ней на столе. Все столы в комнате разные и будто собраны по чердакам и дачам: один маленький, круглый, покрытый черным лаком, другой квадратный, на львиных лапах, есть еще шахматный – с нарисованной доской – и овальный, царь-стол – за ним могли бы разместиться человек десять, и они не соприкасались бы локтями.
– Саввушка, – говорит рыжая, проходя мимо стойки. – Я ушла, отметь.
– Понял, – отзывается он. – Хорошего дня! – И протягивает руку ладонью вверх. – Вроде получилось. Давай флешку.
В последний раз я пользовалась флешкой лет пять назад. Папе подарили ее на службе, а он передарил более нуждающейся мне. С тех пор как появилась возможность переслать что угодно себе на почту, а потом и в «телеграме», всякая нужда в таком посредничестве изжила себя.
– Файл у меня в телефоне, – признаюсь я уныло.
Темноволосый Савва с длинным носом, придающим его лицу комично-печальный вид, явно не теряет надежды мне помочь.
– Не беда! Переслать сможешь? Если что, здесь есть бесплатный вай-фай. «Печатная» английскими буквами. Пароль…
– Не-не, – перебиваю я, не осмеливаясь наглеть. – У меня нормальный мобильный интернет.
Он диктует электронный адрес – кажется, свой личный, – и «лишние вещи» улетают туда. Савва утыкается в телефон.
– У вас крутая вывеска, – говорю я просто так.
– Отец делал. Там еще домовые.
– Да? Не видела.
– Будешь выходить – посмотри. В кустах. Оп!
Принтер под стойкой издает «ж-ж», и через мгновение Савва отдает мне лист с распечатанным текстом.
– Одного хватит?
– Вполне. Сколько с меня?
– Двадцать рублей. – Он и сам похож на дружелюбного домовенка. Я протягиваю пятьдесят. – А без сдачи есть?
– Нет. – При виде него невозможно удержаться от улыбки, но я серьезна.
– Сходим куда-нибудь попить кофе?
– Нет, – говорю я и все-таки улыбаюсь.
– Тогда у тебя есть тридцать бесплатных минут в нашем коворкинге. Кофе-чай бесплатно. Заглядывай! И удачи с «лишними вещами».
Первый домовой дрыхнет под кустом с бутылкой в руке. Второй пытается взобраться на дерево. Третий сосредоточенно пишет – я заглядываю через плечо, но ни слова не понимаю из его каракуль. Кажется, я нашла идеальное место для гараж-сейла. Вот только кто бы меня сюда пустил…
Придется подумать еще.
***
Техники у меня нет, и я записываю на «айфон»: «…Признаваясь в презрении к слабым, Мартин пытается обосновать свою позицию. Текст, который следует далее, сильно отличается от его собственного. Скорее всего, это слова Руса, Андрея Русских, тренера по рукопашному бою. Именно так он убеждал Мартина и Родиона Ремизова в их превосходстве над теми, у кого нет дома. Именно так давал им право убивать, хотя в суде Ремизов утверждал, что обладает этим правом от рождения. Я не стану зачитывать эти несколько абзацев из дневника Мартина: логика довольно проста. Волки – санитары леса. Человеческой популяции, у которой гораздо больше общего с животными, чем принято думать, тоже нужны санитары – чтобы избежать вырождения, чтобы население было жизнестойким и не утратило инстинкта самосохранения. Раньше эту функцию выполняли войны, эпидемии и голод, но цивилизованное общество победило болезни и создало искусственную среду обитания, в которой выживают даже самые слабые: младенцы, немощные калеки и умственно неполноценные. Так быть не должно, вторит Мартин теоретическим выкладкам Русских и тут же апеллирует к зороастризму с его разделением на “чистое” и “нечистое”. Нас учат уважать “нечистоту”, однако почему я должен уважать тех, кто слаб?..