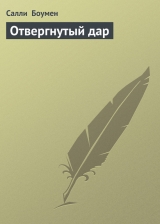
Текст книги "Отвергнутый дар"
Автор книги: Салли Боумен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– После ужина я приглашаю тебя в Сен-Клу. Мне бы хотелось показать тебе дом.
– Эдуард, милый, с превеликим удовольствием…
– В таком случае… – он замялся, – возможно, ты предупредишь горничную?
Изобел на него уставилась, потом рассмеялась, подхватила под руку и увлекла к дверям.
– Эдуард, милый, ты очаровательный идиот. Я уже и забыла, когда в последний раз путешествовала с горничной. Перед тобой женщина, которая умудрилась выжить в Европе, Южной Америке и Восточной Африке – без горничной. Ты поражен?
– Глубоко. – Он помог ей сесть в свой «Бентли Континентал», тронул машину с места и, улыбнувшись, заметил: – В Восточной Африке? Что ты там делала?
Изобел сладко потянулась, закинула свою умопомрачительную черную шляпу на заднее откидное сиденье и небрежно бросила:
– Скупала львов.
Он отвез ее в маленькое кафе в одном из рабочих пригородов – в этой части Парижа Изобел никогда не бывала. Она предположила, что он выбрал кафе «Уникум» чисто случайно, но, к ее удивлению, хозяин и его полная круглолицая жена встретили Эдуарда как сына, вернувшегося после долгой разлуки: расцеловали в обе щеки, сердечно обняли, наградили Изобел долгим придирчивым взглядом и, видимо, остались ею довольны.
Посетителей не было. Их усадили за маленький столик, набросили поверх красной клетчатой скатерти свежую, накрахмаленную, белого полотна, разложили два прибора, поставили два стакана для вина и корзиночку с восхитительным, только что из печи хлебом. В стеклянном графине подали отменное крепкое vin ordinaire[19]19
Столовое (не марочное) вино (фр.)
[Закрыть]. Еда была выше всяких похвал – все блюда приготовил и не без законной гордости подал на стол сам хозяин: крохотные moules marinieres[20]20
Съедобные морские ракушки (фр.)
[Закрыть], такие вкусные, будто их только этим утром собрали на скалах; бифштекс под хрустящей коричневой корочкой, но с кровью внутри; большое блюдо хрустящего, обжигающего язык картофеля, зажаренного «соломкой»; чудесный салат в простой белой миске. А такого камамбера[21]21
Семейство мягких нежных сыров с острым запахом.
[Закрыть] Изобел в жизни не пробовала – хозяин с гордостью сообщил, что сыр ему поставляет брат со своей фермы в Нормандии, где, заверил он, производят единственные сорта камамбера, которые стоит покупать.
Оба поели с большим аппетитом и, покончив с едой, перешли к черному кофе и чудесной терпкой виноградной водке. Изобел откинулась на спинку стула и улыбнулась.
– Так вкусно я еще никогда не ела. Много лучше, чем у Максима. Спасибо, Эдуард.
– Я надеялся, что тебе здесь понравится. А теперь расскажи про львов.
Изобел подумала и начала, тщательно выбирая слова:
– Значит, два года назад я овдовела – тебе это известно. Ты мне писал.
– Да. – Он поднял темно-голубые глаза и встретился с нею взглядом.
– А после… Я, видимо, растерялась. Ты не представляешь, Эдуард, какую безалаберную жизнь я вела. Носилась по автогонкам, вечно то поезд, то самолет. И вдруг этому пришел конец. Все это время, все эти годы я вертелась как белка в колесе, так что недосуг было сесть и подумать – очередной билет, очередная гостиница. А быть может, я сама не хотела задумываться. Не знаю. Как бы там ни было, этому пришел внезапный конец, и я подумала… – Она замолчала и взяла его за руку. – Эдуард, милый, ты меня поймешь, я знаю. Я подумала – хочу сделать что-то полезное. Приносить пользу. Кому-нибудь. В чем-нибудь. – Она отвела глаза. – А это было трудно. Меня не научили приносить пользу. Мне дали идиотское женское образование. Никаких навыков полезного труда. Даже в войну, если вспомнить, много людей – женщин – занимались делом. Водили машины «Скорой помощи». Служили в ВТС[22]22
Вспомогательная территориальная служба (женская); существовала в годы Второй мировой войны.
[Закрыть]. Работали на фермах. Я ничем таким в жизни не занималась. – Она пожала плечами. – Вероятно, мне стало стыдно – с опозданием на десять лет.
– И что же ты сделала, чтобы приносить пользу? – мягко спросил он, выказывая понимание.
Изобел вздохнула.
– Вернулась домой. В Англию. К папе. Ох, Эдуард, не описать, какое это было грустное возвращение. Я столько лет не бывала дома, только приезжала на несколько дней, когда умерла мама. А в этот раз… Наш лондонский особняк продали за три года до того. Его снесли, теперь на этом месте отель. Поэтому, вероятно, до меня не сразу дошел весь ужас. Впрочем, ждать оставалось недолго. Я отправилась в наше загородное имение и нашла там отца – живет один в громадном доме, комнат не перечесть, слуг не хватает, тоскует по маме и такой одинокий, такой одинокий. Уильям все время в Лондоне, он теперь работает в Сити. Помнишь Уилли, это мой старший брат? Ну так вот, он сейчас в торговом банке, лезет из кожи вон, чтобы восстановить семейные капиталы. А папа прозябает в этой огромной усыпальнице, сходит с ума из-за счетов. – Она передернулась. – Жуткий дом. В него сколько ни вкладывай, все впустую. Одних комнат сто семьдесят пять, крыши – два акра[23]23
0, 81 га
[Закрыть], представляешь? Конечно, представляешь. Но главное, он с 1934 года не ремонтировался, а в войну часть дома реквизировало военное командование. Короче, полный развал. Папа не знал, как к этому подступиться, потом посоветовался со старыми приятелями и придумал Великий План. Открыть дом для туристов. Брать за вход. Пусть они ходят и любуются на полотна Рубенса и Гейнсборо – которые остались. Самые луч шие папе пришлось продать. Конечно, в семейную часовню, библиотеку Эдама и Красную гостиную посетителям доступ будет закрыт, и, если повезет, так они заглядятся на чиппендейл и хепплуайт[24]24
Стили мебели XVIII в., названные по именам мастеров-краснодеревщиков Томаса Чиппендейла и Джорджа Хепплуайта.
[Закрыть], что не заметят дырок в коврах. – Изобел вздохнула. – Хороший был план, но не сработал. За вход решили брать по пять с половиной шиллингов, и сколько же нужно посетителей, чтоб залатать два акра крыши! Так-то вот. И папа надумал устроить заповедник для диких зверей.
– Заповедник для диких зверей? – Эдуард удивленно поднял брови, и Изобел мрачно кивнула.
– Именно. Заповедник для диких зверей. Львы, жирафы и прочая экзотика. Бродят себе на воле по угодьям. Звучит, конечно, чистым безумием, но вообще-то мысль оказалась довольно дельной. – Она озорно улыбнулась. – Честное слово, они выглядят очень мило, Общество охраны животных и то не могло бы придраться. Самое удивительное – они, похоже, не боятся дождя. Папа их обожает. Каждый день выезжает утром поговорить со львами – из своего «Лендровера». У них у всех теперь имена, как у молочных коров в нашем детстве. Только, понятно, не Маргаритка, Кашка или Гвоздика, а африканские – Нгумбе, Банда и в том же духе. Папа несколько недель рылся в справочниках.
– И много народа приезжает поглядеть на львов?
– Толпы. Буквально толпы. Это куда интересней, чем глазеть на Рубенса, и, должна признаться, я с ними согласна. Вот так и получилось, что я поехала в Кению покупать львов. А поскольку я не мужчина, то более полезного занятия не могла для себя найти.
И она стрельнула в него зелеными глазами – поддразнивая, но в то же время и чуть опасливо, словно боялась, что он начнет над ней подтрунивать. Эдуард, понимавший, что она особенно уязвима в те минуты. когда кажется особенно легкомысленной, сжал ее руку. Она вырвала руку, внезапно на него рассердившись.
– Нет, Эдуард, не надо. Не нужно меня жалеть. Я знаю, что это смешно. Я презираю саму себя. Порой мне хочется… о господи, не знаю… Так хочется быть мужчиной, только и всего. Вот тогда бы…
Он снова взял ее руку и осторожно поднес к губам.
– Ты красивейшая из женщин, что я встречал. А также одна из умнейших, как бы ни притворялась глупенькой. Я очень счастлив, что ты не мужчина. Ну, ладно. – Он встал. – Едем в Сен-Клу.
Они подъехали к особняку в поздний час, но стояло полнолуние, ночь была теплая и тихая. По просьбе Изобел Эдуард устроил ей генеральный осмотр поместья. Они миновали парк, через аллеи подстриженных грабов и тисов вышли к розарию, а оттуда – в цветник, засаженный травами и – по весне – лакфиолью. Изобел вздохнула.
– В Англии их издавна называли левкоями. Я их люблю, люблю их аромат.
Она сорвала цветок, поднесла к лицу, и в свете, падающем из высоких окон особняка, Эдуард заметил, что густой, насыщенный, с примесью золота багрянец левкоя и есть оттенок ее волос. Они помолчали и пошли дальше.
Он повел Изобел на конюшни, где старая кобыла ткнулась ей в ладонь нежными бархатными губами; потом они побывали в длинном строении с плоской крышей, напоминающем небольшой ангар. Эдуард включил освещение; Изобел, большая любительница автомобилей, восторженно вскрикнула. Там стояли двадцать – нет, больше, не менее трех десятков – автомобилей, каждый само совершенство, лучший образчик своей модели. Она завороженно прошла вдоль рядов: «Бугатти», «Йенсен», «Бристоль», один из великих «Маллинер-Бентли», легендарный «Порш-356», «Роллс-Ройс Сил-вер Гост» с подножками.
Изобел перебегала от машины к машине, гладила отливающие лаком корпуса, сверкающий хром. Эдуард, стоя в дверях, наблюдал за ней со странным отрешенным выражением. Изобел обернулась к нему.
– Эдуард, они прекрасны. Сказочно прекрасны. «Бугатти», должно быть, просто уникален – их было сделано всего семь, верно? Я думала, ни одного уже не осталось… – Она помолчала. – Не знала, что ты так сильно увлекаешься автомобилями.
Он пожал плечами:
– Я люблю быструю езду. В одиночестве. Порой сажусь ночью за руль, когда нужно сосредоточиться.
– Но столько машин…
– Да. – Он еще раз пожал плечами. – Вообще-то я покупал их не для себя. Для одного человека, которого интересовали машины. – Он повернулся к дверям. – Вероятно, сейчас держать такую коллекцию немного смешно.
Он выключил свет и направился к выходу. Изобел глядела ему в спину. Она слышала о мальчике, Грегуаре, по слухам, сыне Жан-Поля. Слышала, что Эдуард был очень привязан к ребенку Ее пронзила жалость. Так вот для чего все эти автомобили? Бесценная коллекция – для одного маленького мальчика?
Она догнала Эдуарда и взяла под руку.
Позднее, осмотрев дом, они возвратились в кабинет Эдуарда на втором этаже. Расторопный без суетливости камердинер-англичанин принес кофе и арманьяк и удалился. Изобел беспокойно прохаживалась по комнате. Как похожа эта комната на Эдуарда, думала она: французская с ее изящно расписанными панелями – и одновременно английская по скудости убранства. На всем налет сдержанности, мужественности, упорядоченности. Книжные шкафы с томами в кожаных переплетах; превосходнейшие изящные акварели XVIII века; конторка в силе чиппендейл; кресла, обитые утонченно блеклым спайтлфилдским шелком. Каждый предмет обстановки дышал совершенством, свидетельствовал о разборчивом вкусе, неограниченных средствах – и об одиночестве. Комната, как и весь дом, производила впечатление ухоженной и одновременно странно пустой.
Изобел поглядела на Эдуарда. Тот сидел у камина, в котором пылали дрова; он не притронулся к коньяку, и лицо его даже в эту минуту покоя казалось неулыбчивым. Словно ощутив ее взгляд, он повернулся и протянул руку. Изобел приняла ее, он привлек Изобел и усадил у себя в ногах на шелковый ковер сине-ало-коричневых тонов с узором из птиц и цветов. Она прижалась головой к его колену, он опустил руку ей на волосы.
– А сейчас, – тихо сказал он, – ты, Изобел, все мне расскажешь.
Она повернулась и глянула на него снизу вверх. Они всегда понимали друг друга без слов, поэтому она в точности знала, что он имел в виду.
– Я была счастлива, Эдуард. Дело в том, что я его любила. По-моему, и он меня тоже, на свой лад. Но риск он любил еще больше. – Она замолчала, подивившись, что может говорить так спокойно. Свой брак ни с кем не обсуждала – ни когда муж был жив, ни после его смерти.
– Я знала, чем это рано или поздно закончится. Уверена, что и он знал. Мне кажется, он чуть ли не искал гибели. Его не прельщала старость, даже зрелость. Ему не хотелось проигрывать. Поэтому я считаю, что кончилось именно так, как ему хотелось. В одну секунду. Машину занесло. Она взорвалась. Это произошло у меня на глазах.
Наступило молчание. Потом Эдуард произнес:
– У тебя нет детей.
– Нет. – Ее зеленые глаза на миг затуманились. – Но вначале я хотела их завести, очень хотела. А потом поняла, что это невозможно. Несправедливо к нему. Он не мог позволить, чтобы его что-то привязывало к жизни, правда не мог. Тогда бы он перестал быть гонщиком.
– Разве ты его не привязывала?
– Отнюдь, – улыбнулась Изобел. – Не такая уж я плохая актриса. Он считал, что я люблю игру со смертью не меньше его. На самом-то деле меня выворачивало наизнанку на всех гонках. До начала и после конца. И я, конечно, всю дорогу молилась. Перед каждым его поворотом. Но он и не догадывался.
Они опять помолчали. Эдуард упорно смотрел на огонь. Наконец Изобел еще раз подняла к нему голову.
– А ты? – мягко спросила она. – Эдуард, милый, расскажи мне.
– Мне нечего рассказывать.
– Так и нечего – за восемь-то лет?
Она улыбнулась ему, огорченная, что не умеет растопить его скованность, преодолеть его внутреннюю настороженность.
– Я о тебе читала, – продолжала она, так и не дождавшись ответа. – О тебе много пишут. Ты ведь теперь очень знаменит, Эдуард.
– Все, что пишут, – заведомое вранье.
– Как жаль. Некоторые истории звучали весьма поэтично. – Она наградила его лукавой улыбкой. – Например, про подарки, что ты делаешь любовницам. Как ты подбираешь драгоценности под цвет их глаз, волос или кожи. Черный жемчуг. Сапфиры. Рубины. Но бриллианты – ни разу. – Она сделала паузу. – Я читала, ликовала и говорила себе: «Таков мой Эдуард. Чувствуется его стиль». – Она взяла его за руку. – Это правда?
– Отчасти, – сказал он и, помолчав, добавил: – Все это не имело решительно никакого значения.
– Правда? – Они встретились взглядами, и она улыбнулась.
– Правда.
Они посмотрели друг на друга, прочитали в глазах радость и понимание и разом расхохотались. Изобел ощутила, как его оставила скованность, увидела, как его взгляд из веселого внезапно сделался серьезным.
Они перестали смеяться. Эдуард наклонился, обнял ее и поцеловал. Потом отодвинулся, посмотрел ей в глаза и спросил:
– Изобел, ты за меня выйдешь?
Изобел прижалась щекой к его руке и вздохнула:
– Эдуард, милый, разумеется, выйду. Ты прекрасно знаешь, что за тем я к тебе и приехала.
И тогда Эдуард провел ее в спальню, откуда они не выходили трое суток. На четвертое утро они отправились в город, где в маленькой мэрии километрах в пятидесяти от Парижа крайне суетливый чиновник сочетал их гражданским браком. Обошлось без гостей и без репортеров.
Таким образом Изобел сперва обзавелась гладким обручальным кольцом, а уже потом – другим, с камнем, как положено при помолвке. Последнее она выбрала в парижском салоне де Шавиньи. Перебрав блюда с сапфирами, рубинами и бриллиантами, она остановилась на изумруде. Когда Эдуард надел ей на палец кольцо, она подняла на него взгляд и улыбнулась:
– Про этот камень, надеюсь, не идет дурной славы? Эдуард заключил ее в объятия.
– Решительно нет, дорогая. Он очень, очень счастливый, я тебе обещаю.
Полгода они наслаждались безоблачным счастьем. Изобел жаловалась Эдуарду, что он измучил ее любовью, прекрасно зная, что это только подхлестнет его пыл. Он оказался лучшим ее любовником в жизни – самым опытным, самым понимающим, самым нежным и самым неистовым. Он брал ее тело и вдыхал в него жизнь. Они были неразлучны. За шесть месяцев, на которые выпало немало деловых поездок, они не расставались ни на одну ночь. Все другие женщины перестали существовать для Эдуарда; он мягко порвал с Кларой Делюк, и Изобел, зная, что та значила для него больше всех остальных, попросила Эдуарда их познакомить. Он это сделал, и женщины подружились.
Разнообразие и масштабы деятельности Эдуарда произвели на Изобел огромное впечатление; вскоре она обнаружила, что может быть ему полезной. Не только как хозяйка дома – «меня только этому и учили», – однажды заметила она, скривив губы, – но и как советчица. Подобно мужу, она безошибочно «схватывала» людей с первого взгляда и сразу понимала, кому Эдуард может доверять. Но терпения и сочувствия в ней было больше, поэтому она сразу определяла и привлекала на свою сторону потенциальных помощников, которых сам Эдуард мог бы и проглядеть. Будучи англичанкой, она слабо разбиралась в достоинствах вин, предоставляя судить о том отцу. Тут она прислушивалась к Эдуарду. Но как женщина, да еще дочь своих родителей, она много знала о драгоценностях. И уж здесь, как Эдуард не преминул убедиться, она могла его поучить. Ее вкус, неизменно воздающий должное вещи, влиял на суждения Эдуарда, всегда склонного к известному пуританизму.
– Я от него в восхищении, – говорила она, подняв тяжелое ожерелье из неограненных рубинов вперемежку с изумрудами и жемчугом.
– Покорно благодарю. Вульгарно.
– Не дуйся. Чудесное ожерелье. Языческое, чуть отдает примитивом, но драгоценности и должны быть такими. Откровенно соблазнительными и немножко вызывающими. По мне, даже в бриллиантах нет никакого смысла, если они не бросаются в глаза.
Именно Изобел отыскала для Эдуарда гениального художника-ювелира, случайно преуспев там, где терпеливые многолетние поиски его «охотников за головами» ни к чему не привели.
В старшем классе она подружилась с Марией, девушкой из богатой венгерской семьи; потом Мария эмигрировала в Париж в 1956 году, после советского вторжения. Денег она не захватила, но вывезла кое-какие драгоценности. Изобел помогла подруге обосноваться в Париже и найти работу. Однажды Мария спросила Изобел, не захотят ли де Шавиньи приобрести ее украшения.
– Мне они теперь без надобности, – улыбнулась Мария. – Не понимаю, как я их раньше любила. А вот деньги придутся очень кстати.
Она разложила украшения на постели в маленьком atelier[25]25
астерская, ателье (фр.)
[Закрыть], которое снимала. Изобел бросила один взгляд – и позвонила Эдуарду.
Их сделал для Марии польский эмигрант Флориан Выспянский, который осел в Будапеште после войны и которому не так давно исполнилось тридцать лет. Он большой искусник, объяснила Мария, они с матерью любят его работы, но он не очень преуспевает – у него всего лишь маленькая ювелирная мастерская. Поляку в Будапеште приходится трудно.
Подойдя к выходящему на север окну, Эдуард в скудном свете осмотрел украшения одно за другим, сперва на глазок, потом вооружившись лупой. Изобел затаила дыхание.
Он не поверил собственным глазам: несовершенные камни, это ясно, с пороками, некоторые не чистой воды, но огранены и оправлены с такими мастерством и выдумкой, что недостатков не видно. Ослепительное искусство. Одно из оригинальнейших и прекраснейших художественно-ювелирных решений за последние тридцать лет.
Ему казалось, что он может проследить влияния – ювелир не просто талантлив, но еще и учился. Одно ожерелье – плоское, по-византийски роскошное – было явно подсказано неоклассическим стилем Фортунато Кастеллани и его ученика Джулиано, того самого, которого прадед Эдуарда однажды безуспешно попытался переманить к себе в Лондон. Обращение к эмали, потрясающее чувство цвета – все и вправду указывало на Джулиано, хотя у поляка и замысел, и рисунок был изящней и легче. Мария сказала, что это ожерелье из ранних работ Выспянского. Потом он отошел от классических форм, заинтересовавшись арабской школой ювелирного искусства, сообщила Мария, особенно искусством низать камни так изящно и естественно, что ожерелье составляло единое целое с тем, кто его носит. Вот это, сказала Мария, взяв ожерелье, – последнее, что она у него купила. По ее мнению, здесь сказались арабские веяния.
Эдуард благоговейно принял от нее ожерелье – лучшее из всего, что Мария сумела вывезти, работу подлинного мастера. Тонкий золотой обруч, украшенный жемчугом и бриллиантами, причем бриллианты были огранены под цветы, а жемчужины свисали с их лепестков как капли росы. На рубеже веков Александр Риза создавал нечто подобное, но ему было далеко до столь хрупкого изящества.
Эдуард окинул взглядом весь набор. Больше всего его восхищало, что все эти вещицы, столь разные и выдающие неукротимую тягу их создателя к художественному эксперименту, были отмечены авторством одного человека – Выспянского. Все они несли безошибочную печать гения, и всякому, кто хоть немного понимал в ювелирном искусстве, это сразу бросалось в глаза. Поглядев на них, Эдуард в ту же минуту понял – он нашел то, что так долго искал. Он медленно обернулся.
– Ну как? – Голос Изобел дрожал от возбуждения.
– Да. То самое.
В наступившем молчании Изобел и Мария переглянулись.
– Тут одна закавыка, – наконец выдавила Изобел. – Выспянский пока что в Венгрии. Вместе с семьей. Он бы хотел выехать, но его него не пускают. – Это несложно. Я его вызволю. Мария вздохнула: она не очень хорошо представляла возможности Эдуарда.
– Увы, не получится. Два года назад – да. Всего лишь год – допускаю. Но теперь Советы все зажали. Тут ничего не поделаешь. – У меня получится.
Через неделю он вылетел с Изобел в Москву. Еще через месяц молодая жена некоего заслуженного члена Политбюро ошеломила свой круг, явившись в ожерелье, серьгах и браслетах истинно царского великолепия. Поляк Флориан Выспянский, его жена и маленькая дочь получили визы на выезд из Венгрии.
– Подкуп должностных лиц, – ядовито заметила Изобел, кутаясь в соболя, когда они поднимались по трапу в личный самолет Эдуарда, возвращаясь в Париж. Эдуард обиделся.
– Сначала я пытался уговорить. Взывал к разуму. Предлагал торговые выгоды. Подкуп должностного лица был крайним средством.
– Ты прибегал к нему раньше? – спросила она с любопытством.
– Разумеется, когда другого выхода не было. – Эдуард нахмурился. – Этот метод из тех, что я больше всего ненавижу. Противно убеждаться, что каждого, почти каждого, можно купить.
Прошел месяц. Выспянский с семьей должен был прибыть в Париж через неделю. Изобел размышляла об этом, прогуливаясь в парке Сен-Клу под осенним солнцем. Она обняла себя, чтобы унять тайную радость.
Она только что вернулась из Парижа от своего врача. Тот наконец подтвердил то, во что она верила и о чем шилась последние полтора месяца, – у нее будет ребенок.
Ребенок – и художник-ювелир, которого так долго искал Эдуард. Одно и другое разом. Изобел пританцовывала от великого счастья.
«Теперь, – думала она, – Эдуард получит то, чего ему отчаянно не хватало и что я хочу ему дать. Ребенка. Наследника. Семью». И этот мрак, эта грусть, которую она по-прежнему улавливала порой в его взгляде, навсегда исчезнут.
Внезапно ее охватило бурное ликование, она вскинула руки, ловя ладонями солнечное тепло. Солнце отливало на палой листве, в гладком рыжем золоте ее волос. Она обратила к нему лицо и безмолвно, бессвязно, не зная, к какому божеству взывает, возблагодарила богов, что были к ней так милостивы, и мужа, которого так любила. «Сегодня, – думала она, – нынче вечером, когда он вернется, я выбегу ему навстречу и первым делом все расскажу».
Но и через день Эдуард все еще не знал о ребенке.
Изобел услыхала, как его автомобиль прошелестел шинами по гравию. Она быстро обогнула дом и выбежала к парадному, как собиралась. Шофер уже отъезжал в «Роллс-Ройсе», Эдуард широким шагом шел к дому. Изобел только раз на него поглядела – и прикусила язык. Они прошли в малую гостиную, которой всегда пользовались, когда бывали одни. Эдуард поцеловал ее, но как-то рассеянно, и принялся расхаживать по комнате. Он налил себе выпить, Изобел отказалась и стояла, не сводя с него глаз, понимая, что случилась беда. Ей хотелось заговорить, выпалить радостную новость, но она знала, что следует подождать.
Наконец он присел и устало провел ладонью по лбу.
– Прости, дорогая. Я думал, ты читала газеты или слушала радио. Но теперь вижу, что ошибался, верно?
– Верно. Я ездила в Париж… на примерку. – Изобел подумала и села. – Потом… потом гуляла в парке…
– Я его предупреждал. – Эдуард сердито поставил стакан. – Говорил Жан-Полю, что так и будет, почти два года назад говорил. Я знал, что этого не избежать. – Он сделал паузу. – Фронт национального освобождения взорвал вторую по величине жандармерию в Алжире. Тринадцать человек погибли на месте, еще двоих застрелили снайперы. Пятнадцать человек – за один день! Не говоря о девяти полицейских-французах, убитых за последний месяц. Воздаяние, как они объясняют, за полицейские налеты на Касбу. – Он безнадежно пожал плечами. – Вечером у меня состоялся короткий разговор по телефону с Мендес-Франсом[26]26
Премьер-министр Франции в 1954 – 1955 гг.
[Закрыть]. Будет еще хуже, Изобел, много хуже.
– Но там же французские войска, Эдуард… – Она запнулась. – Разве они не положат этому конец? Конец террору?
– Дорогая моя, это не террор, это революция. Если б ты побывала там, посмотрела страну, тебе бы стало понятно. ФНО не успокоится до тех пор, пока не выставит вон всех французов, до последнего colon[27]27
Колонист (фр.)
[Закрыть].
– Но это же французская колония…
– Это арабская страна. – Он в сердцах встал. – Эпоха колониального владычества завершилась. Кончилась. До Жан-Поля эта истина не доходит и никогда не дойдет. Он убежден, что французы не допустили и малейшей ошибки. Они построили шоссе и мосты, проложили железные дороги. Возвели дома. Отели. Заводы. Создали гражданские службы и обучили арабов работать как французские чиновники. Жан-Поль считает, что французы принесли в нищую страну процветание, и будет так считать, поскольку осторожен и ни ногой за пределы европейского города. Поэтому он не видит бедности, не знает запаха нищеты. Ты не догадываешься, почему алжирские поместья Жан-Поля так процветают? Почему приносят доход, которым он любит похваляться? Потому что он платит своим рабочим-алжирцам жалкие гроши, вот почему. Они зарабатывают за год столько, сколько рабочий-француз получает в месяц. И все равно им живется лучше, чем другим арабам, которые не трудятся на французов. Так что он может выколачивать прибыли и в то же время чувствовать себя благодетелем. Изобел, когда я в первый раз побывал в Алжире, он мне очень понравился. Но бедность – и отношения, нетерпимость. Я все это возненавидел. И с каждой поездкой ненавидел все больше. А уж когда полюбовался на Жан-Поля, мне стало стыдно. Стыдно родного брата.
Изобел молча слушала. Она редко слышала, чтобы он говорил с подобной горячностью, а таким рассерженным она его ни разу не видела.
– Полтора года назад, – он опять повернулся к ней, – в 1956 году, когда стало ясно, что произойдет, Жан-Поль явился ко мне с предложением, чтобы компания вложила деньги в приобретение там новых поместий. Виноградников, оливковых плантаций. Купила земли у его приятеля, который решил поскорее удрать с тонущего корабля. Я тогда отказал Жан-Полю, и, представь, он и по сей день не может понять почему. – Эдуард сделал паузу и заговорил уже спокойнее: – Я сослался на финансовые причины. На деловые соображения. Их вполне хватало, и в конце концов он со мной согласился. Мы говорили о прибылях и убытках. Но отказал я ему совсем не поэтому. Истинная причина заключалась в том, что я не хотел иметь никаких связей с этой страной, пока она пребывает в нынешнем своем состоянии, и, когда б не Жан-Поль, я бы уже несколько лет как свернул там все наши дела. Изобел улыбнулась.
– А Жан-Поль бывает упрямым как мул; ты и сам прекрасно знаешь – выложи ты все, что думал, он бы заартачился и уперся на своем. – Она вздохнула. – Ты, Эдуард, умеешь быть жутко хитрым.
– Возможно. – Эдуард подумал и посмотрел на нее: – Ты считаешь, я поступил неправильно?
– Не знаю, – тихо ответила Изобел и отвела взгляд. Наступило напряженное молчание. Эдуард подумал о семействе Изобел, ее дедах, дядюшках, двоюродных братьях, которые поддерживали империю и правили ею, сражались и властвовали в Индии и Африке. Ему представлялось маловероятным, чтобы она поняла его доводы. На какой-то миг он почувствовал отчужденность и сожаление, которое тут же прошло. Изобел же, опустив голову, подумала: «Не могу рассказать ему про ребенка; сейчас не могу». Она ощутила, как он отдалился, и медленно подняла глаза.
– Эдуард, ты намерен туда отправиться?
Его тронули ее сообразительность и самоотверженность. Забыв о сожалениях, он присел перед ней на корточки и ласково взял ее руки в свои.
– Придется, милая. Я пытался дозвониться до Жан-Поля – безрезультатно. Придется отправиться самому. Нужно уговорить его возвратиться во Францию.
– И удрать из Алжира? – Изобел от удивления широко раскрыла глаза. На какой-то миг ей даже стало противно. В ее семье мужчины никогда не увиливали от своих обязательств в колониях. Ей на память пришли многочисленные замечания отца по этому поводу, его возмущение, когда Индии была наконец дана независимость. Но она решительно выбросила политику из головы – в этом ей не хотелось перечить Эдуарду. Она вздохнула и сказала, тщательно выбирая слова:
– Но он ведь ни за что не согласится, Эдуард, разве не ясно? Ты сам рассказывал, как ему там нравится. После увольнения из армии у него столько всего связано с Алжиром. Он никогда не бросит виноградники, свою землю…
– Недолго ему ею владеть, уедет он или останется, – произнес Эдуард как отрезал. Он поднялся и прошелся по комнате. – Неплохо бы ему сейчас это понять. Пройдет два года, может, больше, даже пять, хотя я в этом сомневаюсь, и французы уберутся из страны. В отношении Жан-Поля ты, вероятно, права. Но я обязан попытаться. В Алжире любому французу грозит опасность, особенно такому, как Жан-Поль… – Он внезапно умолк, лицо его скривилось от отвращения; он допил налитое, пожал плечами и вернулся к разговору: – Итак, попробую его уговорить. Не более. Он мой брат, Изобел внимательно за ним наблюдала. Ей хотелось знать, что означает короткая резкая фраза про брата, но она понимала – не стоит об этом спрашивать.
– Когда летишь? – спокойно осведомилась она.
– Завтра.
– Я полечу с тобой.
– Нет, милая. – Он повернулся к ней, помягчев лицом. – На сей раз нет. Предпочту, чтобы ты оставалась здесь.
Изобел встала.
– Раз летишь ты, лечу и я, – твердо сказала она. – Если для меня это слишком опасно, то и для тебя тоже. Но ты ведь так не считаешь?
– Конечно, нет, но…
– Вот и полетим вместе. – И она наградила его своей самой обезоруживающей улыбкой. – Ты прекрасно знаешь, что не сможешь мне противиться, так лучше сразу уступи достойно.
– В самом деле?
Он усмехнулся ее вызову, но не успел возразить – она побежала к нему.
– Эдуард, милый, я лечу. Не нужно нелепых пререканий. Лучше поцелуй меня. Если хочешь, можем поспорить потом.
Изобел его обняла. Эдуард сопротивлялся целых полминуты, затем тяжело вздохнул и поцеловал ее.
Потом они действительно спорили, но Изобел настояла на своем. Наутро они вместе отправились в аэропорт. Он по-прежнему не знал о ребенке.
Жан-Поль откинулся на спину, не отводя взгляда от голого юноши, который умащивал его телеса. У парня были длинные гибкие пальцы, и кто бы догадался, что в этих тонких руках такая сила. Они работали над телом Жан-Поля, умело разминая мышцы, разглаживая вялую кожу, проникая в чувствительные складки и укромные уголки. Вниз по животу до чресел, назад к груди, выщупывая каждое ребрышко под слоем дряблых мышц и жира.








