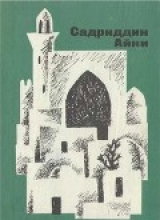
Текст книги "Бухарские палачи"
Автор книги: Садриддин Айни
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
– Как бы там ни было, а в ту пору я и помыслить не смел иначе. И потому, оказавшись на свободе, сразу же дунул к пирзода, в обитель Боло-хауз, где он состоял шейхом и наставником. Было время вечернего намаза. Совершив омовение, я переступил порог мечети. Огляделся, мой шейх – у мехраба[24]24
Мехраб – пиша в мечети, указывающая сторону молитвенного обращения мусульман во время богослужения – к Мекке.
[Закрыть]. Муэдзин поднялся на минарет и призвал мусульман к молитве. Пирзода оставался в мехрабе; толпа, заполнившая мечеть, выстроилась рядами за его спиной, и я туда же, как ревностный мусульманин... Казалось, молитве пирзода конца не будет, честно говоря, мне даже стало скучновато.
– Ты же не учился ни в школе, ни в медресе, откуда ж ты знаешь суры[25]25
Сура – глава Корана.
[Закрыть] Корана? – спросил Хамра-Силач у Маджида.
– А я действовал по примеру степняков. Слыхали, они о себе рассказывают: «Мулла бубнит «пичир-пичир», и мы за ним повторяем «пичир-пичир». Я стоял среди молящихся и проделывал все, что они, – сознался Маджид. – Дальше было так. Шейх уселся спиной к мехрабу, все остальные – вокруг него. Шейх читал Коран, опять молился, я чуть терпение не потерял... Но всему приходит конец. Один за другим правоверные стали покидать мечеть. А пирзода все возносит и возносит хвалу аллаху. Но вот и он поднялся и направился к выходу; я мигом вскочил с места, подал ему обувь, жду, склонив голову и скромненько сложив руки на груди. В ладони сжимаю завернутое в бумажку подношение – семь теньга.
Пирзода величаво переступил порог и влезая в кавуши, благосклонно взглянул на меня. Я пробормотал: «Салом». «Ваалейкум ассалом», – ответствовал он и протянул мне руки. Я почтительно прикоснулся к ним губами. В этот самый момент я и сунул ему свой дар.
Шейх вымолвил: «Хай, хай, бог примет!» – и давай читать за меня молитвы, а затем: «Не пропускайте намазы и вы достигнете желаемого!»
На этом мы и расстались.
– Ничего неблаговидного в поступках пирзода, по-моему, нет, – отметил Кодир-Козел.
– Уж очень ты шустрый! – ответил ему Маджид. – Слушай дальше. Однажды я нес караул у ворот Арка. Эмира в Бухаре не было, он кейфовал в Ялте. Прошение у народа принимали вместе кушбеги и кази-калон. Часов в десять утра к Арку приблизилась кучка сильно взбудораженных людей. Они толкали и пинали человека, на голову которого был наброшен халат; видно, они уже изрядно намяли ему бока.
– Всех их в Арк не пускать, привести виновного, истца и четырех свидетелей, – скомандовал страже кази-калон.
Мы в точности исполнили приказ. Обвиняемый, голова которого была закрыта халатом, засеменил к кази-калону, лепеча:
– Спаси аллах, спаси аллах! Неслыханная клевета, страшный поклеп!
Кази-калон допросил истца.
– Таксир, этого человека я поймал в собственном доме, – поведал тот. – Он проник туда, чтобы обесчестить мою жену. Я решил доставить нечестивца сюда, к вратам благословенного Арка. Со мной – староста нашего квартала и соседи; они были очевидцами. Смиренно уповаю на вас и шариат.
– Открыть ему лицо! – распорядился кази-калон. – Кто этот нечестивец?
– Я подошел к греховоднику и снял с его головы халат. Кого же я увидел! Того самого духовного наставника и святого шейха из обители Боло-хауз! Да, да! Самого высокопочитаемого мною пирзода!
– Ах, молодец, Маджид! – крякнул от удовольствия Хайдарча.
– Ну и ну пирзода, ну и праведник! – добавил Рузи-Помешанный, и все палачи захлопали в ладоши.
– Тише, – поостерег их Маджид, – подслушают и донесут на нас: «Они, мол, из джадидов», и нас тоже вздернут на виселицу.
– Не робей, парень, не родился человек, который посмел бы пикнуть против нас. Настало время палачей, никто не поднимет на нас руку.
– Да, если можно было бы разделаться с палачами, эмира укокошили бы первым, – не преминул вставить Рузи-Помешанный.
– Кази-калон, – продолжал Маджид, – прорычал: «Чтоб тебе околеть! Чтоб тебе сгинуть!» Потом отпустил истца и свидетелей: – Идите с миром. Мы покараем этого мерзавца, сообразуясь с законами благородного шариата.
Когда же они ушли, кази-калон стал нашептывать кушбеги:
– Если мы накажем его строго в соответствии с прогрешением{9}, позор падет на всех мулл и шейхов. Не ограничиться ли нам назиданием?
– Шариат в ваших руках, – согласился кушбеги. Кази-колон сделал знак, и стража подвела пирзода.
– Мы не желаем из-за тебя позорить служителей великого и всемогущего аллаха. А не то отдали бы тебя на избиение камнями! Убирайся! В будущем твори, предвидя последствия.
– Оговор, таксир, клевета! – запричитал было пирзода. К нему подскочил есаул и погнал прочь, приговаривая: «Кайся! Молись за эмира!»
Пирзода завел-затянул молитву во славу и процветание его величества, затем, как ни в чем не бывало, поправил одежду, чалму и спустился к Регистану.
– Существует ли на свете этот твой пирзода? – усомнился Кодир-Козел.
– Существует, и похождения его на этом не кончаются.
– Раз так, мы рады! – сказал Хамра-Силач.
– Как-то я приехал в Каган развлечься. Прохаживаюсь по улицам и вдруг – гвалт на привокзальной площади. Смотрю – из вагона высаживают арестанта, по бокам – стража с русскими ружьями. Я признал... в арестанте обожаемого своего святого отца – пирзода! Мне не терпелось пронюхать, что он натворил на этот раз, но стража и близко меня к нему не подпустила. Я поневоле потащился в хвосте длиннющей процессии зевак... Исчез мой пирзода в приемной туксаба – военного начальника Кагана, а меня и других любопытных, само собой, прогнали.
Назавтра я – к приятелю, а он служил у туксабы; и так и эдак стал выпытывать у него, почему схватили пирзода.
– Что же он выкинул? – спросил Хамра-Силач.
– На станции Фараб завернул пирзода, куда бы вы думали? В притон, да к тому же неузаконенный властями. Его содержала тайно какая-то частница без патента. Полиция застукала пирзода там и составила на него протокол. Ни в жизнь не догадаетесь, что там понаписали! Содержательнице притона тоже досталось, а как же иначе, ведь «она, не имея на то официального разрешения, открыла прибыльное заведение». В общем, их обоих отвели к начальнику полиции. Тот припаял хозяйке семь суток ареста; грешника же, как подданного Бухары, отослал под стражей к туксабе Кагана – пусть-де он принимает меры по собственному усмотрению.
– А его «высокородие» туксаба? – последовал вопрос Курбана-Безумца.
– Туксаба запросил по телефону указаний от кушбеги; тот в свою очередь посоветовался с кази-калоном, и они, посовещавшись, опять простили любвеобильного пирзода.
– Шахиду помог мюрид[26]26
Мюрид – послужник, ученик, последователь духовного наставника.
[Закрыть], – вставил Хамра-Силач и все дружно засмеялись.
– Услуга за услугу. В день Страшного суда шахид пирзода избавит мюрида кушбеги от адского огня, – заметил под общий хохот Рузи-Помешанный.
– Самое забавное – впереди, – объявил Маджид, когда все угомонились. – Очутился я как-то в Кагане проездом из Чарджуя. К последнему поезду на Бухару я опоздал, а добираться на фаэтоне слишком дорогое удовольствие. Поразмыслил я и решил: не беда, переночую в Кагане, а завтра – на самый ранний поезд и в Бухару. Я зашел в чайхану Шарифа, болтаем мы с ним о том, о сем, балуемся чаем. Внезапно какой-то человек мимо нас – шмыг! На голове – громоздкая голубая чалма, слева свободно свисает конец – как это принято у афганцев; этим самым концом он прикрывает лицо. В общем, и гадать не надо: человек хочет остаться неузнанным. Под мышкой у него что-то вроде объемистой торбы. Я смекнул сразу – жулик, только что стянул добычу, и покрался следом...
– Вор собрался жулика ограбить, – улыбнулся Рузи-Помешанный.
– Точно! И будь все, как я думал, мешок достался бы мне и никому другому, – ответил Маджид. – Неизвестный, вижу, ходко-ходко устремляется к дому греха и – нырь в дверь. И хоть весь я, кажется, обратился в зрение, я так и не разглядел его лица.
На цыпочках подобрался я к окошку. А за ним – просторная зала в тусклом свете, столы, загроможденные бутылками водки и пива, за столом пьяные мужчины.
Около них хлопочут женщины, потрепанные, увядшие, размалеванные; женщины наливают разные напитки в стаканы и рюмки и подносят их клиентам, уже сильно захмелевшим. Когда бутылки опорожнялись, женщины запихивали их под столы, в ящики, тут же вынимали непочатые.
Посетители то один, то другой поднимались и куда-то исчезали; уединялись со своими подружками...
На сцене расположились музыканты и певцы, все пьяные – ни складу, ни ладу – тянули: «Лублу, лублу тебя Махмаджон, лублу Махмаджон».
Понаблюдал я за этим разгулом, плюнул и зашагал обратно в чайхану.
Рано поутру я был уже на вокзале. На ловца и зверь бежит; в привокзальном садике обнаруживаю любителя ночных прогулок! Признал я его по мешку, уж очень приметный был мешок!
«Вот ты и попался мне, голубчик!» – с этой мыслью я поспешил к незнакомцу. А передо мной – все тот же пирзода! Он старательно вынимал из мешка посох, четки, белый халат из чертовой кожи, молитвенный коврик. Потом с благочестивым достоинством – проклятый ханжа! – разостлал его на земле и приготовился было обратить свой поганый лик к Мекке, как заметил меня.
И засуетился, и стал рассыпаться:
– А, братец! И вы, оказывается, в этих краях? Сегодня ночью, после поклонения святой гробнице Сахиджона, я приехал из Чарджуя, опоздал к поезду и заночевал здесь.
Очень уж хотелось мне вывести его на чистую воду и с языка у меня сорвалось:
– Таксир! Неужели я обознался? Мне показалось, что я видел вас вчера в полдень в мечети Худжадавлат?
– Да, да, вы не ошиблись! Я покинул Бухару, совершив, как и подобает мусульманину, положенные намазы; да, да, я потом прибыл в Чарджуй. На обратном пути задержался, опоздал к поезду и провел здесь ночь... – пирзода нагромождал одну ложь на другую.
– Таксир, – остановил я это лживое словоизвержение, – я, очевидно, перепутал все на свете, – и повернулся к нему спиной.
– Погодите! Куда же вы? За билетом? Купите и мне! – он начал рыться в кармане, выгреб оттуда мелочь, высыпал мне ее на ладонь и не преминул ввернуть: «Я помолюсь, покуда вы вернетесь».
Он, видимо, ждал, что я буду скромничать: «Не обижайте, таксир, у меня хватит денег и на ваш билет!» Но я прикинулся дурачком.
Когда я принес билет, пирзода, и точно, молился. Потом он водрузил на башку свою огромную чалму. Обрядился в халат из чертовой кожи, ухватил пальцами четки – и они, как обычно, будто полились к земле из рукава. Вот и молитвенный коврик перекинут уже через плечо, и губы беззвучно шевелятся в молитве – перед вами благочестивый, добропорядочный пирзода.
Я сунул ему билет и, не дожидаясь, пока он закончит благодарственную молитву за меня, поспешил от него отделаться.
«Господи, – думал я, – убереги меня впредь от встречи с этой отвратительной рожей!»
– Твой пирзода набрался уму-разуму и неплохо усвоил уроки, – сказал Курбан-Безумец.
– Какие же?
– Сначала он заворачивал в тайные притоны и осрамился. А потом внял назиданиям полиции, они ж наставляли его: «Нечего шляться по неофициальным заведениям», и стал посещать узаконенные, дозволенные свыше.
– Ты прав, приятель, – поддержал Безумца Маджид. – Ака-Махсум тоже уверял меня, что пирзода заметно поумнел.
Возвратились арбы и беседа палачей опять прервалась...
Умей хранить тайны!
(Продолжение главы «Пирзода»)
Разделавшись с погрузкой, палачи собрались в кружок.
Хамра-Силач попросил Маджида:
– Поведай-ка нам теперь рассказ Ака-Махсума.
– Так и быть, слушайте, – не заставил себя упрашивать Маджид. – Есть у меня приятель Ака-Махсум; его отец, дед, прадед были высокопоставленными муллами. Вся Бухара знала Ака-Махсума. Молодость он провел в разных медресе и, стало быть, повеселился – кутил, гулял, буянил. Короче, жил, как и полагается в святых обителях. Потом он неожиданно ушел из медресе, отрекся от духовного сана и с той поры непрестанно задирается, цепляется к муллам и эмирским чиновникам, ругает их последними словами. В общем, «воюет» во всю со знатными шейхами благородной Бухары. Ака-Махсум не раз ругался с миршабом. Но, будучи смекалистым и изворотливым парнем, частенько сажал миршаба в лужу, вынуждал признавать поражение в споре и не давал ему повода отыграться, отомстить.
– Ты, кажется, собирался вести речь о пирзода, причем тут Ака-Махсум? – прервал Маджида Хамра-Силач.
– Я рассказал вам об Ака-Махсуме неспроста: вы теперь лучше оцените историю, что я услышал от него, – объяснил Маджид. – Вот она, история Ака-Махсума.
– Случилось это в месяц Рамазан. Пошли мы как– то с приятелем прогуляться к Ляби-хаузу. Там повстречали племянника кази-калона и пригласили парня в медресе бухарских суфиев, где мой дружок снимал хиджру. В медресе – тихо, ни души: все, кто постился, едва очухавшись от сна, перекочевали на площадь Девон-беги, Ляби-хаузу. Мы раздули угли в сандале и приготовили кебаб на вертеле. У нас было припасено домашнее двухлетнее вино. Рамазан есть Рамазан, положено поститься, ну а мы в честь гостя решили учинить пост на собственный лад. Выдержанное вино подействовало на нас – ведь мы были голодны – как пламя. Племянник кази-калона, хоть и сопляк совсем, а пил с нами наравне, показывал свою лихость и вскоре окосел.
Честно говоря, я и сам не заметил, как опьянел и уснул. А когда очнулся – в келье темно. Засветил лампу, время приближалось к полуночи; начал трясти, будить собутыльников. Махсумджон – племянник кази-калона – как ни старался, не мог скрыть дрожи: боялся дядю. Он, видимо, сообразил, что дядя станет допекать его расспросами: «Где был, почему в такой поздний час тебя не оказалось дома?»
Поняв его опасения и страхи, я решил как-то успокоить парня: «Вот что, – сказал я, – оставайтесь-ка вы здесь, а я выйду и разузнаю, что там и как».
На улице я повстречал приятеля и спросил его, что нового в городе. Он ответил:
– Днем вроде все было спокойно. А вот вечером разнесся слух, будто пропал племянник кази-калона. И хоть слуги обшарили все углы и закоулки, и следа парня пока не нашли, он как в воду канул.
Распрощавшись с ним, я завернул к закадычным своим дружкам – тамбуристу и певцу – и потащил их за собой. Мы скопом ввалились в келью.
Я поделился новостями:
– Ничего существенного, пустяки! Самая пора повеселиться!..
Ночная наша пирушка, украшенная звуками тамбура и песен, удалась на славу, лучше даже, чем дневная.
Мы закончили пировать к рассвету, когда соблюдавшие пост мусульмане, основательно заправившись до восхода солнца, крепко-крепко дрыхали{10}.
Провожая тамбуриста и певца, я предупредил их:
– Держите язык за зубами!
– Можешь не сомневаться.
С этим они и ушли.
Теперь следовало заняться Махсумджоном, то есть доставить его домой. Он был мертвецки пьян, ноги его не держали. Строго-настрого наказав Махсумджону не болтать и хранить все в секрете, я взвалил его на спину. В городе было пустынно, но чтобы избежать нежелательных встреч, я долго кружил по переулкам и закоулкам и наконец уложил парня у порога его дома.
Еще раз наказав ему помалкивать и не выдавать нас, я вернулся в медресе. Мой приятель плакал горючими слезами:
– Чего ты ревешь? – спросил я его.
– Мы обязательно попадемся. Кази-калон не пожелает позориться сам и срамить племянника, но отыграется на нас! Он найдет способ расквитаться с нами! Тюрьма или ссылка нам обеспечены...
– Ты злоупотребляешь гашишом и стал чересчур боязливым, – разозлился я. – Все обойдется, не трясись ты! У меня хватит мозгов вывернуться из любого положения. Хватит хныкать, за дело! Достань-ка халат, тот, парадный, из банораса[27]27
Банорас – название плотной шелковой материи серебристого цвета с черными тонкими полосками.
[Закрыть]!
Он утер слезы, полез в мешок и положил передо мной парчовый, ни разу ненадеванный халат. Я свернул его и припрятал за пазуху. Затушив свет, мы потихоньку выбрались из кельи, заперли ее, а деревянный ключ я засунул в чалму.
Когда мы крались через внутренний двор медресе, я заметил муэдзина. Он совершал омовение перед тем, как прокричать призыв к утренней молитве. Я вложил ему в руку пару тенег и сказал:
– С двадцатого Рамазана мы блюдем пост в святой обители Бозори Ресмон. Понятно? Если кто о нас справится, так и говори.
– Понятно. Двадцатого я самолично проводил вас в мечеть Бозори Ресмон, помогал нести постели.
– Вот и молодец! – похвалил я смышленого нашего «помощника».
Потом заскочил домой и предупредил:
– Для каждого, кто будет интересоваться нами, мы с двадцатого Рамазана в мечети Бозори Ресмон.
Итак, двадцать седьмого мы мерили ногами дорогу, ведущую к святой обители. В мечети – тишина и покой. Лишь время от времени из разделенных занавесками конурок для отшельников прорывался храп; нажравшиеся до отвала мюриды и халифы[28]28
Халифа – должностной чин в Бухаре, следивший за выполнением предписаний шариата.
[Закрыть] спали беспробудным сном.
Миновав отсек за отсеком, мы приблизились к мехрабу, к обычному месту настоятеля мечети. Отодвинув занавес, заглянули внутрь. Наши шаги разбудили шейха.
Мы обменялись положенными приветствиями, и он жестом пригласил нас сесть.
Мы давненько знали настоятеля... и кое-что о нем самом, это был о-очень известный в Бухаре шейх. Я развернул парчовый халат и сказал:
– Таксир! Не разглашайте тайну!
Он взял халат, с тщением рассмотрел и ощупал его.
– Вещь отменно хороша, да примет ее господь! – и положил халат поближе к себе. – Да покроет аллах все наши тайны. Что нужно от меня?
– Мы – ревностные отшельники – находимся в вашей достославной обители с двадцатого Рамазана...
– Условились!
Шейх отвел нам место поближе к мехрабу.
Через двое суток наш десятидневный пост закончился. Шейх одарил нас, наравне с мюридами и халифами, ситцевыми халатами и тюбетейками, благословил и, прощаясь, шепнул:
– Тут были люди от кази-калона, справлялись о вас, я ответил, как мы уславливались...
Под предлогом, что мы желаем отчитаться в богоугодных наших деяниях, в тот же вечер мы отправились разговляться к хозяину шариата – кази-калону. Мехмонхона[29]29
Мехмонхона – комната для гостей.
[Закрыть] заполнена была людьми; сюда явились шейхи и халифы, в отшельничестве, самозабвенно соблюдавшие пост. И уж, понятно без лишних слов, духовный пастырь Бозори Ресмона украшал своей персоной самое почетное место.
Кази-калон, – вот чудеса, благосклонно указал нам занять места, куда более почетные, чем причитались нам по рангу и возрасту. Мы смиреннейше поблагодарили и сели. Кази-калон обратился ко мне:
– Да, да, это похвально, очень похвально! Мудрецы учат: «Покаяние в молодости – равно деянию пророка». Нам было приятно услышать, что вы провели в отшельничестве десять дней.
Я скрестил руки на груди и низким, почтительным поклоном выразил кази-калону признательность за похвалу. Он продолжал:
– Распространяли слухи, что вы человек легкомысленный, приписывали дела, недостойные духовного мужа... Благодарение богу, вы уже в молодые лета ведете праведный образ жизни, тешите души умерших предков, да и рот затыкаете всяким сплетникам и недоброжелателям.
Казалось, милости хозяина шариата нет предела; я поднялся и еще раз почтительнейше склонился перед кази-калоном. А потом, едва заметно подмигнув его племяннику, коснулся пальцами ключа: он по-прежнему торчал в чалме. Махсумджон не отрывал от меня глаз.
Жест мой был красноречивым: «Все в порядке, кази-калон ни о чем не догадывается! Сегодня же приходи в келью, ключ от которой я тебе показал, мы устроим выпивку еще похлеще».
Он ответил мне взглядом: «Обязательно приду».
***
Летом я оказался в Самарканде, – продолжал Ака-Махсум свою исповедь. – Самаркандские дружки повезли меня в Мавлонобод. В это местечко устремлялось всегда множество народа и знаете почему? Из-за местных и европейских потаскух. Местечко это имеет свою историю, вот она.
Правительство царя Николая намеревалось выделить по всей империи земельные участки, помещения «в пользу безработных, нуждающихся женщин». Вроде бы для того, чтобы пристроить их, занять делом. Ловко придумано, а?
В Самарканде ни один квартал, ни один кишлак окрест не пожелали отказать под это самое пакостное «дело» и клочка земли. Однако нашелся в Самарканде шибко набожный мусульманин Мавлонбой и «в целях оказания поддержки» бедным, обездоленным, нищим женщинам купил земельный участок. Запущенный, захламленный, непригодный для посевов. И понастроил там злачных заведений. Во славу этого добродетели и благоустроителя люди и нарекли местечко «Мавлонобод», так что бай теперь может спать спокойно – имя его увековечено.
– Лучше назвать «Николайобод»: увековечиваешь царское имя и указываешь истинного благодетеля, – прервал Маджида Рузи-Помешанный.
– Э, таких памятников царь столько оставил... и в Симе, и в Ташкенте, да и в других городах, – что и не счесть! Не беда, что несколько местечек наречено в честь мусульман-баев, – возразил Хамра-Силач Рузи-Помешанному.
Маджид поддержал Хамра-Силача и стал излагать далее рассказ Ака-Махсума.
– Заведения в Мавлонободе были двух типов. Содержатели одних подбирали молоденьких красоток, которые умели и петь, и танцевать. Посетители заказывали там – по вкусу – чай или вино, услаждали слух звуками дутара, тамбура, песен, любовались танцами. Провести же ночь с красоткой – было по карману лишь толстосумам.
Другие хозяева владели товаром похуже: женщины там были не первой свежести, далеко не райские пери, чахлые какие-то, в общем, в самый раз для солдат да людей с тощими кошельками.
Мы с дружками решили повеселиться на славу и сначала посетили заведение высшего разряда. Расположились на расписной балахоне[30]30
Балахона – балкон.
[Закрыть], прохладно и наблюдать удобно за всем, что происходит на улице. Кейфуем в полное удовольствие, потягиваем пиво и вино, а дутар и тамбур так и бередят душу...
Вскоре я опьянел, голова закружилась, затуманилась. Но уж очень я люблю глазеть по сторонам – всегда что-нибудь да увидишь интересненькое! Так и тогда, окосеть-то я окосел, а на улицу посматривал. И не напрасно! Я приметил на противоположной стороне, там, где лепились один к другому невзрачные дома – дешевые притоны, странного человека. Под мышкой – объемистый мешок, на голове – громадная голубая чалма, ее свободным, длинным концом он закрывал лицо...
– Совсем, как твой любимчик пирзода, помнишь, Маджид? – фыркнул Курбан-Безумец.
– Точь-в-точь, – согласился Маджид. – Но вернемся к Ака-Махсуму. Этот странный человек, – рассказывал он мне, – нырял из одного злачного места в другое, пробыв в каждом не более получаса. По его одежде и повадкам я признал в нем бухарца и разобрало меня любопытство! Кто бы это мог быть? – гадал я.
По-моему, он не пропустил ни одного заведения и, наконец, очутился совсем близко. Затуманенные, пьяные глаза, – черт бы их побрал! – меня подводили.
Я спустился вниз, на улицу, чтобы рассмотреть этого неугомонного петуха. И принялся я вышагивать взад-вперед, взад-вперед.
Вскоре незнакомец вышмыгнул из очередной двери, и вот мы – лицом к лицу. Я уставился на него, он, показалось мне, здорово смахивает на моего спасителя-шейха.
Хоть и осведомлен я был немало о его делишках, но и предположить не мог, что он настолько грязный тип: «Наверно, это мне мерещится с пьяных глаз», – решил я... Нет! Уж очень похож!
А странный человек приблизился ко мне и говорит:
– Ассалом алейкум! Умей хранить тайну.
Я не ошибся. Это был он, один из самых почитаемых в Бухаре мулл!
– Будьте покойны! – пролепетал я. – Настоящий джигит за добро платит добром.
Он исчез в следующей двери, а я вернулся к приятелям.
Машина для грабежа
Арбакеши увезли последние трупы. Палачи, разделавшись наконец с ночными своими обязанностями, растянулись на кошме, чтоб хоть немножко соснуть. Не будем гадать, снизошел на них сон или нет. Мы знаем лишь, что все лежали не шелохнувшись, и никто не проронил ни звука; молчание нарушил Курбан-Безумец:
– Хамра-Силач, неужели вы уснули?
– Сон в могиле! – Хамра-Силач перевернулся с боку на бок. – Какое там, разве тут уснешь, успокоишься?.. Вот отгрузили мы трупы, а из головы не идут эти несчастные, задушенные нами. Их судороги. Их глаза... они будто вопрошают: «Что злого мы вам сделали? За что вы нас так? За что муки и смерть?..» А рассказы? Они опять приходят на память, пакостно от них, с души воротит; сколько мы услышали за одну только ночь о подлостях всяких мерзавцев! Что у нас впереди? Опять будем лить невинную кровь. Да, лить! Вот что мучит, не дает покоя! До сна ли тут? – Хамра-Силач умолк, а потом обратился к Курбану-Безумцу.
– Чего хотел-то?
– Ничего не хотел. Вот лежу и раздумываю: и завтра нас ждет то же – убивать, истязать, выбиваться из сил, не спать какую ночь подряд и грузить мертвых. И закралась мне в башку мыслишка: изобрети эмир специальную машину, чтобы уничтожала людей, мы не выматывались бы эдак. Я и хотел вам ее высказать.
– Жаль, никто не подал эмиру эту мысль. А не то давно создали бы какую-нибудь махину и пустили ее в ход, и нас бы избавили от тяжелых трудов, – сказал Хамра-Силач.
– Когда эмир перестанет нуждаться в нас, не удивлюсь, если этой самой машиной он уничтожит и нас, – заметил Маджид.
– Лучше быть убитым, чем жить так, – заявил Рузи-Помешанный.
– Да разве можно смастерить машину для убийства людей? – изумился Хайдарча.
– Так ведь эмир заставил же смастерить машину-игрушку. Ты думаешь, такой эмир не сумеет соорудить машину-убийцу? – ответил Рузи-Помешанный.
– Выходит, это не болтовня. Во дворце и вправду есть машина для забав эмира? – осведомился Курбан– Безумец.
– Всему, что говорят о нашем эмире, верить можно, – сказал веско Рузи-Помешанный.
– Ну, а почему же эмир не прикажет смастерить машину, которая бы грабила подданных? – спросил Курбан-Безумец, – Ему не нужны будут судьи, раисы, миршабы и прочие чиновники. Зачем они тогда? И грабил бы эмир себе, да грабил народ. А все, что удалось выжать да вытряхнуть, его величество клал бы себе в карман. Чиновникам же – кукиш.
– Брось притворяться! Такая машина давным-давно существует!.. Или ты, и впрямь, дурак?
Хамра-Силач покосился на Курбана-Безумца и все-таки решил описать ему машину для грабежа и разорения.
– У каждого механизма, – начал он издалека,– свое назначение и размер. Грабительская машина должна строго соответствовать величине и законам страны. Судьи, раисы, податные, миршабы (ты считаешь их лишними, не так ли?), а кроме них – муллы, ишаны, старосты, даже мы, палачи – все вместе и составляем машину, что грабит народ. Каждый, кого я тебе перечислил, – часть, деталь ее механизма. Смуты и волнения – они у всех нас на памяти – это то, что разрушает механизм.
– А вопли «О шариат! О вера!» подогревают, движут его, – дополнил Рузи-Помешанный.
– Вот именно!.. Я так мыслю себе: будет тянуться все по-прежнему – не сохранить машину целой и невредимой; не удастся сломать ее сегодня, она сама по себе рухнет завтра!
В этот момент по Арку разнесся призыв муэдзина к утренней молитве.
– Рухнет! – вскричал Хайдарча, – вот увидите, рухнет! Ведь слова Хамра-ака совпали с призывом к молитве, это же предзнаменование!
Один узник, слышавший в темнице весь разговор палачей, прошептал:
– Пусть ангелы произнесут «аминь»!
– Дай-то, боже, аминь! – поспешили разом сказать палачи.
– Вот ангелы и произнесли «аминь», – изрек с горькой издевкой Рузи-Помешанный.
–
Больше книг о Бухаре
Примечания






