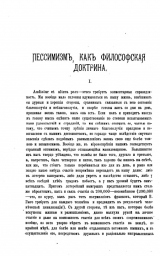
Текст книги "Пессимизм, как философская доктрина"
Автор книги: С. Каменский
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
IV.
Два самых могущественных побуждения в живых существах, без сомнения, – любовь и голод. С последним из них пессимистам порешить было нетрудно. Всякий признает в голоде могучий фактор культурного прогресса, но зато никто не будет защищать его, как источник удовольствий. Как ни прихотливы мифологические создания людской фантазии, но ни один народ или народец не сделал еще из голода божество и не воздвиг ему хотя бы самой дешевенькой статуи. Голод – это несмолкаемый, нестерпимый, режущий ухо крик ребенка, которого нечем накормить; это – властный, неумолимый сборщик податей, повелительно требующий уплаты; барин, в чью пользу в поте лица отбывается барщина; непреклонный распорядитель людского труда и времени; идол, которому приносится в жертву все самое дорогое и святое для нас. Голод обращает земной шар в арену непрерывной борьбы существ между собою, борьбы единственно ради утоления этого физического чувства. Ничто не мешало бы тварям жить мирно и дружелюбно в доброжелательном соседстве, еслиб – не голод. Но так как процесс взаимного пожирания с целью утоления голода составляет один из основных конституционных законов развития жизни на земле, то Шопенгауэр не без основания замечает, что стоит только сравнить ощущение зверя, который пожирает другого, с ощущением последнего в тот момент, когда с ним происходит это маленькое приключение, чтобы решить: преобладает ли удовольствие над страданием в процессе жизни или, по крайней мере, уравновешиваются ли эти два рода ощущений?... Но даже, махнув рукою на борьбу пожираемых нами животных и успокоив свою совесть тем, что в настоящее время пожирание это по большей части совершается под наблюдением и санкциею обществ покровительства животным, – мы должны будем признать, что и в пашей человеческой среде голод является импульсом братоубийственной войны, массовой и одиночной, и взаимного пожирания в разнообразных формах. Только утолив голод, умеем мы быть человеколюбивыми, великодушными, добрыми, и горе ближнему, если он попадется нам под руки в то время, когда мы хотим есть. Этот страшный деспот, имя которому „голод“, портит нашу нравственность, коверкает лучшие наши стремления и наделяет всеми пороками зверя и раба... Словом, голод – инстинкт несомненно мучительный и требовательный, удовлетворение которого не доставляет никакого удовольствия, но поглощает почти всю жизнь, весь труд и все время человека. С точки зрения пессимистов, как и со всякой другой, удовлетворение его но может быть рассматриваемо в качестве „нашей“ цели. Это, напротив, жестокая, железная необходимость, все равно – навязана ли она нам мировою Волею, или законом жизни, стихийно сложившейся из космических атомов. О „наших“ целях может быть речь только по удовлетворении голода, по отбытии этой барщины. Весь ход культурного прогресса человечества может быть резюмирован в виде гигантской борьбы с голодом, – стремления отделаться от его тирании и отвоевать у него хоть сколько нибудь досуга и свободы. На достижение иных целей мы можем посвятить только силы и время, остающиеся свободными после отбывания барщины голоду, и только их можем посвятить на развитие роскоши и комфорта культурной жизни. Притом, в настоящее время, подобных свободных сил никогда еще не было, и современная цивилизация скорее „украдена“, чем отвоевана у голода: народные массы должны были недоедать, обманывать голод и выносить зато его суровые кары, для того чтобы меньшинство сделалось свободным и пользовалось досугом...
Да, конечно, если бы вся наша жизнь уходила на удовлетворение требований голода, то всякий признал бы „неразумность желания жить“. Но ведь, временами, мы сбрасываем цепи рабства и следуем другим влечениям, доставляя себе удовольствие и наслаждение, вознаграждая себя за долгие часы барщинной работы – удовлетворением более возвышенных потребностей нашей природы. Вот, напр., любовь. В вопросе о любви пессимисты, без сомнения, встретят массу противников: – молодых, прекрасных, полных жизни „рыцарей“, с пламенными очами и свежим румянцем на щеках, и обладающих теми же качествами „героинь“, готовых сесть на боевого коня и радостно ломать копья в честь „рожденной волнами“ богини. И действительно, разве богиня не стоит того? Улыбающаяся, светлая, розовая, она смотрит на нас ласковым взглядом и всех приглашает на пир... Мираж, один мираж! восклицают пессимисты. Колоссальный humbug и постыдное мошенничество природы! Любовь – великий злодей, потому что, продолжая поколения, она увековечивает страдание... Посмотрите на этих влюбленных, страстно ищущих друг друга глазами: отчего они так скрытны, боязливы, так похожи на вора, собирающегося красть? – Эти влюбленные – предатели, замышляющие измену, готовые увековечить страдание на земле! Без них оно бы иссякло. Но они препятствуют этому, как делают и их ближние, как делали до них их родители и предки.... Представим себе, что акт воспроизведения поколений не связан с чувственным возбуждением и наслаждением сладострастия, и был бы делом одного чистого размышления: могла ли бы тогда существовать человеческая раса? О, тогда каждый проникся бы жалостью к судьбе будущих поколений, пожелал бы избавить их от бремени жизни и во всяком случае не согласился бы взять на себя ответственность в том, что возложил на других это бремя (Шопенгауэр). Действительно, едва-ли бы согласился, даже помимо горечи или сладости жизни, и наша общая щепетильность по отношению к ближним служит в том порукою. Если мы хмуримся, слыша о насильственном переселении человека из одного места в другое, то еще более должны порицать переселение его из небытия к бытие. Если мы ужасаемся перед убийством, то разве убийство человека более произвольно, чем его рождение? За что, за что вталкиваем мы в бурный и суровый поток жизни этих невинных, хрупких детей? Если даже оправдываться в этом благим намерением, и то ответственность непомерно велика: относительно взрослого человека никто ничего подобного себе не позволит, и только всемогущие боги имели бы право созидать людей, потому что их всемогущество дает им возможность взять на себя ответственность за судьбу созданного человека. Но, как известно, вовсе не боги этим занимаются; самые обыкновенные смертные с мягким сердцем творят великое дело и —
Наши женщины рожают,
Наши девушки им в этом,
Соревнуя, подражают!
Дело зарождения так важно, что природа не могла предоставить его на произвол и добрую волю личностей. С оставлением потомства связано самое существование человеческого вида, и природа, ограниченная в своей неразумности и слепоте необходимостью создавать виды приспособленными к жизни, должна была обеспечить нарождение поколений инстинктом более сильным, чем человеческая воля. И действительно, она погрешила тут разве только избытком усердия, добиваясь своей цели ценою человеческого счастия. Слепая и неразумная, она не может соразмерить размаха своих сил, и обставила зарождение избытком „приманок“, сосредоточила на нем несоразмерную силу иллюзий. Люди любят сильнее, чем нужно для побуждения их к деторождению. Чувственное возбуждение, мучительно требующее удовлетворения, соединяется здесь со страстною мечтою счастья и наслаждения, и юноша бросается в объятия возлюбленной с возгласом: хоть миг счастия, и затем – смерть! Примомните Леандра, переплывавшего Геллеспонт44
Леандр. Ты называешь дурным то, что все люди радостно превозносят и называют – любовью! – Геро. Несчастный юноша! Так и до тебя дошло это пестрое слово, и ты решаешься повторять его и называть себя счастливым? А разве не должен ты был переплыть это бурное море, где каждая сажень – смерть, и разве по прибытии не ожидают тебя стражи и дикие убийцы? – (Grillparzer, „Hero und Leander“, акт III).
[Закрыть], припомните Ромео и Джульетту; припомните... но зачем далеко ходить: припомните свой или свои собственные романы. Иллюзия так велика, что влюбленному жизнь кажется невыносимою, невозможною без удовлетворения его страсти, ради которой он, в самом деле, тысячу раз готов поставить жизнь на карту. При этом молодые люди, охваченные странною, могучею страстью, сами чувствуют страх и смущение, сознавая, что они потеряли власть над собою и слепо идут, куда влечет их всесильное чувство. Влюбленный чувствует себя готовым на величайшие подвиги, но и на величайшие преступления, и перед его смутным взором ежеминутно носится страх за будущее. Но не смотря на этот страх, по большей части основательный, влюбленному не предоставлено свободного выбора действий, и внушений страсти ему не избежать. В деле любви природа шуток не терпит. Уже после несчастный опомнится, с ужасом посмотрит на сделанное им и с удивлением воскликнет, как Маргарита у колодца:
V.
Заметим, что не один Шопенгауэр называет любовь „великим злодеем“. Именно вледствие trop de zèle, выказанного природою в деле обеспечения поколений, влюбленные в практической жизни по большей части являются какими-то „предателями, замышляющими измену“ – религиозным догматам, нравственным понятиям, гражданскому строю и т. д. Седой человеческий опыт видит в любви какого-то общественного врага, какое-то пертурбационное начало, какой-то элемент соблазна и искушения. Против нее принимаются меры карантинные и дезинфекционные, предупредительные и карательные. Религия, нравственность, закон занимаются этим, создают догмы, правила и установления с целью обуздания и регламентирования любви. Некоторые религиозные учения вообще допускают любовь только из снисхождения к человеческой слабости, и почти все именно в ней видят первородный грех. Мало того, для обуздания любви общечеловеческое сознание выработало даже особое чувство, – стыд, – и завесою стыда и тайны прикрывается все, что связано с любовью. Фиговый лист – первый костюм, надеваемый человеком. Говорить о проявлениях любви считается неприличным. Наконец, с целью успокоить природу и обойти опасность, люди стараются обеспечить нарождение поколений помимо любви. В этих видах созданы ими благоразумные браки (mariages de convenance). Но природа не полагается на людей в деле подбора брачующихся пар. Благоразумные браки совершаются на основании рассудка и соображения реальных обстоятельств, и поэтому, по большей части, бывают счастливы; но в них игнорируется подбор брачующихся пар в видах совершенствования потомства, так что аристократические роды, в которых подобные браки господствуют, часто даже вымирают. Природа же посредством любви подбирает пары, наиболее подходящие в видах усовершенствования вида, хотя бы в то же время совершено неподходящие друг к другу во всех других отношениях. Браки по любви, в противоположность благоразумным бракам, заключаются в интересах вида, но без внимания к интересам личностей, и поэтому, по большей части, несчастны. Но именно эта бескорыстность влюбленных, это принесение ими себя в жертву интересам вида, это самоотверженное „искание не своего дела“ (das Nicht-seine-Sache-suchen), которое на все налагает отпечаток возвышенности, – придает страстной любви характер величия, идеальности, делающий ее достойным предметом поэзии и песнопения
„Любовь – это присущая каждой твари жажда разбить грани личного существования и снова погрузиться в абсолютное, которое цельно и едино в себе и во всем, но с своей стороны подобной жажды вовсе не чувствует и только пользуется ею в индивидуальностях для реализации своей бессознательной цели, – мирового процесса. Последний же требует увековечения индивидуума, и вот в любви жажда к освобождению от единоличного существования сама же становится средством к тому, чтобы сделать достижение ее цели до поры до времени невозможным и отодвигать ее дальше и дальше. В этом и состоит метафизический обман любви... так как смерть – единственный истинный избавитель и спаситель индивидуальной обособленности каждого лица. Любовь же только кажется таким избавителем, заблуждается в сознаваемой ею цели, и вместо того, чтобы разбивать грани индивидуальности, она увековечивает их и создает поколение за поколением для перенесения мук личного существования, чтобы опять обманывать поколение за поколением кажущимся разрушением уз индивидуализма... И горе несчастным, которые бессознательно служат целям мирового процесса, жертвою любовной страсти!“66
А. Taubert. „Der Pessimismus“. Агнеса Тауберт – первая жена Гартмана.
[Закрыть] Словом, любовь, как и голод, опять таки – чуждое нам, не наше дело. Нам принадлежит в ней только мучительная тоска личной обособленности и жажда отделаться от последней, слиться в одно с любимым существом и обнять в лице его абсолютное, всю вселенную. Но как только объятие совершилось, завеса тотчас же падает с наших глаз, и мы уже не сомневаемся в том, что не всю вселенную держим в своих руках, а такое же томящееся одиночеством существо, как мы сами, и притом от него даже остаемся обособленными, каждый со своею индивидуальностью, как было раньше. Иллюзия рушилась, но мировая Воля уже успела достигнуть своей цели, потому что в объятиях двух обманутых существ совершилось зарождение третьего, о котором первые два вовсе не думали, тогда как именно об нем-то и шла речь и ради него заведена была вся эта процедура. Мы стремились к освобождению от тоски индивидуальной обособленности, путем слияния с другою индивидуальностью, а между тем в результате оказывается только появление третьей, т. е. достигнута цель прямо противоположная той, которой мы добивались! Уж это ли не надувательство со стороны природы, а с нашей стороны – не преследование чужой цели?! Если мы рабы по отношению к голоду, то по отношению к любви являемся простыми поденщиками. Природа – великий фабрикант, который только и занят, что произведением жизни. Двери фабрики открыты настежь: каждый найдет в ней работу: пожалуйте, милости просим! Но только весь плод труда рабочих идет в пользу патрона, а рабочим выдается призрачная рабочая плата, каждому, впрочем, по степени его усердия. Плата эта состоит в иллюзиях счастия, которые испытывает каждый. Но рабочим скоро делается противно работать в пользу другого, усердие их уменьшается, плата иллюзиями все более падает, и рабочий наконец покидает фабрику с расстроенными силами и потерянною верою в гармонию мирового процесса. А фабрикант только насмешливо посвистывает, отлично зная, что на смену тотчас же явится новый рабочий, свежий и бодрый, а общей забастовки рабочие устроить не могут и не захотят... Итак, вот что такое любовь – фабричная работа за поденную плату; заметьте: – фабричная, т. е. грубая, без тонкости отделки.
VI.
Пессимисты, без сомнения, вполне верно подметили психологическую основу любви в тоске индивидуального существования и стремлении пополнить себя, расширить пределы своей личности путем слияния с другим лицом „в плоть едину“, как метко выражается церковь при совершении таинства брака. Здесь точно на самом деле оправдывается старинный миф о том, как человек когда-то разорвался на две части и теперь страстно отыскивает другую половину своего „я“, но постоянно попадает на „чужие“ половины, а „своей“, в массе рассеянных по всей земле существ другого пола, никак отыскать не может. Две человеческие половины страстно кидаются друг другу в объятия, так сказать, примериваются и, увидав, что одна к другой не подходит, что они друг другу „чужие“, отпрыгивают назад и направляют поиски в другую сторону... Подобным психологическим объяснением любовной страсти пессимисты ставят любовь, – как проявление тоски индивидуальной обособленности, как стремление выйти из тесных рамок личности и „обнять абсолютное“, – в один ряд с целою серией других проявлений „инстинкта мировой жизни“, каковы религиозное и нравственное влечение, национальное и родовое чувства, честолюбие и т. д. Все это, по учению пессимистов, представляет несколько ниточек в руках мировой Воли: подергивая ими, она заставляет нас служить „своим“ целям, целям мирового процесса, сохранению и развитию жизни и вида. Все эти чувства действительно стремятся охватить людское сознание такою густою сетью импульсов к „мировой жизни“, что делается положительно трудным представить себе человека, который, будучи охвачен ими, действовал бы сообразно целям личного счастия. Между тем чувства эти несомненно обладают большою силою и нередко, в отдельных личностях, охватывают всю жизнь и все существо человека. От любви они отличаются именно прочностью создаваемых ими иллюзий, – хотя в то же время способны рождать и аффекты, по своей интенсивности не уступающие пароксизмам любви и увлекающие человека, не смотря на перспективу страшных страданий и даже потери жизни. Вместе с тем, если некоторые из этих чувств слабеют с поступательным ходом человеческой цивилизации, то другие, именно альтруистические, развиваются с такою силою, что в конечном пределе их развития, повидимому, следует предвидеть полную „социализацию“ человека, в pendant и в связи с „социализацией“ производства и распределения богатств. Мы далеки от мысли пугать кого бы то ни было этою перспективою и даже готовы допустить, что социализированный человек будет чувствовать себя свободнее и лучше в социализированном обществе, чем современный переходный человек в современных переходных обществах. Но, за всем тем, эвдемонологическое значение альтруистических чувств, как и других проявлений инстинкта мировой жизни, представляется, в настоящем и будущем, в высшей степени загадочным и странным. Цели их, насколько они чужды нам и полезны обществу, виду, мировому процессу, для нас вполне и с первого взгляда понятны; но, напротив, полезность их для нас лично постигается нами не без значительного мозгового усилия или не понимается вовсе. Мы легко понимаем значение патриотизма и любви к родине в деле обеспечения развития и процветания человеческих обществ, но с недоумением спрашиваем себя: какое удовольствие доставляет человеку ностальгия и с какой стати dulce et decorum est pro patria mori77
Прекрасно и сладко умереть за отечество.
[Закрыть]? Нам понятно желание „племянника“ овладеть Францией с целью уплатить долги и обделать иные делишки, но кажется вполне странным бескорыстное стихийное честолюбие „дяди“ и его желание властвовать над Европою. Какая ему была в том польза? „что он Европе, что она ему?“ Для разрешения этого недоумения, возьмем за тип инстинктов мировой жизни так называемое нравственное чувство и рассмотрим его отношение к нашему исканию счастия в жизни.
С первого взгляда кажется несомненным, что нравственное чувство скорее тормозит, чем способствует людскому стремлению к счастию. Из добродетели шубы не сошьешь, да и выгоду из нее извлекать не полагается; как чувство же, она сказывается в нас каким-то сознанием долга, т. е. чего-то навязываемого, неприятного. В несколько ином виде представится нам дело, когда нам скажут, что требования нравственности в сущности совпадают с требованиями гигиены88
Стремление к слиянию нравственности с гигиеною заметно пробивается и в „Data of Ethics“, Спенсера.
[Закрыть]. Мы понимаем, что в видах собственного благополучия следует избегать сварливости, злости, лени, распутства, обжорства и, напротив, воспитывать в себе доброжелательные чувства, умеренность, трудолюбие и т. д. (не впадая, впрочем, и в противоположную крайность). Но, поняв гигиеническую нравственность, мы вскоре почувствуем живую досаду на неприспособленность к счастию нашей природы, благодаря которой забота об одном только сохранении здоровья требует целой массы „воздержаний“ и „действий“, мучительных и неприятных, терпимых только как „меньшее зло“ сравнительно с тем, от которого избавляют. Мы не можем не чувствовать этой досады, потому что здоровье, которое мы стремимся охранить путем постоянного предпочтения меньших зол, в свою очередь представляет только отрицание страданий, точку безразличия ощущений, а не какое либо состояние благополучия или наслаждения. Таким образом, баланс операций по гигиенической нравственности сводится на чистый убыток – на восприятие целой серии ощущений – „меньшего зла“... И за всем тем остается еще целый ряд проявлений нравственного чувства, которые до того ясно носят отпечаток самоотверженности, альтруизма, что их уже гигиеническою моралью объяснить нельзя. Не несомненную ли самоотверженность выказывает человек, который с опасностью жизни бросается в огонь спасать чужого ребенка? Какую пользу доставит ему этот странный поступок? Конечно, в случае удачи он испытает сознание хорошего дела и похвалы людей, но разве это удовольствие соразмерно с риском? Или, быть может, человек, выказывая самоотверженность относительно других, рассчитывает на то же самое с их стороны? Но это расчет плохой: если ближние наши уже воспитали в себе самоотверженность, то они будут выказывать ее и по отношению к нам, помимо нашего почина, и нам достаточно только не восстановлять их против себя; если же они самоотверженностью не обладают, то нам, при краткости нашей жизни, наверно не придется воспользоваться плодами их перевоспитания посредством великодушных примеров. Конечно, на это можно заметить, что общество не могло бы существовать, если бы все люди рассуждали подобным образом; но это касается уже не личности, а общества, польза которого действительно не допускает подобного рассуждения. Поэтому осторожные утилитаристы так прямо и говорят, что польза, которую они кладут в основу своей нравственной системы, не есть счастие отдельного лица, а наибольшее счастие наибольшего числа лиц, т. е. польза общества. Утилитаристы строят здание своей системы на готовом уже фундаменте нравственного чувства, т. е. способности к самоотвержению в видах нравственной цели поступков. Нравственная система эта классифицирует поступки на „хорошие“ и „дурные“, сообразно их отношению к общей наибольшей пользе, но желание „поступать хорошо“, даже вопреки собственному счастию, предполагается существующим заранее, в качестве слепого и бессознательного инстинкта. Если же так относится к счастию каждой отдельной личности утилитарианизм, то о прочих системах нравственности и говорить нечего: все они ставят цель нравственных поступков и санкцию их вне счастия поступающего так человека... Таким образом, мы видим, что наше недоумение относительно роли нравственного чувства в погоне за счастием было вполне основательно. Общечеловеческое сознание и систематическое мышление дружно доказывают, что нравственное чувство, являющееся типом проявлений инстинкта мировой жизни в социальной сфере, несомненно побуждает нас преследовать чужие цели и, следовательно, ничего общего с нашим стремлением к счастию не имеет. Если-же мы, тем не менее, подчиняемся ему, то только потому, что оно сильнее нас и нашей воли, как и вообще все инстинкты, с которыми связаны вопросы жизни и вида...







