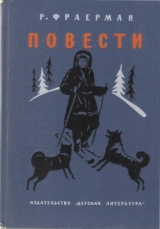
Текст книги "Дальнее плавание"
Автор книги: Рувим Фраерман
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
Есть ли у нее какая-нибудь воля, наконец, и кто научит ее себе подчинять?
Галя зажгла свет и начала одеваться. Она вынула из шкафа свое лучшее платье, единственное, какое сохранила ей мать в великой утрате вещей, сшитое скромно, но из пестрого шелка, который блестел при свете, словно морская волна. Он был такой легкий, что даже шубка могла его смять.
Галя осторожно накинула шубку, не застегнула ее и вышла на улицу. В руках у нее была маленькая книжечка – стихи любимого Анкой поэта, где были слова и о войне, и о любви, и об ожидании. Да, и об ожидании. Ее было так трудно достать! Однако каждый раз в этот праздник Галя что-нибудь дарила своему другу. Она делала это всегда с радостью.
Но на этот раз Галя несла свой подарок с каким-то иным, необычным чувством, в котором вместе с радостью таилась и горечь. Остался ли ей верен друг? И будет ли на празднике Ваня?
XIV
Галя подходила к школе с беспокойным сердцем.
Во дворе никого не было. Но окна ярко сияли огнями, проливая избыток света на горки снега, на тропинки среди них, на смутные очертания стройных школьных лип.
И родная школа Гали явилась ей сейчас в ином, таинственно веселом и нарядном виде. Как будто бы даже иначе открывались двери, иные звуки встречали Галю на крыльце.
Маленьких девочек нигде не было видно. По коридору ходили гости – мальчики из мужской соседней школы. Они держались стайкой, словно молодые птенцы, недавно вылетевшие из гнезда. Зеленая бархатная дорожка – дар Анны Ивановны, любившей и в школе уют, – убегала по лестнице вверх, как лесная тропинка, что ведет в мир тихих трав и листьев. И Анна Ивановна, нарядная, в черном платье, ходила под руку с Ниной Федоровной, директором школы. И тень постоянной заботы не закрывала их лица. Из глубины большого актового зала доносилась музыка, бежала вниз, прямо под ноги Анке, которая стояла на лестнице, как хозяйка, с красной повязкой на рукаве, то словом, то смехом встречая гостей и друзей. И через плечо у нее висела почтовая сумка.
Она была одета просто, почти как дома. Полосатая кофточка, связанная из тонкой шерсти, с карманчиками – подарок отца, присланный ей с фронта недавно, – делала ее стройную и без того фигурку еще стройнее. Из бокового карманчика виднелся край крохотного платочка. И эта случайная, быть может, подробность придавала ей тот милый и домашний вид, который так располагал к себе каждого, кто приходил на этот школьный праздник.
Увидев Галю, Анка тотчас же подбежала к ней.
– Я так беспокоилась, что ты не придешь! – сказала она простодушно. – Мы не могли зайти к тебе. Весь день я возилась сегодня в школе, все готовилась к празднику. И Ваня все спрашивал, придешь ли ты, и все беспокоился, что ты обиделась.
Нет, Анка оставалась все той же. И Галя поцеловала ее и подарила ей книжечку стихов. Анка с радостью взяла ее, раскрыла, заглянула в страницу.
И пока Анка глядела в страницу, Галя успела спросить голосом, которого она сама не узнала, – так он был стеснен, неестествен:
– Разве Ваня уже здесь?
– Он здесь уже давно, – сказала весело Анка.
Она ничего не замечала. И голос Гали, ставший совсем другим, не привлек ее внимания.
– Он здесь, наверху, – повторила Анка. – Он все время с Иваном Сергеевичем.
– С Иваном Сергеевичем? – воскликнула Галя с испугом. – Разве он тоже пришел?
Нет, она не в силах ему сейчас рассказать, о чем думала вчера и какой стыд испытала.
А он – вот он, спускается по лестнице вместе с Ваней, идут они рядом, и некуда ей уйти ни от того, ни от другого. Она низко склонила голову и поклонилась учителю.
Лицо у него было усталое и больное. Старые раны всё по-прежнему беспокоили его. Но он все же приходил на эти праздники, где чужая юность постоянно расцветала на его глазах, и он глядел на нее с радостью, и душа его отдыхала.
Он остановился перед Галей и ждал, когда она поднимет свое лицо. Она не подняла его.
Тогда он спросил:
– Ты болела все время, Галя?
– Да, – ответила она, ужасаясь своей собственной лжи.
Он увидел эту ложь даже на ее склоненном лице, но почему-то не уличил ее, как это сделали бы, может быть, другие, как, например, Анна Ивановна.
Он положил руку на ее плечо и сказал:
– Надо быть сильнее своей болезни. Ну иди и позови Анку наверх в зал. Без нее там уже скучают.
Он пошел дальше, чуть прихрамывая.
А Ваня остался на месте. Он протянул Гале руку и поздоровался. Она же не могла ее пожать так твердо и так спокойно, как это сделал он.
Пальцы не слушались ее.
Анка промчалась мимо по лестнице на своих быстрых и резвых ногах и оглянулась, посмотрела на Галю и Ваню, обдав их целым снопом веселого огня, горевшего в глубине ее глаз.
Она удивилась смущению Гали и подбежала к ней.
– Что же вы оба без номеров? – сказала она. – Мы уже начали играть в почту, а у вас еще ничего нет.
И она булавкой приколола к груди Вани белую бумажку с номером, а Гале приколола другую и сказала:
– Это номера вашей полевой почты. Нельзя терять друг друга в такое время. Представьте себе, что вы на разных фронтах. Например, Ваня под Кенигсбергом, а ты под Будапештом. Или нет: представьте себе оба, что вы здесь, в нашей прежней, старой школе, и пишете друг другу, что вы чувствуете сейчас и о чем вы думаете. А я – ваш военный цензор.
И Анка со смехом побежала дальше, размахивая своей почтовой сумочкой, сделанной из картона. Потому что Анке было некогда и потому что, как она полагала, ей уже давно было известно, что чувствует Галя. А что чувствует Ваня, она тоже знала давно, еще с восьмого класса. Разве не говорили они всегда о Гале и разве не восхищались ею?
Анка не знала только, что делать с этими глупыми мальчишками, которые пришли на вечер к девочкам и стоят сейчас у стены в большом, просторном актовом зале, где, не жалея для них света, такого дорогого в эту военную ночь, зажгли столько ярких ламп, и где для них льется музыка, и в школе царствуют сейчас легкие звуки Штрауса, под которые так легко танцевать и в которых и Анке чудится ее счастье.
Но девочки танцуют одни. Глупые мальчишки!
Она подбегает к ним и смотрит на них с удивлением и гневом. Разве они пришли сюда только для того, чтобы подпирать эти стены? Разве можно отказываться от счастья!
Но мальчики стесняются танцевать.
Они отступают перед Анкой и становятся еще ближе к стене – вихрастые, стриженые, насмешливые и дерзкие.
Ах, это всё восьмиклассники! Они еще очень глупы.
А где же вы, милые сверстники? Какие звуки слушаете вы сейчас на поле еще не утихшей битвы? Сохранили ли вы свою нежность в долгих бурях огня, что носятся еще над вашими головами? Вы поступали бы не так.
Анка оглядывается вокруг и видит Ваню и Галю. Они входят в зал и начинают танцевать. И белые билетики с номерами, пристегнутыми к их груди, кажутся сейчас Анке двумя маленькими тайнами, которые надо еще разгадать.
У Гали лицо тихое и задумчивое. У Вани оно смущенное, даже растерянное немного. Он как будто ищет кого-то.
«Кого же он может искать, – думает Анка, – если он танцует с Галей? Это он от счастья смущен и от радости».
Но Анка не знала, что смущение может вызвать не только счастье танцевать с Галей. Смущение и даже страдание может вызвать и обыкновенный подарок, который тебе хочется поднести своему другу, и, может быть, больше, чем другу, и сказать ему, что ты любишь его. Что маленький старинный флакончик с духами, лежащий в твоем кармане, может казаться тебе страшнее, чем граната, упавшая рядом с тобой, хоть ты и храбрый человек и награжден орденами и медалями.
С раннего утра Ваня носит этот флакончик в кармане.
Дома он долго выбирал, что бы подарить Анке в этот день.
Он мог бы ей подарить цветы. Он достал бы их даже сейчас, зимою, и даже в пустыне, где не растут никакие цветы.
Но цветы надо держать в руках. Их не положишь в карман. Их бы увидели все. И все бы увидели, кто их принес и кому и что таится под легкими крыльями роз.
Он мог бы подарить ей кинжал из немецкой стали, или золотой кортик, снятый с убитого им фашиста, или даже ракетный пистолет, взятый с подбитого танка. Но зачем ей оружие? И как сказать ей при этом неуклюжем ракетном пистолете нежные слова любви и дружбы?
Он и это отверг.
Тогда мать, которой так хотелось доставить Ване радость, предложила ему старинный флакончик духов.
Это был ее флакончик, сохраненный ею еще с дней ее собственной молодости. Изредка она вновь наполняла его духами.
Флакончик был очень мал. Но запах духов был нежен, тончайший хрусталь был чист и прозрачен, и жидкость внутри светилась зеленоватым цветом морской глубины.
Ваня искусно приклеил к флакончику этикетку и на обратной стороне ее написал: «Анке в знак моей детской дружбы. И пока я вижу тебя, милая Анка, счастью моему не будет конца».
Правда, он ничего не написал ей о любви, но зато эти слова, что он написал, были хорошо видны сквозь чистейший хрусталь и влагу.
Но как же их теперь передать?
Он решил положить свой флакон незаметно в почтовую сумочку Анке. Тогда уж наверное ему ничего не нужно будет говорить.
Он незаметно подошел к Анке вместе с другими. Но тут он увидел, что многие подходят к ней в этот вечер и много чужих детских рук опускаются в ее почтовую сумку.
Нет, он туда не положит своего хрупкого письма.
Он заметил платочек, видневшийся из карманчика ее вязаной кофточки, и осторожно опустил свой флакончик в него.
Анка даже не обернулась – так было ей некогда среди всеобщего веселья, разгоравшегося все больше, которое она раздувала сама, как огонь в очаге, заботясь о других.
И мальчики уже танцевали – стеснение их прошло, – и девочки были довольны.
А Ваня отошел в сторону.
Потом он снова танцевал с Галей. И сердце ее вновь расцветало, словно погружалось в веселые струи. И она ничего не хотела ни видеть, ни слышать.
Вдруг рядом, совсем близко, раздался слабый звук, похожий на тот стеклянный звук, что издает среди зимы в лесу обледенелая ветвь, ударившись о другую.
Ваня быстро обернулся. Руки его оставили Галю. Она тоже мгновенно обернулась. И оба они увидели Анку, которая держала в руке свой платочек, а у ног ее блестели осколки стекла.
Она была так удивлена, что даже не глядела на пол, а смотрела по сторонам, ища, кто бы мог уронить это ей под ноги.
Галя тотчас же подбежала к ней. В ту же секунду был рядом и Ваня. Анка тоже посмотрела вниз. И втроем они нагнулись одновременно и протянули свои руки к белевшей на полу бумажке, на которой начертаны были слова любви и дружбы.
Ваня оказался быстрее всех. Он схватил бумажку и вместе с осколками стекла сунул к себе в карман.
И по всему залу, как облако, поплыл вдруг тончайший запах, похожий на запах весеннего воздуха.
Все оглянулись на них.
– Как попал ко мне в карман этот флакончик с духами? – спросила Анка с глубоким удивлением.
И хотя Ваня был очень растерян, но все же чистосердечно ответил:
– Не сердись на меня, Анка, это я положил его тебе в карман. Я хотел подарить тебе что-нибудь.
– Так почему же ты не отдал свой подарок в руки Анке? – спросила осторожно Галя. – Там, кажется, было написано что-то…
А Анка сказала:
– Вот глупости! Как жалко, право. Ты в самом деле мог бы мне его подарить.
– Не будем об этом жалеть, – сказал он. – Я подарю тебе что-нибудь другое. Например, золотой немецкий кортик, или такую, как у Веры, ручку из небьющегося стекла, какое вделано в фонарь моей боевой машины, или ракетный пистолет, или свою планшетку, с которой я вылетаю на штурмовку, или еще что-нибудь.
– Это было бы гораздо лучше, – заметила в глубокой задумчивости Галя. – Кому нужен этот нежный запах – мельчайшие частицы душистого вещества, носящиеся в воздухе? Откроешь окно – и пройдет. Не правда ли, Анка?
– Неправда, – ответила Анка. – Я бы хотела иметь и планшетку, и кинжал, и духи.
– Ишь какая жадная! – сказал Ваня и засмеялся.
А Галя ничего не сказала.
Она больше не танцевала с Ваней. Но она и не ушла с вечера. Какая-то непонятная грусть посетила ее на этом веселом празднике.
Но это была не зависть к Анке и даже не ревность, какую могла бы испытать иная душа. Грусть ее была беспечальная. Галя ходила по коридору, где теперь совсем иными казались каждое окно и каждая запертая классная дверь. И они, как Галя, слушали музыку, бегущую к ним из освещенного зала. И они с любопытством, казалось, смотрели на пары, пробегающие мимо с веселым смехом, и отзывались на быстрые шаги слабым звоном своих замков, за которыми в глубине скучали сейчас пустые парты. На подоконниках сидели пары то девочек, то мальчиков и тоже шептались о чем-то, а о чем – неизвестно.
Сколько раз сидела и Галя на этих же самых подоконниках рядом с Анкой, сколько передумано было здесь вместе с нею и заветных, и тревожных, и прекрасных дум, которые, подобно крупицам тяжелого золота, оседающим в воде под руками искателя, ложатся на самое дно души тем золотым запасом дум, что незаметно копит юность с самой ранней поры из каждого шага жизни!
И ни дома, при постоянной заботе отца и матери, ни в лесу, ни в парке, куда ты бегаешь с друзьями, нет у тебя в мире такого уголка, как твоя школа, куда входишь ты ребенком и выходишь юношей, где узнаешь ты не только науки, но и сладость дружбы, и приникаешь ухом к первым словам любви, и учишься жить и понимать жизнь.
«А нужно ли понимать, чтобы жить?» – думала Галя, медленно идя по коридору мимо закрытых дверей.
Она сосчитала их. Вот десять дверей, десять милых ступеней, и каждая из них не пускает назад, а посылает все вперед и вперед. И она, Галя, – как путник, взбирающийся на вершину горы. С каждым шагом взор его все шире раздвигает даль и видит внизу ущелья и видит в небе полет орлов.
Галя завернула за угол коридора, прошла мимо окна с широким подоконником и снова очутилась перед той стеклянной дверью, перед которой она уже однажды стояла.
Она вновь отбросила засов и вышла на каменную площадку. Да, здесь она стояла недавно, как рулевой в своей стеклянной рубке, стараясь придать верный ход своему маленькому кораблю. И море ее было неспокойно, и в душе ее бушевала тогда буря.
Конечно, смешно было думать так много об уроках истории, когда идет война и ты зритель великого времени, и ты житель великой страны. Но даже простой урок истории может спросить тебя, на что ты годишься в жизни. Не все испытывается смертью и твоей готовностью умереть. Куда, быть может, труднее простая дорога жизни.
Но сейчас Галя испытывала иное состояние. В окно смотрели на нее звезды, и текли и тянулись к ней их золотые лучи, рождая иные мысли.
Итак, она ошиблась. Не ради нее Ваня пришел на этот праздник. И не красотой достигается счастье. Анка не так уж красива.
– Так за что же, наконец, дается человеку блаженство и счастье? – спросила Галя, глядя на звезды и сердцем приникая к их тихому свету.
Никто не ответил ей.
Только скрипнула дверь в коридоре. Это Анна Ивановна вошла в свою комнату. Потом раздались другие звуки, глухо донеслась музыка, и вместе с музыкой Галя услышала близко за дверью голос Анки.
Она звала Ваню посидеть на том широком подоконнике, где она так часто сиживала с Галей. В голосе Анки не слышалось никакого волнения.
Галя не любила подслушивать. Но вот уже дважды случай, этот слепой поводырь, приводит ее сюда, в заветный уголок, открытый ею, и заставляет невольно слушать. А может быть, это не случай, но непреодолимое желание уединения, что посещает нас в юности, когда в душе с волшебной силой вдруг рождается иной, таинственный мир, привело ее снова сюда?
Галя хотела уйти. Но она была в легком платье, а на улице было так холодно. Куда же она могла уйти, чтобы они не заметили ее? Галя осталась на месте, и она слышала, как Анка легко вспрыгнула на подоконник и уселась там, а Ваня подошел и остановился перед ней.
Они секунду молчали.
– Ты не видел Галю? – спросила Анка. – Она опять убежала от нас. И это ты обидел ее. И я знаю все. Мне уже немало лет.
– Ты ничего не знаешь, Анка, – сказал тихо Ваня.
– Нет, я все знаю. Я все вижу, даже под землей. Но я часто не знаю, что мне делать с тем, что я вижу, так как логики у меня мало, как это говорит сама Анна Ивановна. И это правда.
– А разве то, что ты видишь, не нужно тебе? – спросил Ваня. – Если ты не знаешь, что с этим делать?
– Мне все нужно. И то, что под землей, и то, что во мне, и то, что далеко от меня, на звездах. Ты ведь сам сказал, что я жадная. Но Галя мне друг, а дружба выше всего на свете. И тот, кто обижает моего друга, обижает и меня. Разве если друга твоего убьют враги, ты не мстишь за него? И разве не страшно тебе было бы воевать, если бы товарищ не стоял рядом с тобой в бою?
– Это было бы страшно, – ответил Ваня. – Меня бы давно убили. Но я Галю не мог обидеть, потому что она мне тоже друг. И разве не вместе с тобой я все время тревожусь за нее? И разве не вместе с тобой ходили мы к ней каждый день, и разве не о ней думал я, когда писал рассказ, которого даже тебе не показал? А все-таки есть, должно быть, на свете что-то такое, что выше этой дружбы. И я могу сказать тебе это…
Но тут Анка перебила Ваню и воскликнула с жаром своим звонким голосом:
– Не говори!
Ваня замолчал. И Анка добавила тихо:
– А все-таки нехорошо, что ты мне не показал рассказ. И на моем флакончике было что-то написано. И я теперь ничего не знаю. А я ведь комсомолка и член комитета и должна знать, что делается вокруг меня, и в школе, и во мне самой. А я ничего не знаю. И ты уезжаешь завтра. И я тебя не увижу больше.
Голос Анки стал совсем печальным.
– Я могу оказать тебе, что там было написано, – сказал Ваня.
Но Анка снова громко перебила его:
– Не говори!
Он снова умолк. Они молчали дольше, чем в первый раз.
– Что там было написано? – тихим голосом спросила Анка.
– Теперь уж я не могу сказать тебе. Теперь я не знаю, как это сказать, – ответил Ваня.
– А минуту назад ты знал?
– Я знал, что если бы ты мне приказала сделать что-нибудь такое, чего не мог бы сделать в мире никто, я совершил бы это.
– И даже плохое?
– Ты плохого не можешь желать.
– Так отчего же я чувствую себя такой виноватой, отчего я тревожусь, отчего мне так жалко Галю, что хочется плакать сейчас?
И Галя в самом деле услышала очень тихий плач.
Неужели это плакала веселая Анка? О чем она плакала? О ней ли, о Гале, или о том, что уезжает Ваня, или о том и другом и немного от счастья? Галя не знала, о чем плачет Анка, но, приникнув лбом к стеклу, беззвучно всплакнула тоже.
Как хотелось бы ей сейчас выбежать к ним! Но она уж так долго стояла здесь. И так много подслушала, что было стыдно выйти.
Анка же скоро перестала плакать и сказала:
– Ты хотел что-нибудь сделать в мире для меня. А что же я для тебя должна сделать?
– Ничего, – сказал Ваня. – Ты только смотри на меня. И когда меня пошлют на штурмовку, я вспомню тебя и позову два раза. Один раз – когда сяду в машину и попробую, хорошо ли стреляют мои пушки, и другой раз – когда вернусь из боя назад. Потому что, кто вылетал на штурмовки, тот знает, что страшен не бой с врагом, а страшно лишь бывает перед вылетом, когда ты думаешь, что предстоит тебе, и другой раз – когда ты возвращаешься уже домой и садишься на землю и думаешь о том, что тебе предстояло и что ты пережил. Я же не буду думать об этом никогда. Я буду думать о тебе и позову тебя. Ты помнишь, как ты меня поцеловала при встрече три раза?
– Я помню, – ответила Анка. – Но теперь я не могу этого сделать даже ни одного раза. Потому что тогда я не думала вовсе ни о чем. А теперь все время думаю и думаю бог весть о чем.
Анка умолкла. Ваня тоже не сказал больше ни слова. И в тишине донеслись вдруг далекие звуки музыки. Они поднялись высоко вверх, и на одно мгновение показалось Гале, что рядом, будто в собственном сердце ее – так это было близко, – прозвучал чей-то тихий и нежный поцелуй.
Галя не знала, было ли это на самом деле, или это подсказали ей звезды, глядевшие в школьные окна.
Галя вышла бы и сейчас к Ване и к Анке в коридор и обняла бы Анку так крепко, как никогда не обнимала подругу, и сказала бы Ване самые ласковые слова, какие рождаются неизвестно откуда.
Но в коридоре вдруг раздались шаги.
– Иди, – сказала тихо Анка. – Я посижу одна…
И Ваня ушел. Анка же осталась сидеть неподвижно.
А в конце коридора показался Иван Сергеевич. Он шел очень медленно и прошел мимо Анки, сначала не заметив ее.
«Что она делает? – подумала Галя в страхе. – Почему она не бежит?»
Но Анка, вместо того чтобы бежать, вдруг позвала Ивана Сергеевича.
Он обернулся и подошел.
– Кто меня зовет? Это ты, Анка! Почему ты здесь сидишь одна? Где Галя, где Ваня и кто это ушел отсюда сейчас?
Но Анка не ответила ему на это. Она встала и сказала доверчиво:
– Иван Сергеевич, мы выросли на ваших глазах, и всегда вы были нам другом. Я волнуюсь сейчас… Но если бы я вас не увидела, я, может быть, все равно пришла бы к вам, потому что вы добрый и вы все знаете, и вы должны сказать мне наконец, что выше – любовь или дружба? Никто мне не хочет этого сказать.
Он стоял и слушал Анку спокойно, чуть покачивая головой, словно решая что-то, словно с чем-то не соглашаясь.
Сколько раз пытала его этим вопросом юность, обращая повсюду к истине свой вечно вопрошающий взор!
Но и он не ответил Анке.
Он спросил:
– А что с тобой, Анка? Почему ты волнуешься, почему ты тут одна и почему ты задаешь мне этот вопрос, на который тебе никто не ответит и который ты должна решить сама? Никто за тебя его не решит. Это – не математика.
– Почему?
– Потому что и любовь и дружба бывают и выше, бывают и ниже друг друга. Ты можешь только спросить – что сильнее в твоем сердце. И загляни в него и посмотри.
– Ах, если так, – воскликнула с необыкновенной силой и страстью Анка, – то я никогда, – вы слышите меня, Иван Сергеевич? – никогда я не предам своей дружбы!
– Но ты говоришь так горячо, Анка, словно уже предала ее, – сказал Иван Сергеевич.
Анка удивилась его прозорливости.
И она сказала:
– Это – правда, и потому я плакала.
– А разве случилось что-нибудь, чтобы надо было тебе плакать? – спросил Иван Сергеевич.
Анка помедлила немного с ответом.
– Нет, конечно, ничего не случилось, – сказала она наконец. – Но если две девочки думают об одном и том же… Вы, конечно, понимаете меня, Иван Сергеевич?
– Ну, уж понимаю как-нибудь, – сказал с улыбкой Иван Сергеевич.
– Если вы понимаете, – повторила Анка, – если вы понимаете, то как они должны поступить?
– А как ты поступила? – осторожно спросил учитель.
Ему не хотелось прерывать эту странную исповедь, которую пришлось ему так неожиданно выслушать среди веселого школьного праздника.
И на этот раз Анка ответила не сразу. Может быть, в эту секунду признание показалось ей совсем нелегким, или она пожалела о нем, или, может быть, она снова мысленно слушала Ваню и повторяла его слова.
Но только она сказала чуть погодя:
– Он говорил мне такие слова, каких я еще никогда не слышала и каких никто в мире не говорил еще мне и, может быть, никогда не скажет – ведь кто это знает? И я подумала тогда…
Анка снова остановилась. Ей трудно стало говорить.
Иван Сергеевич немножко подождал.
– Что же ты подумала, Анка?
– Нет, – ответила она, – если бы я хоть подумала немножко… Но я не подумала даже. Я стукнула кулаком по этому подоконнику и сказала, конечно, сама про себя: «Анка, ты не любишь своей Родины, если ты не любишь его». Ну, и все… А как же иначе, – добавила она печально, – я б могла объяснить себе, что происходит со мной?
И тут Иван Сергеевич не мог удержать своего смеха и слез, запросившихся вдруг из глубины души.
– Это все ничего, – сказал он. – А почему же ты так печальна сейчас и плачешь все-таки?
– Я сама не знаю… Но если узнает другая девочка, которую я тоже люблю, потому что она мне друг, и которая потеряла отца на войне и которой так тяжело стало, что я даже боюсь за ее золотую медаль… И мы все беспокоимся за это, даже Ваня.
– Никогда не надо заранее пугаться за будущее, Анка, – сказал Иван Сергеевич. – А почему ты не думаешь о себе? Разве тебе самой не хочется получить золотую медаль?
– Хочется, – призналась она, – Но память у меня не такая. Не всякому ведь даются такие способности. Я не получу золотой медали.
– Ты не получишь золотой медали, – сказал он. – Я это знаю. Но ты будешь хорошо трудиться в жизни и ты будешь счастлива, девочка, потому что сердце твое – твоя золотая медаль.
И Иван Сергеевич вдруг привлек Анку к себе и поцеловал в лоб, как целовал однажды Галю, и даже неумелым жестом поправил ее спутавшиеся черные мягкие косы, вольно падающие на ее худенькие девичьи плечи.
И неожиданно чьи-то другие теплые руки с необыкновенной силой обняли Анку сзади.
Она обернулась.
Перед ней стояла Галя и молча тянула ее к себе. Лицо ее было в слезах. Она целовала Анку без слов. Взгляд ее глаз, чуть мерцавших в сумраке коридора, был нежен и тверд, и благодарность светилась в нем и покой.
Галя стояла рядом с Иваном Сергеевичем, не боясь его больше, словно приблизилась к нему душою, сразу увлеченная какой-то силой.
Анка вначале в испуге взглянула на своего друга. Откуда Галя могла прийти? Неужели она была все время рядом, все видела, все слышала за этой стеклянной дверью, о которой все забыли?
Да, она все слышала, и это она так крепко обнимала Анку, вырывая ее из рук Ивана Сергеевича.
Они обнялись. И, казалось, дружба их никогда не была так сильна и так верна в своем счастливом порыве. Они так крепко обнялись, что фигуры их смешались, и в полумраке школьного коридора учитель уже не мог различить, где Галя, где Анка.
Он смотрел на них с улыбкой, растроганный немного сам этим движением пылких сердец, и думал с радостью и с гордостью, что, может быть, и капля его души, так долго трудившейся над ними, течет в этом светлом источнике.








