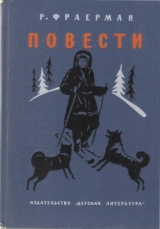
Текст книги "Дальнее плавание"
Автор книги: Рувим Фраерман
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Рувим Исаевич Фраерман
Дальнее плавание
I

Анка спала в ту ночь без сновидений и проснулась рано, почувствовав себя необыкновенно счастливой.
Она удивилась своей радости и посмотрела в окно, чтобы увидеть, не случилось ли что-нибудь в природе, что явилось причиной ее растроганности.
Была уже поздняя осень.
Из окна увидела она белый и ровный туман, в котором из-за реки поднималось солнце, волоча за собой полосу тонкого красноватого света. А в парке, сбегавшем к реке, среди многих уже обнаженных деревьев взор ее нашел несколько золотистых шатров легкой осенней листвы…
Не их ли красота наполнила ее таким волнением, не прелесть ли этой милой осени, не этот ли ранний блеск, рассеянный над рекой и городом? А если бы шел снег, если бы сверкала молния, разве ушла бы из ее сердца эта радость?
Нет!
Но вряд ли она понимала, что источник этой радости лежит в ней самой.
Ей стало немного стыдно, потому что, кроме деревьев и солнца, увидела она далеко за рекой высокие трубы, над которыми и днем и ночью не таял черный дым и куда так рано, завернув свой больничный халат в газету, ушла на работу мать – она теперь много трудилась…
Но Анка ничего не могла поделать со своим счастьем, которое еще во сне поселилось в ее душе. Она ничего не могла поделать, потому что была всего-навсего школьница, которой едва лишь минуло семнадцать лет.
И, распахнув настежь окно, она стала коленями на подоконник и снова отдалась своей радости, пока вдруг не вспомнила об отце. Он давно уже был на войне. Жив ли он? Вот уже целый месяц, как нет от него писем. И не о нем была ее первая детская непослушная мысль…
– Анка, что с тобой? – сказала она себе. – Ты ничего не помнишь, ты любишь только себя.
Ей стало еще более стыдно, чем за мгновение до этого. И, глядя на солнце, которое с таинственной дрожью поднималось из-за реки, она попросила у этого приходящего дня и любви, и мудрости, и понимания жизни, и разных вещей, которых, вероятно, много на свете.
Сегодня был первый день, когда она отправлялась в школу в последний, десятый класс.
В открытое окно ворвалось так много света, что, казалось, от него задвигались и тихо зашептались листья единственного дерева, росшего внизу под окном, и от него заколебался крошечный огонек, рожденный из простой веревочки, воткнутой матерью в пузырек с керосином.
Он горел всю ночь, забытый всеми…
Это при нем мать ушла на работу, при нем, наверное, думала об Анке… Он был, конечно, слаб, но и он улыбнулся ей.
Она увидела в дальнем углу на столе завтрак, приготовленный матерью, – несколько еще теплых лепешек и каплю прозрачного меда.
Анка съела мед и заглянула под блюдце, куда мать обыкновенно клала для нее записочку о том, что нужно помнить сегодня и что нужно сделать.
Так как они теперь виделись редко, то приходилось друг другу писать.
Мать часто писала Анке.
И на этот раз записочка лежала на месте. Но была она пространней, чем обычно, и вовсе не говорила о заботах семьи.
Анка подошла к окну и прочитала:
«Вчера я вернулась поздно, и ты так сладко спала, что разбудить тебя у меня не хватило силы. А мне хотелось так видеть тебя, моя Анка, и с тобой говорить… Я знаю, ты проснешься утром с радостью. Наступил уже день, когда ты отправляешься в школу в последний раз. Я долго думала об этом, дитя мое. Я вспомнила себя в этот день, и своих учителей, и школу, которая, как твоя, стояла на широкой и шумной улице. Я вспомнила, как девять лет назад отвела тебя за руку в первый класс и все боялась, чтобы ты не заблудилась на обратном пути. Как быстро пролетели эти годы! И у тебя уже осталось мало времени, чтобы слушать меня. И этот год не будет долгим. Запомни этот день. Та дверь, через которую ты выйдешь на дорогу жизни и, оставив берег, отправишься в дальнее плавание, уже приоткрыта. Посмотри в свою сумочку, добрый матрос, – так называл тебя часто отец. Не забыла ли ты что-нибудь? На этот берег дважды не сходят… Это твое детство, твой дом и твоя школа. Как часто нам с отцом было некогда! Приходилось много трудиться для нашей большой семьи, и школа была тебе матерью, семьей и товарищем. Учителя больше, чем мы с отцом, готовили тебя к жизни. Ты люби их, Анка. Труд их очень тяжел. Каждый из вас хоть раз в жизни доставил им огорчение… А сколько вас? И все вы приходите и уходите, а они остаются…»
Анка медленно отошло от окна, удивленная письмом матери.
Мать так никогда не писала.
И пока Анка одевалась, убирала комнату, стирала пыль с мебели – небогатая была мебель у Анки: кожаное кресло отца да зеркало, которое ей подарили сестры, – она все думала о матери с изумлением и нежностью. Как могла она среди стольких забот, ночью, при свете слабого огонька, вспомнить своих учителей и школу и угадать это милое утро и счастье, посетившее Анку?!
И Анка решила любить учителей больше, чем прежде. Наверное, она любила их не так, если мать об этом пишет.
Она погасила огонек и, захватив с собой одну только тетрадь, вышла на улицу. Но тут она решила не спешить, чтобы не прийти в школу слишком рано.
Она пошла по бульвару, по длинной и широкой дорожке, которую старый сторож еще не успел подмести.
Упавшие за ночь листья лежали на песке еще влажные, не успевшие почернеть – золотые и красные, такие, какими застала их последняя минута расставания с деревом.
Анка подняла несколько листьев, более ярких, чем другие, и положила их в свою тетрадь. А один лист, самый красивый, оставила, и на секунду взгляд ее залюбовался его красотой. При этом она тотчас же подумала о Гале, о своей любимой, самой верной подруге, с которой учились они вместе с первых лет. И вместе они собирали эти листья.
Но вот уже более трех месяцев, как она не видела ее, с той самой поры, как уехала с комсомольцами на летние работы в лес и в деревню, а Галя осталась в городе.
И, вертя в своих пальцах нежный, на длинном черенке кленовый лист, своим золотистым цветом напоминавший ей волосы Гали, Анка старалась представить себе ее лицо, уже несколько затуманенное этой долгой разлукой. И в памяти ее вставал облик изменчивый и все же чудесный, со взором задумчивым и внимательным, в котором постоянно таилась пытливая и беспокойная мысль.
Галя с самого первого класса училась лучше всех. Что бы она ни делала – писала ли формулы на классной доске, играла ли Машеньку в школьном спектакле, – искусство, живое и вдохновенное, всегда обитало в ее существе.
Ее дивные способности являлись гордостью учителей, товарищей и школы.
Ей первой прочили золотую медаль.
И это было тем удивительней для многих школьных подруг, что Галя жила в постоянном довольстве. Отец ее был важный, уважаемый всеми в городе человек, и Галя была одна в семье – отец и мать баловали ее как только было возможно.
Но, казалось, она сама ничего не теряла от этого – ни детской своей прелести, ни детской доброты.
В школе она была приветлива и ласкова с подругами. Ее обширная память приходила на помощь каждому с такой готовностью, что Галя привлекала к себе многие сердца.
Но только одну Анку называла она своим верным другом.
Как часто, бывало, раньше они вместе с Галей отправлялись кататься на длинной, покрытой черным лаком машине ее отца! Они уезжали за город далеко, к большой дубовой роще, осеняющей высокий берег реки, где весной перед экзаменами всегда распевали птицы и где над головой у девочек не было ничего, кроме легких облаков и неба.
И там они мечтали о том, как Галя станет великой актрисой.
Это были прелестные прогулки. И как давно это было!
Где теперь эта машина? Где отец Гали? Как она сильно изменилась с тех пор, когда стало известно, что отец ее погиб на войне!
Она стала худа и задумчива, и не все, не все ей удается теперь так хорошо, как прежде! И это все печально…
Так думала Анка, глядя на золотой осенний лист, цветом своим напоминавший ей волосы подруги, и глубокая жалость, как облако, закрыла ее утреннюю ясную радость.
Однако знакомый поворот на широкой улице вскоре вернул Анке ее прежнее состояние.
Она остановилась перед школой.
Вот ворота с двумя каменными столбами, вот двор, на котором за лето, пока не топтали его детские ноги, успела вырасти трава – и она уже пожелтела. А вот и школа.
Мать была права.
Как зеленый, милый берег детства, глянул на нее из глубины двора высокий дом с большими окнами. В нем стоял шум, подобный отдаленному звону лесных вершин, когда по ним проходит ветер. Это были крики множества детских голосов.
Анка не спешила войти.
Только сейчас за многие годы она внимательно посмотрела на этот дом, который столько лет был для нее заветной гаванью, откуда собиралась она отплыть в далекие края.
Маленькой девочкой взбежала она на его каменное крыльцо и вошла в его коридоры, где тогда еще пахло известью и свежим деревом, потому что школа была новая и построена ровно девять лет назад, в тот самый год, когда впервые мать привела за руку Анку к ее дверям.
Но Анка никогда не думала об этом. И только сейчас, вспомнив вдруг, она еще раз окинула пристальным взором светлые окна школы, глядевшие на восток, на запад и на юг, где было так много солнца. Она посмотрела на ее стены, на камни, из которых они были сложены, на полотнища лозунгов, прибитых над ее крыльцом.
Камень, пожалуй, был слишком темен и даже строг на вид – из простого камня были сложены ее крепкие стены, и суровостью, казалось, была крепка душа их строителя.
Но зато какая светлая была школа внутри! И в углу двора, где теперь стояли маленькие девочки, в первый раз пришедшие в школу, росли молодые липы. Они еще не успели облететь, и красноватые, почти алые листья их осеняли темный камень.
Кто посадил эти липы? Чья душа подумала об этих маленьких девочках, что сейчас стоят под их легкой тенью? Неужели душа того же самого сурового строителя?
И, обернувшись назад, Анка увидела протянутый над шумной улицей и чуть колеблемый утренним ветром знак.
Он был из железа, и белой краской было написано на нем: «Тихий ход. Осторожно! Школа!»
И все машины, с резиновым шумом пробегающие мимо по этой улице, убавляли ход, и водители их и те, кто сидел в машинах – были ли то женщины или мужчины, юные девушки или старики, – зорко глядели по сторонам и, кто знает, может быть, в это мгновение вспоминали и свою школу и свое собственное, уже далекое детство, его резвость, его неосторожный бег…
А кто подумал об этом? Кто повесил этот знак – знак величайшей нежности, заставив каждого прохожего подумать об ее, Анкиной, школе и об ее, Анкиной, жизни?
Неужели все тот же суровый строитель?
Пусть знак этот сделан из железа. Что из того! И железо может быть нежным, как бывает оно справедливым.
Народ! Суровый и нежный строитель! Разве не железом победил он сильнейшего в мире врага, сражаясь за ее, Анкино, счастье?!
Все эти мысли, возникшие перед Анкой внезапно, без зова, как бы прилетевшие к ней на крыльях, растрогали ее еще больше, чем это золотое утро, одарившее ее такой радостью, такой силой, такими надеждами и намерениями.
И она взбежала на крыльцо своей школы, готовая все любить и делать все, как надо.
II
Как надо встретить подругу, когда ты не видела ее уже более ста дней, когда ты была в лесу на работе, а она оставалась в городе?
Как надо встретить других своих подруг, не лучших и не худших в классе, где все для тебя новое – и стены, и парты, и классная доска, и дверь, через которую, может быть, войдут в их новую семью иные, новые волнения?
Решив все делать, как надо, Анка, однако, прежде всего огорчилась: Гали не было в классе, она еще не приходила.
Потом Анка забыла, что надо делать, и, визжа, как маленькая, носилась по своему новому классу, веселыми криками встречая подруг. И одних она целовала и обнимала, других целовала только, а третьим просто подавала свою смуглую, худенькую и затвердевшую на работе в лесу ладонь.
Потом, бросившись со всех ног между парт, она выбрала место для Гали и рядом с ней для себя, так как она умела думать о друге и тогда, когда его не было у нее на глазах.
Это место было не очень близко к столу учителя и не очень далеко, то самое место, на котором так удобно бывает во время скучного урока, согнувшись в три погибели, передать записочку назад, или пошептаться, или даже подсказать решение трудной задачи подруге, стоящей у доски.
Ни единый из этих школьных грехов не был чужд сердцу Анки, ибо она была обыкновенная девочка, которую и в толпе было бы трудно отличить от других, как трудно отличить в молодой березовой рощице то самое деревцо, на которое издали случайно падает взгляд и которое одно, благодаря игре света и листьев, делает всю рощицу такой чистой и юной, такой привлекательной, что невольно заставляет приблизиться к ней с улыбкой в сердце.
Анка с размаху села на скамью и громко крикнула:
– Стоп! Это место для Гали. Никого не пущу! Вы же знаете, что Галя любит сидеть в самом центре. А я всегда с ней рядом! Вы это знаете или нет?
Все это знали. И так как многие любили Галю – хотя, может быть, и не так, как Анка, но уважали ее все, – то никто с Анкой и не спорил.
Лучшего места для Гали нельзя было в классе найти.
Но самой Гали по-прежнему не было.
До звонка оставалось уже немного. Это начинало Анку тревожить.
Зря она вчера вечером не зашла к Гале. Она была бы теперь спокойна. Но все было некогда, и каждый раз, когда открывались двери класса, Анка живо поворачивала голову.
Но входила не Галя. Входили в эту дверь другие девочки.
Вошла Беляева Нина – девочка с длинным белым умным лицом, с двумя толстыми черными косами. Движения у нее были спокойны. Она всегда училась хорошо.
Вошла, в очках, стриженая, с пухлыми щеками, Вера Сизова, всегда нездоровая на вид и, несмотря на это, полная пустой энергии и суеты.
Она сказала:
– Приветствую вас, девочки!
Ее слишком тонкий голос против воли вызвал у Анки легкое раздражение.
Вошла девочка по фамилии Берман, с русыми косами, с деревенским робким лицом.
Вошли другие…
И хотя город, где училась Анка, стоял далеко в глубине страны и враг не доходил до него – только дважды налетали по ночам его самолеты, да и это было так давно, что у всех исчезли из памяти даже воспоминания о страхе; хотя величественный шум побед родного народа, как шум океана, уже омывал всю вселенную, но все-таки с каждой девочкой, что отворяла высокую дверь своей школы, входила в класс война в своем разном обличии, в своих разных подробностях.
Как мало стало портфелей, в которых раньше носили свои книги школьницы! У многих в руках были полевые сумки с ремешками, с железными кольцами, подаренные братьями или отцами, – сумки, которые, может быть, служили им на полях сражения.
Солдатское слово «точно» поминутно слетало с нежных девических губ. И многие девочки пришли в сапогах. Тут были маленькие сапоги, сшитые красиво, по ноге, из тонкой и мягкой кожи. Были более грубые, но все же ладные. Были сделанные и не по мерке, большие, сшитые из ноздреватой керзы.
А Берман пришла в босоножках на деревянной подошве. У нее не было никаких сапог, ни туфель. Она приехала в этот край издалека. Она прошла, громко стуча по классу своими деревянными подошвами, и села на самой последней парте, у стены. Робкое лицо ее, с которого не сошли еще веснушки, и тихий взор ее серых глаз были печальны. Недавно у нее убили двух братьев. Но и сквозь печаль из ее глаз с неудержимым любопытством глядела юность на мир.
И Вера Сизова принесла в класс совершенно удивительную вещь – стеклянную ручку, сделанную в форме птичьего пера, сквозь которую можно было смотреть на солнце. Она казалась такой хрупкой, что ею страшно было писать. Но Вера говорила, что если эту ручку ударить даже о камень, то и тогда она не разобьется, что такое же точно стекло вставлено в фонарь боевого самолета, на котором летает брат. Он подарил ей эту ручку. И сквозь это волшебное стекло следит он в небе врага, и лучше стали защищает оно его со всех сторон. Даже осколки зенитных снарядов не оставляют на нем никакого следа, только слегка белеет, будто покрывается снегом, его прозрачная поверхность.
Анка взяла из руки Веры эту ручку и приложила ее к глазам.
И верно: она увидела солнце, и школьный двор, и золотую листву на бульваре, и светлый мирный воздух этого осеннего утра, в котором медленно двигалась по асфальтовой дорожке знакомая фигурка Гали.
Это было самое радостное, что увидела Анка в это утро.
«Не странно ли это, – подумала она, – что сквозь то самое стекло, сквозь которое летчик первым старается увидеть врага, я первая увидела друга!»
Анка засмеялась, потом бросилась вниз по лестнице, оставив эту удивительную ручку всем, кто хотел сквозь нее посмотреть на широкий свет.
Она встретила Галю на крыльце.
И у Гали в руках были осенние листья, которые она прижимала к себе.
Подруги обнялись крепко.
Анка несколько раз поцеловала Галю, все так же громко смеясь.
Галя же не смеялась вовсе, хотя тоже была очень рада своему другу.
– Представь себе, – сказала Анка, – я увидела тебя далеко сквозь небьющееся стекло, которое принесла Вера.
– Как ты меня увидела? – спросила с удивлением Галя.
– Сквозь небьющееся стекло, – повторила Анка и снова поцеловала Галю. – А почему ты так поздно пришла? Я уж тревожиться начала.
– Я шла длинной дорогой, – сказала Галя и добавила: – Но довольно, Анка, целоваться – дай мне лучше просто на тебя посмотреть.
Они постояли немного на крыльце, разглядывая друг друга внимательным взглядом.
И Галя увидела оживленное, смуглое лицо Анки, с которого еще никак не сходили светлые отблески того счастья, с каким Анка проснулась утром. Оно против воли жило в горячем и открытом взгляде ее черных глаз.
Анка же увидела иное лицо. Большой выпуклый лоб, над которым, как тончайшие лучи, постоянно светились и блестели волосы – золотые нити, которые бегут от звезд. Синие глаза были глубоки и выражали постоянную привычку думать. Рот был нежен. Черты лица нервны, подвижны и сочетались в той дивной прелести, которая невольно останавливала взор.
Взглянув на это лицо, о котором так часто говорили все девочки в классе, Анка, никогда не замечавшая его красоты, ибо любила подругу сердцем, увидала в глазах Гали какое-то иное выражение, то самое, какое светилось и в глазах простодушной девочки Берман. То было затаенное горе – печаль.
Анка подумала: «Что же это я так счастлива, в то время как друг мой печален?»
И Анка отвела свой взгляд от подруги, ибо ей было стыдно за свою радость.
Она спросила у Гали про отца, нет ли каких-нибудь новых известий.
– Так как, – сказала она, – в тех извещениях, что присылают родным, бывают удивительные ошибки.
Чем еще могла она утешить друга?
Галя ничего не ответила.
Она только покачала головой. Потом с силой толкнула тяжелую школьную дверь, туго ходившую на пружинах.
И вместе с Анкой они вошли в свою школу: одна – с затаенным счастьем, другая – с затаенной печалью.
III
Как бы ни было велико горе в твоем сердце, но когда ты входишь в свою школу, печаль твоя остается на пороге.
Ты видишь совсем маленьких девочек, которые длинной шеренгой попарно спускаются с лестницы. Они еще держатся за руки и робко идут куда-то за учительницей. А куда идут – неизвестно…
Ты видишь девочек постарше, с косами, заплетенными на кончике в одно кольцо. Они еще прыгают на одной ноге возле своих классов и что-то кричат друг другу и смеются, а одна, отвернувшись к стене от всех, уже о чем-то плачет. А о чем – неизвестно…
Ты видишь девочек еще старше, которые уже не прыгают и не держат робко друг друга за руки, а ходят свободно по коридору, и лучистые глаза их сияют, как сияли недавно у тебя, и они о чем-то беседуют громко. А о чем – неизвестно…
И этот шум подрастающей жизни, раздающийся во всех этажах, словно шум потоков, спускающихся весною с гор, окружает тебя со всех сторон, и ты погружаешься в него, точно в высокую траву или в волны прибывающего рассвета… И ты счастлив, потому что ты человек.
И потому, что ты человек, тебе хочется оглянуться назад и посмотреть на те места, откуда совсем еще недавно унесло тебя на своих крыльях летучее время.
– Анка, – сказала Галя, шагая со своим другом по коридору, – зайдем в девятый класс и посмотрим, кто сидит теперь на наших старых местах.
И Анка тотчас же согласилась, хотя и удивилась немного этому странному желанию. Она предпочитала смотреть всегда вперед. Она была еще так молода, что казалось, будто позади нет никаких воспоминаний, и настоящее представлялось ей самым лучшим временем.
Они подошли к девятому классу, открыли знакомую дверь и заглянули внутрь.
Да, все как будто было знакомо тут – большая доска с отломанным углом, немые карты на стенах… А все же что-то вдруг показалось им чужим в старом классе. На их местах сидели другие, незнакомые девочки.
Они с удивлением посмотрели на подруг, и одна из них загородила им дорогу.
– Вы ошиблись, девочки, – сказала она, – вы не туда попали.
А другая воскликнула со смехом:
– Посмотрите, девочки, это Галя Стражева пришла к нам! Она, наверное, осталась на второй год в нашем классе.
И многие захохотали громко, потому что Галю знали все в школе и знали, как невозможна и как смешна была эта мысль.
Засмеялась и Анка.
– Да, да, мы ошиблись, – сказала она, быстро захлопывая дверь.
Они заглянули и в восьмой класс. И здесь их встретили с удивлением.
Но уже другая девочка, чьи глаза так сияли, загородила им дорогу.
– Вы, наверное, ошиблись, – сказала она. – Это восьмой класс.
Однако тут они постояли подольше в дверях, глядя на свои старые парты.
Еще более, чем в прежнем классе, вдруг поразило их нечто новое.
Что это?
– Ах да, – сказала Галя, – совсем нет мальчиков.
– Да, да, совершенно верно, – сказала с удивлением Анка, – ведь мы в этом классе еще учились вместе. Это все-таки странно – совсем нет мальчиков.
И Анка, которой казалось, что у нее нет никаких воспоминаний, вдруг вспомнила самого незаметного из незаметных мальчиков, самого забытого, который почему-то пришел ей на память.
Он сидел позади, через парту, и однажды дал ей списать сочинение. Он был молчалив. И только с Анкой разговаривал чаще, чем с другими, и только с Анкой возвращался домой по длинным бульварам над набережной.
Но он всегда говорил о Гале с восхищением, и, может быть, только поэтому пришел он на память Анке. Его звали Ваней – простым и милым именем, которое нравилось Анке.
Она вспомнила мальчика и спросила о нем у Гали.
Но Галя уже забыла его лицо.
– Нет, все-таки они славный народ, мальчишки, – сказала Анка с грустью. – Посмотри, Галя, нет ни одного среди нас… Кто на войне, кто учится в другой школе… Где вы, милые товарищи?
Они посмотрели вдоль широкого коридора поверх движущейся толпы школьниц и увидели всё девочек с косами и без кос, с лентами и без лент, и ни одной стриженой, буйной мальчишеской головы, которая бы, как прежде, мелькнула перед их глазами.
– А мне жалко, что нас разделили, – сказала задумчиво Галя.
– Это потому, – заметила Анка, – что ты училась лучше их и всегда спорила с ними. Ты была сама почти как мальчик. Хотя правда, что говорить, с мальчиками было веселей. Но зато тише стало на уроках.
– Это верно, что тише стало, – сказала Галя, – а все-таки мне бы хотелось быть мальчиком. Все они сильные, все они теперь на войне. И будь я юношей, я, может быть, стояла бы рядом с отцом там, под огнем, в ту минуту, и, может быть, закрыла бы его от смерти.
– А разве среди девушек нет сильных? – спросила Анка. – Разве мало девушек на войне? И разве они не такие сильные, как юноши, и, может быть, даже лучше их? Нет, хорошо быть девочкой!
– А что в том хорошего? – спросила Галя.
– А то, – ответила Анка, – что, во-первых, я хочу быть похожей на мать. А во-вторых, я умею делать все, что делают мальчики, и при этом я еще девочка.
И Анка, распахнув широко двери своего класса, громко крикнула:
– Хорошо быть девочкой!
Все взглянули на нее с удивлением и тотчас же увидели Галю. Подруги подошли к парте и сели на свои места.
Все собрались вокруг Гали, и каждая спешила с ней поздороваться.
В этом желании не было ни подобострастия перед лучшей ученицей в школе, ни тайной зависти, прикрытой лестью. Никто не мог бы сравниться с Галей в ее способностях к ученью, в ее маленькой славе. Но, может быть, это было то бескорыстное чувство радости, какое испытывает каждый, когда чужая, пусть даже маленькая, школьная слава, с которой стоишь ты рядом, греет и тебя немножко.
Так самый безвестный житель города больше, чем все другие, гордится славою своих сограждан.
И девочки гордились тем, что не в чужом, а в их классе с первых лет училась Галя Стражева. Но сама Галя не понимала, чем привлекает она к себе подруг, почему они так к ней расположены. Она принимала это как дар, все тот же дар природы, что и красота.
Галя огляделась вокруг и увидела, что хотя это новый класс, но что он уже ее класс, где ждут ее семена новых знаний; что и в нем светло и потолок высок; что это только новая комната, где встречают тебя все те же старые твои спутники детства, которые улыбаются тебе дружелюбно и, может быть, смотрят на тебя с надеждой и гордостью; что это только мера, которой отмерена новая часть твоей жизни, лишь более долгая, чем минута, что отмеряют над твоей головой часы; и что в этой новой части жизни тобой еще ничего плохого не сделано, еще ничьих надежд не обманула ты – ни надежд учителей своих, ни собственных своих надежд, что стоят перед твоим взором, как дальние сверкающие горы; и ты счастлив не потому, что ты девушка или юноша, а потому, что ты человек.
И Галя, и робкая девочка Берман, и другие, в чьем сердце, быть может, еще утром таилась печаль, забыв на время о своем горе, почувствовали себя счастливыми, такими же счастливыми, как Анка, как все, кто собрался сегодня в дорогу.
И звонок, громко прозвеневший в коридоре, показался многим сигналом, который возвещал им начало пути.








