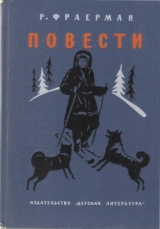
Текст книги "Дальнее плавание"
Автор книги: Рувим Фраерман
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
XI
Пусть те, кто случайно прочтет эту повесть, считают автора ее неправым или просто безумцем, если он скажет, что юность не так беспечна, как мы думаем об этом в старости, что наша юная пора, которая придает очарование всему и украшает все, что окружает нас, придает ему и чрезмерную, хотя и светлую печаль; что никогда потом сердце наше, отвердевшее в испытаниях и пережитых горестях, не бывает так исполнено внимания к самому тихому шепоту совести, как в то простое и трогательное время; и что никогда потом не было в жизни у Гали более страшной минуты, чем та, когда, распахнув высокую белую дверь, в класс вошел Иван Сергеевич.
Он вошел, как обычно, чуть прихрамывая, без тросточки и слегка помахивая на ходу классным журналом. Он держал его на вытянутой руке за самый уголок, как держат старую книгу, уже известную давно и прочитанную, как держат вещь, к которой уже столь привыкли пальцы, что перестали чувствовать ее вес. Страницы журнала были уже кое-где растрепаны, стали толще немного за это долгое время ученья.
И каждое имя, записанное в этой книге, которую все школьники издавна называли «книгой судеб», было известно ему.
Как по раскрытой карте путник узнает всю местность – ручьи, дороги и болота, преграждающие ему путь, – так, раскрывая эту книгу, узнавал учитель каждую из этих девочек, что дружно поднялись ему сейчас навстречу. Она не была для него ни списком имен и фамилий, ни собранием отметок за поведение и успехи. Под каждым именем вставало живое лицо, душа, в которой пытался он найти не столько пороки и недостатки, сколько искал и угадывал зачатки тех добрых сил, которые потом понадобятся человеку.
Он любил читать эту книгу и подолгу размышлять над ней.
Он всякий раз с удовольствием входил в этот класс. Они не огорчали его почти никогда. Они были к нему так добры, что свой тяжкий ежедневный труд ощущал он как ежедневную радость. Не каждый учитель мог бы подобное чувствовать.
И только одна из этих девочек, которую он любил больше других и на которую надеялся больше, чем на всех других, заставляла его часто задумываться.
Он начинал тревожиться за ее судьбу.
И все же он верил в ее всегда пытливую мысль, в ее резвую память, в ее живую душу. Что случилось с ней? По всем предметам она, как прежде, училась отлично. Он это видел в той же «книге судеб». И только против него одного подняла свое маленькое восстание.
Вот уже целую четверть она всячески избегает его уроков.
И все же он ни с кем не поделился своими мыслями и своим огорчением. Даже с Анной Ивановной, которую считал своим другом. И не вызвал к себе матери Гали и никому не пожаловался.
Он привык воевать только с врагами, а детей привык любить и сам исправлять их пороки.
Едва только открыв дверь, он еще с порога класса повернул свое лицо, изборожденное шрамами, и обратил свой взгляд, скрытый за темными стеклами, в ту сторону, где сидела Галя.
Она была на месте. Но как она была бледна!
Он попросил всех сесть, а ей дружески улыбнулся.
Она опустила голову и побледнела еще больше.
Он сел за стол и подумал: «Сердце ее не испорчено. Оно только слабо».
– Ну-с, так, – сказал он своим громким спокойным голосом. – Мы не будем сегодня рассказывать ничего, а начнем спрашивать тех, чьи знания для меня еще не ясны. Времени у нас для этого хватит – целых два часа.
– Значит, и следующий урок будет история? – спросила, задыхаясь, Галя.
– Да, Галя Стражева, да, – ответил он.
В классе наступила такая тишина, что слышно стало, как каждый дышит, как движется ветер за окном и как в паутине, которую паук соткал в углу под потолком, забилась муха, каким-то чудом оживленная струей теплого воздуха, поднявшегося от жарко натопленной печки.
Иван Сергеевич удивился этой необыкновенной и тревожной тишине целого класса.
Он обвел пристальным взглядом лица многих девочек и увидел в их глазах выражение общей неловкости и испуга.
Блестящий взгляд Анки был беспокойней, чем у других, и блуждал по всем направлениям. На Галю Анка не поднимала глаз. Ей страшно было посмотреть в лицо своему бедному другу.
Иван Сергеевич, хорошо знавший эти взгляды детских глаз, то внимательных, то рассеянных, то доверчивых, то лукавых, подумал на этот раз: «Нет, они не о себе тревожатся».
– Анка, – позвал он, – подойди к столу.
Ему пришлось повторить ее имя, так как Анка даже не могла понять в первое мгновение, что это именно ее вызывает Иван Сергеевич. Она все время думала о Гале.
Анка подошла к столу и с удивлением посмотрела на Ивана Сергеевича. Ведь он же должен был вызвать Галю.
– Почему ты так удивлена? – спросил Иван Сергеевич. – Ведь я уже давно тебя не спрашивал. Вот и расскажи нам, что ты знаешь о японской интервенции на Дальнем Востоке в эпоху гражданской войны.
Анка пришла наконец в себя. Но все же долго рассказ ее носил следы ее внутреннего волнения и рассеянности. Она отвечала хуже, чем обычно.
Иван Сергеевич покачал слегка головой и поставил свой особый значок в маленькой памятной книжке, которую постоянно носил с собой. Он никогда не ставил отметок при всех.
– Ну что же, иди, – сказал ей укоризненным голосом Иван Сергеевич. – Ты всегда мне отвечала лучше.
– Простите, Иван Сергеевич, – сказала Анка. – Но если бы вы спросили меня через полчаса, вы были бы гораздо более довольны моим ответом. Я немного рассеянна сейчас.
Она сказала это чистосердечно, так как с Иваном Сергеевичем никто не лукавил. И эта непринужденность в беседах с учителем, к которой он их приучал, была для них как бы только первым дуновением того вольного духа науки, какой ожидал их так близко за иными дверями и в иных стенах – в круглых аудиториях университетов.
Анка села.
А Иван Сергеевич вызвал к доске еще нескольких девочек, чьи лица показались ему более спокойными, чем у Анки.
Потом он вызвал Нину Белову и долго слушал ее толковый, уверенный и, может быть, лишь немного холодный рассказ.
И только Галю он ни разу не назвал по имени, не задал ей ни одного вопроса.
Он давал ей время.
XII
Но никто, однако, лучше самой Гали не знал, как бесполезно было для нее сейчас время и какое страдание причиняло оно ей. Ожидание своего наказания было для нее так страшно, что если бы Иван Сергеевич вызвал ее сейчас и осудил бы при всем классе, при всех друзьях, и поставил бы ей самую плохую отметку, и вся школа посмеялась бы над ней, сердце бы ее не так болело.
Но он был добр к ней и снисходителен.
И это было больнее всего. Ожидание возмездия казалось хуже, чем самое возмездие. Так что же это за странное существо – человек с его беспокойной совестью?
И пережить еще один такой час показалось Гале выше ее сил.
Поэтому, когда Анка после урока истории, снова придя в свое обычное расположение духа и радуясь неизвестно чему, сказала со своим необыкновенным простодушием и верой, что он не спросит ее, Галю, сегодня, а может быть, и завтра и послезавтра, что гроза миновала и теперь все будет хорошо, то Галя почти неприязненно посмотрела на своего друга.
Что понимала счастливая Анка в грозах, проносящихся над головой человека!
Галя, незаметно взяв с вешалки, стоявшей в классе, свою шубу и собрав книги в сумку, потихоньку выбралась в коридор.
Она решила бежать. Да, бежать! Уйти совсем, оставить школу, чтобы никогда больше не возвращаться в нее и не испытывать ни сейчас, ни завтра, ни послезавтра тех терзаний и укоров души, которые придумал для нее Иван Сергеевич.
Стараясь не встретиться ни с кем из своих подруг, она отправилась в тот уголок, где еще совсем недавно стояла рядом с Анкой на подоконнике.
Теперь здесь никого не было. Но все же и сюда мог кто-нибудь заглянуть и спросить ее, почему она не идет в класс.
Она бесшумно приподняла засов на стеклянной, всегда запертой двери и вышла на пыльную, забытую всеми площадку, где старая каменная плитка, оторвавшаяся от пола, тихонько зазвенела под ее ногой.
Галя здесь никогда не была.
Стеклянная дверь вела еще в какой-то другой коридор, тоже поворачивающий под углом.
Здесь можно будет подождать в полутьме, когда в классах начнутся уроки и в школе наступит тишина, та тишина, которую всего лишь час назад Галя слушала за дверью своего класса. Теперь она не будет ее слушать с таким страхом. Теперь для нее все равно, какой урок будет следующий – история, или химия, или что-нибудь другое.
Такое же маленькое окно с широким подоконником было и тут, на площадке, и так же видны были Гале и каменные ворота школы, и улица, и железный знак над ней, и школьный двор, весь занесенный снегом, где широкая тропинка вместе со многими следами хранила и следы ее собственных шагов.
За дверью загремел звонок, глухо донесшийся до слуха Гали, и после гула и топота множества ног наступила наконец та тишина, которую больше не хотела слушать она. Так путник, удаляясь от моря и перевалив за гребень приморских гор, перестает вдруг слышать голос прибоя, который, казалось, до того ничто не могло заглушить.
Стало тихо вокруг. И бушевало одно только сердце Гали.
Вдруг громкая музыка наполнила всю улицу, и от звуков ее, казалось, закачался железный знак с белой надписью: «Тихий ход. Осторожно! Школа!» И черные липы во дворе, державшие на ветвях своих снег, уронили его серебряной пылью и украсили ею густой холодный воздух, заставив его засверкать.
Мимо ворот прошли солдаты. Одни несли противотанковые ружья, сгибаясь под тяжестью их длинных стволов, другие шли легко, неся только винтовки за плечами или же автоматы, которые, подобно какому-то странному украшению, висели у них на груди. Потом проехали на резиновых шинах пушки, укрытые брезентом, потянулись санитарные повозки.
А сзади и спереди колонны бежали быстрые мальчишки, вечные спутники солдат. «Счастливые мальчишки!»
Часть отправлялась на фронт.
«Счастливые мальчишки!» – снова подумала Галя.
И сердце ее затрепетало, как маленькая птичка, зажатая в ладонях охотника.
Так вот о чем она думала каждый раз, когда с печалью и гордостью вспоминала геройскую смерть отца, когда так пытливо расспрашивала Ваню, знает ли он, что такое победа, когда хотела быть мальчиком, шагая с Анкой по коридору школы, когда завидовала своим сверстникам, которые, может быть, уже там совершили все подвиги своей жизни, когда говорила всем друзьям, что хочет быть сильной и сама найдет выход.
Вот она нашла его.
Там, а не здесь ждет ее слава, ибо там, а не здесь совершаются те подвиги, что вечным озаряются светом.
Она не будет, подобно Анке, мечтать о том, что хочет умереть, как Зоя.
Она умрет!
Она умрет, совершив, может быть, не один и не два, а множество подвигов, которые Родина запишет в свою историю, в ту самую историю, которую с таким удивительным упрямством не хочет она выучить как следует и от которой она прячется здесь.
Но это совсем неважно.
Пусть тогда Иван Сергеевич думает о ней что угодно. А матери она напишет с дороги. Правда, это ее огорчит. Но что делать! Разве она сама не отдает весь труд свой и всю свою любовь на это же самое дело?
Но довольно размышлять. Надо действовать. Так говорил Ваня. «Действовать!» – снова подумала Галя, когда наконец исчез последний мальчишка и пропал из глаз последний солдат, несущий на плечах свое тяжелое оружие, и светлый гром его побед и славы, летящий в медных звуках труб, укатился далеко от школы, далеко – за пределы слуха Гали.
И снова стало тихо. Галя мысленно уже прощалась со школой, но сердце как будто еще не хотело прощаться. Еще ухо слушало прилежно каждый звук, еще глаза не могли оторваться от предметов.
В закрытых классах, за белыми высокими стенами изредка раздавалось густое короткое гуденье, подобное жужжанию пчел, словно там, в глубине, как в ульях, творился какой-то дивный труд.
И Галя попрощалась и сказала тихо:
– Прощайте, классы.
И липы стояли на дворе тихие, без листьев, убранные пышным снегом, и глядели на окна школы и на Галю со знакомой улыбкой.
И с ними она попрощалась и тихо сказала:
– Прощайте, липы.
И взор ее с печалью задержался на их раскинутых ветвях, где декабрь веселым узором развесил свой серебристый иней.
И вдруг увидела под теми же самыми липами одинокую фигуру. Она стояла неподвижно на снегу посредине дорожки. Галя сквозь пыльное окно вгляделась в фигуру и вдруг узнала Ваню. Это был он, в своей старой фронтовой шинели, в фуражке летчика с голубым околышем. Это он стоял на протоптанной детскими ногами тропинке и чего-то ждал и к чему-то приглядывался, словно искал на ней чьи-то давным-давно исчезнувшие следы.
Он поднят голову и посмотрел на окна школы.
И Гале показалось, будто он кивнул им головой, будто и он попрощался с ними. Ведь он так скоро уезжает!
Но нет! Он не прощался с ними. Так какая же сила заставила его сюда прийти?
Галя вдруг вспомнила вчерашний вечер и чугунную решетку дворца, и сердце ее невольно насторожилось и снова как бы чуть вздрогнуло.
Она удивилась этому движению своего сердца и подумала: вот кто бы ей мог помочь! Он взял бы ее на свои грозные крылья и унес бы туда, где совершаются самые гордые подвиги жизни… Разве не чинил он для нее карандаши, не дарил ей хорошую бумагу?
Но нет, он не прощается. Галя это хорошо видела.
Он пришел поздороваться и сказать своей старой школе:
«Здравствуй!»
Он вдруг решительно направился к крыльцу.
Галя отодвинулась от окна, словно сквозь это пыльное стекло кто-нибудь мог увидеть ее.
Он ее не видел.
Но она сама начисто вытерла перчаткой стекло.
Ей вдруг захотелось видеть все, что он сделает, зачем он пришел сюда и какая сила его привела.
Ваня взошел на крыльцо.
Она перебежала на другую сторону коридора, где начиналась лестница и под ней темными рядами стояли за барьером вешалки.
Ваня вошел уже в школу.
Он вытер от снега сапоги – то были большие солдатские сапоги, сшитые из грубой керзы, – и потихоньку, как входят в тишину читальни или музея, стал подвигаться вперед.
Старая уже женщина, тетя Маша, всегда сторожившая вешалку, остановила его:
– Гражданин, куда вы идете? Товарищ военный, здесь школа.
Он робко остановился и растерянно улыбнулся ей:
– Тетя Маша, вы меня не узнаете разве? Я ведь здесь учился. Я Ваня. Ваня Полосухин. Не помните меня?
Тетя Маша вышла на середину, подошла к нему, повернула его к свету лицом.
Она не узнала Ваню. Но взяла за руку, как будто хотела приблизить его к себе, увести в свою каморку, что таилась под лестницей.
Но Ваня стоял неподвижно, и все та же теплая и чуть растерянная улыбка бродила на его губах.
– Да, да, Ваня Полосухин, – сказала тетя Маша. – Посмотреть пришел, потянуло, значит, после фронта, как к матери. Ну, смотри, смотри. Много у нас перемен.
– А учительская где теперь? – спросил он.
– Учительская теперь не тут.
– А физический кабинет где?
– И физический кабинет не там, где был. И физик наш Павел Иванович, что опыты вам там показывал, умер. Стар очень стал, не выжил, умер. Большие перемены…
– Большие перемены, я вижу… – сказал Ваня тихо. – Значит, умер Павел Иванович и физический кабинет не там. И девочки здесь только учатся.
– Да, девочки, – сказала тетя Маша и вздохнула. – Девочки… Хоть мне-то легче с ними, вешалки у них попришиты, аккуратней мальчишек, – у тех-то вешалку разве найдешь? У всех пооборваны, за петлю все вешала. А скучаю по вас, родные. Хоть бы без вешалок вернулись бы к нам. Много вас было…
Ваня засмеялся и обнял вдруг старую тетю Машу. Потом спросил:
– А Анна Ивановна здесь?
– Анна Ивановна все здесь. Тут вот, наверху, в комнате своей живет.
И тетя Маша показала рукой на лестницу, где, склонившись над перилами, стояла Галя, слушая их разговор.
Галя отпрянула назад и бесшумно побежала по коридору на площадку, где снова зазвенела под ее ногой каменная плитка.
На этот звук совсем рядом с площадкой открылась низенькая дверь, и в коридор выглянула Анна Ивановна.
Галя замерла на месте, прижавшись в самый угол своей стеклянной клетки.
Но Ваня уже поднялся по лестнице и шел по коридору, стараясь не шуметь и ступать легко в своей тяжелой обуви.
Анна Ивановна пристально смотрела на него.
Он шел все с той же робкой, как бы виноватой улыбкой, и шаги его были несмелы, словно он боялся, что его не узнают, не поймут, не пустят на этот берег, населенный уже другими и который стал уже иным, далеким для него краем.
Анна Ивановна, широко раскрыв дверь, стояла на пороге.
Он подошел к ней и приветствовал ее по-военному, а потом снял фуражку – может быть, для того, чтобы она могла легче его узнать.
Она все смотрела.
Много детских имен, и черт, и лиц жило в ее памяти. Но память так быстро старела в эти нелегкие годы, быстрее, чем сердце, постоянно пылавшее неугасимым огнем. Помнит ли она его, маленького пионера Ваню Полосухина?
Он хотел заговорить. Она рукой остановила его:
– Не называйте своего имени. Подождите немножко. Я назову вас сама.
Она еще секунду задумчиво смотрела на него, потом засмеялась, вспомнила:
– Полосухин, Ваня, это вы?
Она протянула ему руку, и он поцеловал ее нежно, как целовал руку своей матери.
Она, взволнованная, стояла на пороге своей комнаты. Лицо ее было растроганно. Седые волосы блестели вокруг лба.
– Значит, вы не забываете нас там, на войне?
– Почему вы зовете на «вы», Анна Ивановна? – спросил Ваня. – Вы говорили нам всем «ты», когда мы были меньше.
– Но теперь не дотянешься до вас, все вы такие большие стали на войне, – сказала она с грустью и как бы с радостью одновременно. – Ведь вы уже офицеры. А Швытковского помните? И он был у меня. Он танкист, а я его не узнала…
И Ваня подумал:
«Швытковский… Значит, не я один хожу по этому заветному краю».
– А как вы узнали меня, Анна Ивановна? – спросил он.
– Швытковского не узнала, – повторила она, словно укоряя себя за это снова и снова. – А вас узнала по глазам.
– Неужели по одним глазам? – спросил Ваня.
– Да, вы обманывали меня, а глаза такие честные. По ним узнавала, что урока не выучили. Вот хотите, я вам тетрадки ваши покажу? Только подождите немножко.
Она на минуту ушла в глубину комнаты и вернулась. В руках у нее была пыльная стопка тетрадей, перевязанных тонкой бечевочкой.
Она развязала ее.
– Я каждый год оставляю себе хоть одну письменную работу. Это память моя о вас. Вот пятый класс, вот шестой, вот седьмой. Вот Швытковского тетрадь. Он танкист теперь, герой. Я не узнала его. А заглянула в тетрадку – узнала. Вот тетрадка Гали Стражевой. Как красиво она писала! Лучше всех! Вот Анкина тетрадь – сочинение прекрасное, а целая гора ошибок. Вот и вы, Полосухин Иван.
Она развернула синюю пыльную тетрадку, заглянула в нее с нежностью и положила к себе на ладонь.
– Вот-вот, – сказала она, – а в деепричастных оборотах вы всегда были слабы. И перед «что» никогда не ставили запятых. – Она засмеялась и добавила: – Я совсем как учитель Сысоев у Чехова. Вы, наверное, помните этот рассказ?
А он совсем не помнил рассказа, но тоже заглянул в свою тетрадку, откуда неверными, шаткими строчками посмотрело на него его недавнее детство, которое с первых лет водила за руку эта уже седая учительница.
О, как хотел бы он вернуться в школу, снова на свою старую скамью!
И молодые, сильные руки его, так верно державшие штурвал самолета, никогда не дрожавшие в бою, чуть задрожали сейчас. И Анна Ивановна была тоже взволнована.
В открытую дверь видна была ее тихая комнатка со скромной зеленью, растущей в ящиках на окнах, – вся белая, с белой одинокой кроватью, и даже дрова, сложенные у черной железной печурки, дававшей такое короткое тепло, были тоже белые – березовые круглые поленья, покрытые серебристой корой.
– Анна Ивановна, – сказал Ваня, – позвольте мне что-нибудь сделать для вас. Позвольте наколоть вам дров. Вам ведь это тяжело. А для меня это будет радость. Я скоро уеду обратно.
– Что вы, голубчик, зачем?.. – сказала она, и на глаза ее, черные, зоркие, казавшиеся многим детям такими строгими, наплыла слеза.
Анна Ивановна плакала, стоя на пороге своей светлой одинокой комнаты, открытой настежь, как ее душа.
Что ответил Ваня, Галя уже не слышала, и не видела больше ничего. Она опустилась на пол, на каменную площадку, в пыль, и закрыла руками лицо. Она не могла теперь так легко распрощаться со своей школой, как прощалась она с ней всего лишь несколько минут назад, стоя на этой каменной площадке и бросая последние взоры на белые классы, оставшиеся теперь за ее спиной, и на черные липы с ветвями, покрытыми снегом.
Но и вернуться сейчас она тоже была не в силах. Как войдет она в класс? Что скажет? Как обманет она надежды всех: и друзей, и учителей, и матери?
Не лучше ли все-таки бежать, не лучше ли совершить тысячи прекрасных и гордых подвигов, чем подвергнуть свою собственную гордость такому позору?
Галя осторожно поднялась на ноги и снова поглядела в коридор.
Там уже никого не было: ни Вани, ни Анны Ивановны, и дверь в ее комнатку была плотно закрыта.
А между тем уже гремел звонок за спиной у Гали, и тишина сменялась веселым гулом.
Она бросилась вниз по незнакомой черной лестнице, которая вела ее из школы бог весть куда.
Она летела по каменным ступеням, промерзшим и скользким, по которым никто не ходил. Они привели ее к черному ходу.
Она открыла дверь и выбежала на задний двор своей школы. Она не узнала его. Весной они, бывало, гуляли здесь с Анкой на переменах, и маленькие девочки толпились тут, с визгом носясь вокруг стройных стволов школьных лип. И Галя с Анкой любили весной наблюдать, как на этих самых липах, на их шершавых ветвях появлялись первые листья, любили наблюдать рождение их, и красоту, и первую тень от них, ложившуюся на землю. Теперь во дворе были сложены на снегу и под липами огромными штабелями дрова. Они возвышались у забора, они лежали грудой – целые горы дров, которые Анка своими руками сбрасывала с машины на землю и складывала вместе с другими в стройные штабеля здесь, у этих лип. А сколько еще таких же, как у Анки, детских загорелых рук за рекой, на заводе, и повсюду, по всей стране, точили железные стаканы, сверлили детали для танков, делали мины, лили свинец и железо, вязали и шили, печатали книги, пахали и сеяли и собирали на нивах недремлющих хлеб, по маленькой капле, может быть, не больше той, что несет в хоботке своем полевая пчелка, слагали свой труд у подножия высокой победы!
А Галя не знала даже, может ли она из этих дров, которые обогревали ее в классе и у которых она остановилась сейчас, тяжело переводя дыхание, может ли она назвать своим хотя бы одно полено.
Ведь она так часто убегала домой, как только подходила машина.
Так разве не должна она заплатить за это, пусть маленьким, подвигом, но там, на войне, где совершается судьба ее народа?
Разве может она оставаться в школе?
Галя думала об этом, стоя у высоких штабелей дров, сложенных на заднем дворе.
Между тем на крыльцо выбежали шумные школьницы, и голоса их огласили ясный, морозный воздух. Снег скрипел под их быстрыми ногами и, подкинутый вверх какой-нибудь бойкой девочкой, мерцал в воздухе и держался там долго, как бы не желая снова опускаться на землю.
И в этом легком сверкании Галя увидела Анку, и Веру, и еще других подруг.
Они подбежали к воротам и поглядели направо и налево, потом осмотрелись во все стороны. Галя слышала даже их голоса.
Уж не ее ли искали они и звали?
Галя притаилась и прижалась к холодным дровам.
Уйдут же они когда-нибудь! Ворота будут свободны, и Галя пройдет через них в иной, куда более богатый, сильный и заманчивый мир.
Но нет, Анка не уходила. Как некий страж, стояла она на морозе, словно чувствуя своим сердцем, что Галя где-то близко, здесь. Она даже сделала несколько шагов по направлению к липам.
Галя осторожно продвинулась дальше и вошла в узкий проход между двумя высокими штабелями дров. Они закрыли ее, как стена. Тут уж ее никто не найдет и не остановит.
Кончится же когда-нибудь перемена, опустеет двор, и снова тихо станет в школьном мире, который мысленно уже покинула Галя.
Однако и после звонка, когда и впрямь тихо стало вокруг и поднятый ногами легкий снег снова улегся на землю, Анка не ушла, и маленькая фигурка ее в легком сереньком свитере, стынувшая на морозе, выражала тревожную задумчивость. Какую-то странную горечь и как бы надежду на что-то являла она в своей неподвижности.
И в ту минуту Гале хотелось протянуть к ней руки и обнять своего верного друга больше всего на свете. Но как она скажет ей о том, что решила уйти?
Но вот и Анка медленно двинулась от ворот и исчезла за широкой, туго ходившей на пружинах дверью школы.
И в то же мгновение открылась вторая черная дверь, через которую вышла недавно Галя.
Галя обернулась и тотчас же отбежала еще дальше, в глубь своей тесной засады.
Из двери вышел Ваня. Он был без шинели и без шапки и нес на спине большую вязанку дров, от напряжения глядя себе под ноги. В руках у него был топор. Он во что бы то ни стало решил наколоть дрова для Анны Ивановны. Они, должно быть, долго спорили об этом, так как лицо у него было возбужденное, но довольное, улыбка бродила на его губах. Он был так углублен не то в свои мысли, не то в свои чувства, растрогавшие его при встрече со своей старой учительницей, что не поднял даже глаз от земли.
Он бросил дрова на снег и начал тотчас же колоть их. Он легко поднимал нетяжелый топорик, который, должно быть, Анна Ивановна завела для себя по своей руке, и метко с силой опускал его раз за разом все в одно и то же место. В детстве он жил в деревне у деда, и тот научил его хорошо колоть дрова. Белое полено с крепкой еще сердцевиной плохо поддавалось легкому железу. Но он все бил и бил по одному месту, и полено, сжимая влагу, хранившуюся в его крепком теле, вдруг как бы со стоном начинало разваливаться и падало, побежденное, на снег.
А Ваня принимался за другое.
И не было у него при этом ни грозного боевого вида, ни грозных крыльев, на которых он вчера лишь, как смертельный снаряд, проносился над цепенеющими от ужаса и валившимися на землю врагами. У него было мягкое, даже чересчур мягкое, как бы сыновье выражение, которое Галя отлично увидела, на мгновение выглянув из-за дров.
«Что же это такое? – подумала Галя, подождав еще немного. – Ведь он скоро не уйдет».
И этот, как Анка, как все они, сторожит ее в своем детском, школьном кругу.
Вот уже полчаса, как она стоит между штабелями дров в этом узком проходе, где от мертвого дерева тянет холодом, лесом, пустыней. Волосы ее, тонкие и золотистые, превратились от инея в толстые седые нити, ноги, погруженные в снег, ныли от холода, пальцы, державшие ее школьную сумку, окоченели даже в теплых перчатках.
Что она делает тут?
А Ваня все колол и колол толстые поленья легким своим топориком. Не странно ли это, что он, на чьих крыльях хотела она унестись в его мир настоящих героев, сторожит ее в этом тесном плену?
Бывают же такие удивительные вещи!..
Но что же ей все-таки делать? Дров было очень много, а топор был легкий, и Ваня не собирался с ними так скоро покончить. Не может же она, вместо того чтобы погибнуть на поле сражения, совершая какой-нибудь опасный подвиг, достойный ее мечты и желаний, просто-напросто замерзнуть тут, среди этих проклятых дров!
Но, в то же время, как выйти сейчас из своей засады? Что он подумает и что она скажет ему?
Конечно, для иных, обыкновенных девочек, например для Лиды Костюхиной или даже для милой Анки, было бы все равно, что подумает при этом Ваня. Да и для самой Гали, может быть, еще вчера утром, когда она с трудом могла вспомнить его лицо и его имя, это было бы все равно. Но сейчас ей хотелось, чтобы он не подумал о ней ничего плохого и никогда. А ведь кто знает, что он может подумать, если она выйдет к нему из-за дров!
– Ха-ха-ха! – рассмеялась Галя над своим ужасным положением. – Ха-ха-ха! – продолжала она громко смеяться, так как стоять за дровами у нее уже не было никаких сил.
И, еле передвигая замерзшие ноги, она вышла из-за дров и остановилась в глубоком снегу. Бежать было невозможно. И она все продолжала смеяться.
И тут пусть все подумают, было ли ей на самом деле смешно хоть в самой малой степени.
Яркий румянец залил ее лицо, и без того раскрасневшееся на морозе, и лоб, и щеки, и уши. Она не знала, что сказать, если Ваня спросит ее: «Что ты делаешь тут, Галя?»
И так как лучше всего спрашивать первой – эта мудрость была ей давно известна, – то Галя спросила, все продолжая смеяться:
– Что ты делаешь здесь, Ваня? Я уже полчаса как слежу за тобой.
Он ее ни о чем не спросил, и она добавила:
– Это все случайно вышло. Мне пришло в голову погулять немного. Я сегодня свободна от уроков.
Он опустил топор и в удивлении отступил на шаг. Он никак не ожидал увидеть Галю здесь. Речь ее показалась ему такой странной. И он окинул быстрым взором высокие штабеля дров и весь двор, засыпанный снегом, словно для того, чтобы посмотреть, можно ли в самом деле здесь гулять во время уроков.
Но так как он помнил, что Галя не всегда делает то, что делают другие, то спросил ее, чуть покраснев:
– Значит, ты свободна от уроков, если гуляешь тут? Я бы тоже погулял с тобой с удовольствием, походил бы по улицам. Наш город так хорош бывает утром под снегом. Я это часто вспоминал. Я только отнесу дрова Анне Ивановне. Я для нее их колю.
Он был так же смущен, как Галя, и добавил:
– Я тоже совершенно случайно попал сюда, в школу.
– Хорошо, я подожду тебя, – ответила Галя, – и ты можешь сказать Анне Ивановне, что видел меня здесь во время уроков и… даже, что я жду тебя… Можешь и это сказать.
Она не будет его ждать, конечно. Она убежит, как только он взойдет на крыльцо.
– Нет, зачем же я буду говорить Анне Ивановне, если ты этого не хочешь! – сказал он. – Хотя я не вижу в том ничего плохого.
Смущение его прошло, и он более внимательно посмотрел на Галю. Глаза у него были небольшие, глядевшие всегда прямо, и черты лица были правильные и глубокие.
Он медленно провел рукой по своей непокрытой голове, чуть застывшей от холода. Было ли то желание привести перед Галей в порядок свои густые темные и спутавшиеся от влаги волосы, или был то жест раздумья, в какое привели его странные слова и поведение Гали, но только она увидела на голове его под волосами глубокий шрам. Он начинался за ухом и кончался у самого виска.
– Что это у тебя? – спросила Галя, показав на шрам.
Он закрыл его слегка рукой и поспешно ответил:
– Это пустяки. Я был ранен в голову.
И тогда Галя увидела и другие шрамы – на шее, на руке у кисти – и посмотрела на его грудь. Много полосок, золотых и красных, уже потемневших от времени, вели счет его ранам, и на зеленом сукне гимнастерки под ними, чуть пониже, как капля крови, звездою упавшая с неба, блестел скромный орден – может быть, первое испытание еще очень молодой души.
И странно было Гале видеть Ваню здесь, на школьном дворе.








