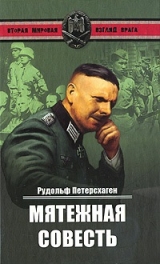
Текст книги "Мятежная совесть"
Автор книги: Рудольф Петерсхаген
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
– Значит, революционер! – сказал судья резко.
Веллер возразил, что я всегда ратовал за мирные методы и мирные цели. Недовольный ответом, судья продолжал докапываться:
– Затрагивал ли обвиняемый военные проблемы?
– Нет, только политические. Главным образом единство и мир.
Судья подумал, заглянул в бумаги:
– Вы дружите почти три десятилетия, служили в одном полку. Его любили или у него были враги?
– Его любили все. О врагах я почти не слышал.
Жена генерала Габленца по делам службы находилась в Вашингтоне. Судья уцепился за этот факт. Он спросил генерала:
– Интересовался ли Петерсхаген вашей женой?
– Нет.
– Не задавал ли вам обвиняемый вопросов, из которых можно было бы заключить, что он шпион?
Темпераментный генерал схватился за голову:
– Никогда в жизни!
Да, теперь мне понятно стало, почему в Си Ай Си так противились приглашению этих двух свидетелей. Габленц знал меня так же долго, как и Веллер. Его спросили о моих отношениях с другими офицерами. Ответ был довольно длинным, но смысл я помню точно:
– Все сослуживцы настолько любили Петерсхагена, что я удивлялся, узнавая об исключениях.
Судья раздраженно листал бумаги. «Ага, сейчас всплывет Баудисин», – подумал я.
Допрос генерала фон Габленца и полковника Веллера кончился провалом американских режиссеров.
На следующий день состоялся перекрестный допрос, предусмотренный распорядком. Обвиняемый может отвечать только «да» или «нет». На более подробные ответы надо испрашивать специальное разрешение. Вопросы защитника тоже регламентированы. Было запрещено упоминать имя моей жены и фон Гагена. Защитник обратил на это мое внимание. Бессонными ночами я доискивался причин запрещения. Может быть, агенты Си Ай Си боялись, что их грязная двойная игра со мной и моей женой будет разоблачена?.. Помимо угроз и шантажа, против меня применяли и другие подлые приемы: защиту ограничили разными запретами, меня самого довели до полного изнеможения.
С утра до вечера доктор Бауэр спрашивал: «Is that correct?»
Да, это правильно – я участвовал в создании организации НДПГ в Грейфсвальде. Да, я входил в районное правление Общества германо-советской дружбы и в состав окружного комитета Национального фронта. Да, я подписал протокол об окончании предварительного следствия. Но в каком тяжелом состоянии и под каким нажимом!.. Это не важно, обвиняемый должен отвечать только «да» или «нет». И: «Is that correct?», что я так и не назвал имени своего друга, вокруг которого нагромождались невероятные комбинации? Передал ли я Грейфсвальд Красной Армии без боя? Да, передал. Значит, бывший полковник Петерсхаген – коммунист. Но ведь США были союзником Советского Союза! От этого восклицания мое положение не улучшилось.
Потом я снова сцепился с карьеристом Бауэром. Я заявил, что между «да» и «нет» невероятно много тонких переходов, особенно если приходится отвечать на замысловатые, нарочито запутанные вопросы. Бауэр покраснел. Но представители Си Ай Си питали его сомнительную храбрость записочками. Американская разведка – вот кто руководил этим «показательным политическим процессом». Разведка направляла и судью, и прокуроров. Слишком много общего с германским фашизмом и гестаповскими методами!
Защитник еще раз доказал суду, что показания Бэра путаные, противоречивые, ложные.
– Бэр лишь однажды сказал правду, – повысив голос, воскликнул защитник, – когда он заявил, что его разговоры с моим подзащитным были абсолютно безобидными!
Итак, установлено: Бэр дал ложные показания, и прокуратура обязана вмешаться в это дело. Но ничего подобного: судья не желал уличать Бэра в лжесвидетельстве.
Вопреки строгому запрету упоминать о моей жене, я рассказал суду о жестокой интриге, затеянной Си Ай Си, и о нарушении честного слова. И снова – ледяное молчание. У меня уже не хватало сил для борьбы!.. Впервые за время этой жестокой игры в кошки-мышки у меня сдал голос.
Сам генеральный прокурор доктор Ноггль произнес многочасовую заключительную речь. Он говорил быстро, возбужденно. О моем так называемом преступлении – почти ни слова. Вся речь о политике вообще. Генеральный прокурор на все лады превозносил американскую «освободительную политику» и предавал анафеме политику мира, эту «мировую коммунистическую опасность». Особо досталось НДПГ. Доктор Ноггль заявил:
– НДПГ – это опасная, преступная партия. Ловко маскируясь, она пытается втянуть мелкую буржуазию в красную систему. Обвиняемый с успехом создал такую розово-красную организацию в Грейфсвальде, а затем по поручению Национального фронта перенес свою разлагающую революционную деятельность в Западную Германию.
Итак, я не совращенный, а опасный совратитель.
– В Западной Германии, – продолжал Ноггль, – он действовал с невиданной наглостью, перетянув на свою сторону Эрнста Бэра. Это сильнейший после 1945 года удар по безопасности союзных армий! Предложение Бэру работы на Востоке – это возмутительная попытка переманивания в советскую зону. Подсудимый ни слова не сказал ни о ком из своих закулисных вдохновителей. Разве это не доказывает, что он упрям и опасен? Всю жизнь он занимал положение, которое давало ему возможность отлично разбираться в политике. Он достаточно развит, чтобы распознать преступность красной системы. Но он и по сей день держится за свою партию и за политику Востока, которая является самой большой опасностью для западной христианской культуры. В 1945 году мы не постеснялись вешать патриотов и героев. Теперь мы обязаны без колебания расправляться с политическими противниками. Говорят, что обвиняемый ослеплен и действовал из идеалистических соображений. Тем хуже. Тем он опаснее. Это заставляет нас быть более бдительными. Такова великая задача, поставленная перед нами историей и богом!
Американка-переводчица взмолилась о передышке. Устроили перерыв.
Я обсудил с защитником положение. Он был настроен скептически. После речи прокурора мы уже не сомневались, что все будет решено не по закону, а в интересах определенной политики.
Указав в заключительном слове на множество необъяснимых противоречий в показаниях единственного свидетеля обвинения Бэра, защитник заявил:
– Обвиняемый ни разу и ни в чем не противоречил себе и энергично опроверг все показания Бэра. Разве можно считать преступлением принадлежность к НДПГ или деятельность в Национальном фронте? Мне кажется – нет. Ни одна из этих организаций в Западной Германии не запрещена. Даже Коммунистическая партия Германии – составная часть нашей западной демократии {37}. Служащие-коммунисты получают жалованье, значит, являются слугами государства. Если даже предположить, что Национально-демократической партией Германии и Национальным фронтом управляют коммунисты, все равно нет оснований для обвинения, пока Коммунистическая партия в Западной Германии не запрещена. То, что здесь, на процессе, было названо наглостью обвиняемого, на самом деле есть признак его чистой совести и веры в демократические свободы западного мира, признак убеждения, что его деятельность не преступна.
Защитник говорил спокойно и убедительно, но в конце попросил только о смягчении приговора. Это удивило и расстроило меня. При такой сильной аргументации он мог требовать полного оправдания.
В своем последнем слове я вновь изложил политические цели своей деятельности и твердо заявил, что не признаю за собой никакой вины.
– Мое поведение соответствовало моим взглядам, а это право и даже обязанность каждого немца, особенно в дни раскола. Мое дело – дело чисто немецкое. Доказано, что я не интересовался американской армией. Это под присягой подтвердили два офицера. Доказано, что Бэру верить нельзя. Вы сами заявили, что это сомнительный и опасный человек. Вы хотели с моей помощью разоблачить его. Не могу себе представить, что я, человек, безупречно проживший пятьдесят лет, стал жертвой шпика и провокатора.
Американцы ответили молчанием и презрительными гримасами. Судья объявил, что приговор будет вынесен 22 января. Впереди оставалось еще воскресенье, которое я снова провел в Штадельгейме. Я был совершенно разбит этим «показательным» процессом без публики и ночами, проведенными в полицейской каталажке. Состояние здоровья ухудшилось. Днем и ночью меня терзало бессилие перед западными, оккупантами и неведение. Что же со мной будет?
22 января 1952 года, войдя в наручниках в зал заседаний, я увидел необычную картину: впервые на «показательный» процесс была допущена публика. Судья цинично подвел итоги. Он заявил, будто на этом важном процессе все было особенно тщательно расследовано и выяснено. Суд длился восемь дней с утра до вечера. Генеральный прокурор доктор Ноггль все взвесил и оценил в речи, длившейся несколько часов. И вот суд, состоящий из единственного судьи Фуллера и из-за кулис управляемый Си Ай Си, пришел к заключению, что подсудимый виновен по двум пунктам закона № 14 Верховной союзнической комиссии. Пусть теперь генеральный прокурор внесет предложение о мере наказания. Восемь дней наблюдал я за ним, всегда таким самоуверенным, суетливым и категоричным порой до патетики. Иногда он даже бил себя в грудь. И вдруг сегодня он, согнувшись, опершись руками о стол, тихим неуверенным голосом произнес:
– Я требую высшей меры!..
Наступила гробовая тишина.
– Суд удаляется на совещание. – И судья Фуллер вышел в соседнюю комнату.
В зале зажужжали, как в улье. Незнакомые мне люди что-то быстро писали. Представители Си Ай Си куда-то исчезли. На меня надели наручники, повели по коридору. Тут я столкнулся с Дэлером и Фрэем, выходившими из кабинета судьи Фуллера. Они смутились.
Когда представители Си Ай Си вернулись в зал заседаний, к ним протянулось множество рук с блокнотами. Господа корреспонденты давали на просмотр свои отчеты. Я видел, как Дэлер и Фрэй предлагали что-то исправить, давая указания целым группам. В зале стоял такой шум, что никто не расслышал слов: «Суд идет! Встать!» Судья резко обратился к переводчице. Она перевела:
– Высокий суд уже в зале, и господа представители прессы обязаны считаться с этим.
Ах, так, значит, публика на процессе – представители «свободной» западногерманской прессы?! Они не были на прежних заседаниях и не знали истины. А теперь представители Си Ай Си диктовали им, что следует писать о моем деле.
Судья не затруднял себя: признав меня виновным по двум пунктам закона, он приговорил меня дважды к шести годам тюремного заключения, отбывать которое надлежало в Ландсберге. Для вящей убедительности он вытащил откуда-то из-под мантии газетную вырезку, помахал ею и сказал:
– В советской зоне опять затеян процесс против так называемых шпионов. Они приговорены к большему сроку наказания. Поэтому приговор, вынесенный мною, считаю умеренным. Подсудимый признал, что дважды был в Федеративной республике по политическим причинам. Процесс окончен. Приговоренного отвести для отбытия наказания!
«Встать!» потонуло в общем шуме. Большинство и без того вскочило. Какая-то американка, подбежав ко мне, крикнула:
– Неужели вы не будете опротестовывать?
Защитник тут же заявил суду, что приговор будет опротестован.
* * *
– Вынести параши! – так приветствовали нас каждое утро в тюрьме Штадельгейм, и каждый из арестованных выставлял в коридор для очистки свое ведерко. Все спали, так сказать, в собственной уборной без спуска. Затем убирали помещение. Самое приятное за день – прогулка. На пустом грязном дворе между серыми стенами тюрьмы арестованные по двое шагали по кругу под наблюдением надзирателя.
Меня навестил защитник. Он принес два апельсина и газеты. Просторное помещение для свиданий было похоже на канцелярию: там стоял письменный стол. Только решетки на окнах напоминали о тюрьме. Мы поговорили о процессе и перспективах обжалования. Защитник считал, что капитан Бэр вначале имел, видимо, честные намерения. Но подкачал, когда почувствовал, что за ним наблюдают. Не считаясь ни с чем, сам себе противореча и давая ложные показания, он решил выпутаться за мой счет.
– Из Си Ай Си все время пытались протянуть вам руку. Вы и теперь имеете эту возможность, – осторожно намекнул Кислинг. – Си Ай Си чувствует себя в вашем деле не очень уверенно, – добавил он. – А суровое наказание получили вы за свою верность восточной зоне.
Но я не захотел говорить на эту тему.
Вернувшись в камеру, я набросился на газеты. Раньше защитник приносил мне только «Меркур», а теперь было и несколько других газет. Они сообщали примерно одно и то же: «Бланк объявил воинскую повинность», «Полицейские налеты на КПГ по всей территории ФРГ», «Аденауэр требует общего договора и европейской армии для защиты христианской западной культуры». Кроме того, я прочел: «Кавалер ордена „Рыцарский крест“ – шпион», «Красный полковник получил два раза по шесть лет!» Под такими заголовками «свободная» западногерманская печать сообщала о моем процессе, на который она, собственно, не была и допущена. Американская разведка определила не только содержание, но и направление заметок: корреспонденты с иезуитской подлостью расписывали, какая опасность предотвращена осуждением «красного полковника», и связывала «уроки процесса» с требованием всеобщей воинской повинности, европейской армии и террора против коммунистов. «Красный полковник»! Да разве это не самая страшная «опасность»?
Однажды забрел ко мне и его преподобие – ради утешения раба божьего. Он стал осторожнее и на этот раз уже не говорил о пятидесяти дивизиях. Но все же посоветовал мне ориентироваться на американцев.
– Американцы продержат вас не больше года. Это терпимо.
Он заговорил о свободе выбора, которая дана нам от бога.
– Благодаря этой свободе я и примкнул к миру на земле, – подхватил я.
Его преподобие запетлял вокруг да около:
– Надо помнить и о своей судьбе. Это не противоречит воинственному протестантизму. Вы обязаны подумать о себе и о своей жене.
Я не сразу понял, к чему он клонит. Одно таинственное посещение в начале февраля пролило свет на все.
– К защитнику, – строго сказал надзиратель. Сперва меня привели в камеру ожидания. Когда я вошел, оттуда вызвали какого-то заключенного. В холодном пустом помещении находился еще один. Одетый в тюремный костюм, он бегал из угла в угол и что-то бормотал. Это был опустившийся человек из перемещенных. Разговаривая сам с собой, он проклинал лагерь Валка под Нюрнбергом, откуда его привезли. Чтобы вырваться из того ада, он обворовал какой-то магазин и получил полтора года.
– Зато деньги я хорошо припрятал. За такой куш имеет смысл отсидеть! – заявил он торжествующе.
Он рассчитал, что на каждый день отсидки приходится десять – двенадцать марок «заработка», если разложить припрятанное на полтора года.
– Столько я в жизни не зарабатывал!
Его цинизм потряс меня. Впрочем, в таких условиях это не удивительно.
В комнате для свиданий никого не было.
– Господин находится у директора, – заявили мне.
По тюремной привычке я шагал из угла в угол, размышляя и готовя себя к разговору с доктором Кислингом. Вот дверь открылась, я поспешил навстречу защитнику, но… не поверил глазам своим: передо мной стоял Фрэй. Без всяких предисловий он сказал:
– Вам очень хочется отсидеть шесть лет или вы образумились?
Я ухватился за край письменного стола и молчал, пока не пришел в себя. Затем я потребовал отвести меня обратно в камеру. Надзиратель недоуменно взглянул на Фрэя, потом на меня и молча повел меня в камеру. В ту ночь я спал особенно плохо. Неужели и после приговора меня не оставят в покое?
* * *
– Вас собираются спихнуть.
Надзиратель несколько раз повторил мне это слово. Наконец я понял: меня собираются перевести в Ландсберг. В плену перевод-в другой лагерь мы называли «транспортом».
На машине расстояние Мюнхен – Ландсберг можно преодолеть за два часа. Ведь это не тысяча километров от Красногорска до Моршанска. Так что даже зимой «спихивание» не проблема.
На рассвете 5 февраля 1952 года «зеленые Минны» доставили нас в пересыльную тюрьму Мюнхена. Там я оказался в отдельной камере. С начальником этой тюрьмы можно было разговаривать. Он сказал, что скоро поедем дальше, ждали только меня.
– Завтра поедете поездом, – добавил он покровительственно. – Машинами слишком шикарно для вас, бродяг.
На следующее утро нас стали «спихивать» дальше. Сперва мы построились в коридоре тюрьмы. Прибыли конвойные с целой кучей папок. Вызывали подряд и попарно сковывали наручниками. Когда дошла очередь до меня, возникло замешательство. Начался какой-то спор. Наконец один из надзирателей громко сказал:
– Ничего не поделаешь, здесь все ясно написано.
«Значит, мне не наденут наручников», – подумал я, но ошибся: по предписанию американцев мне тоже приказали заложить руки за спину и защелкнули на них наручники.
В тюремном автомобиле поднялся психоз маскировки. Стреляные зайцы, зная, что нас ждет, пытались изменить свою внешность. Все зарились на мой берет. Я отдал его одному мюнхенскому консульскому чиновнику, осужденному за выдачу фальшивых эмиграционных документов одному еврею из перемещенных. Я не собирался маскироваться. Даже жалел, что на грудь мне не повесили плакат: «Приговорен американцами дважды к шести годам заключения за то, что боролся за единство Германии и мир!»
У вокзала нас встретила большая толпа. Людей привлек лай сторожевых собак и усиленный наряд полиции. Мы шли как сквозь строй. Теперь я понял, почему все старались замаскироваться.
Шагая сквозь толпу к вокзалу, я вспомнил далекий 1923 год. Здесь, в Мюнхене, я был курсантом пехотного училища. Незадолго до производства в офицеры нас небольшими группами, пригласил к себе Гитлер, чтобы «ознакомить со своими идеями и целями, внешними и внутренними». Мюнхен был так называемой «столицей движения». Здесь вскоре после первой мировой войны была создана национал-социалистская партия Германии. Тогда Гитлер требовал вести с берлинским правительством борьбу не на жизнь, а на смерть. Мы, солдаты рейхсвера, присягнули этому правительству, но наши офицеры-воспитатели терпимо относились к общению курсантов с Гитлером и даже поощряли его подрывную политическую деятельность. Считая это нарушением присяги, я написал в Потсдам своему командиру роты 9-го полка капитану фон Габленцу, тому самому фон Габленцу, который теперь не побоялся выступить на моем процессе. Еще в те времена я видел в нем не просто командира. Он ответил на мое письмо, что к присяге надо относиться серьезно. «Я тоже ни в грош не ставлю этого коричневого прожектера».
В письме я поделился своими впечатлениями о Гитлере: «В маленьких аудиториях он орет, как на митинге, стремясь подчинить себе волю слушателей». Эта истеричность сразу оттолкнула меня от Гитлера, и я перестал ходить на его «курсы».
Мой поступок не остался без последствий. Кое-кто из воспитателей и однокашников начал избегать меня. Я был поражен неожиданным гитлеровским путчем 9 ноября 1923 года. Пехотное училище в полном составе приняло в нем участие. Представителем Гитлера к нам явился сам Людендорф. Но на меня не повлиял даже он: я отказался принять участие в «историческом марше к Фельдхеррнхалле»{38}, обосновав это верностью присяге. Нарушители присяги, взбунтовавшиеся офицеры посадили меня на гауптвахту за нарушение дисциплины.
Позже из Мюнхена же я несколько раз ездил на лыжные прогулки в горы. С этого самого вокзала двадцать лет назад мы с женой отправились в свадебное путешествие. Вот какие воспоминания проносились передо мной, когда я шагал в наручниках.
Я вошел в тюремный вагон, точно такой же, как «зеленая Минна». «Для короткой поездки терпимо», – подумал я. Но когда мы миновали Пазинг, наш маршрут показался мне странным, а когда вечером очутились в Аугсбурге – даже подозрительным.
Измученные дорогой, мы, наконец, вышли из вагонов. У вокзала нас встретил конвой. Снова всех сковали попарно. Когда дело дошло до меня, руководивший этой операцией чиновник опешил. Он снова и снова перечитывал мои бумаги, качал головой и, наконец, сказал конвоирам:
– Нет.
Затем он обратился ко мне:
– Можете идти одни и без наручников. Но помните – от вас зависит наша судьба… – недоговорив, он незаметно вытер глаза и прошептал: – Какой позор!
Я следовал за арестантами почти как свободный штатский.
Ночь я провел без сна – в огромной сырой камере было невыносимо холодно. Я дрожал, как в лихорадке.
Каждое утро и вечер очередного немецкого чиновника мучила совесть: должен ли он исполнить американский приказ и надевать наручники на соотечественника, не имеющего ничего общего с уголовниками? Наручников на меня больше не надевали, и доверия чиновников я не обманул.
Мы ехали поездом еще один день. Переночевали в Ульме. Я уже отчаялся когда-либо увидеть Ландсберг. От Ульма дорога шла вдоль реки Иллер к Альпам. Природа становилась все красивее. Наш вагон подолгу стоял на станциях. Одних заключенных высаживали, других подбирали. Наконец Кемптен в Альгейе. Ландсберг несколько севернее. Мы находились у подножия величественных, одетых в зимний наряд Альп. Опять потянулись дни, перегоны… Припоминаю какую-то станцию Кауфбейрен. На шестой день нас, трех «ландсбергцев», на маленькой станции, кажется Бухлоэ, пересадили на местный поезд. Двое симпатичных на вид пожилых чиновников юстиции тщательно ознакомились с бумагами и отнеслись к нам по-человечески. В бумагах значилось, что двое моих спутников следуют в Шпетинген, а я в Ландсберг, в американскую тюрьму для военных преступников. Мы видели ее еще из окна вагона: комплекс зданий с массивной башней в центре. От нее, как крылья ветряной мельницы, отходили четыре одинаковых корпуса, ниже башни, но выше окружающих домов. Запомнилась еще высокая труба. Затем все осталось позади.
С вокзала, расположенного на южной окраине города, мы пешком отправились в Шпетинген. Конвойные рассказали, что Шпетинген был раньше подсобным хозяйством, принадлежавшем Ландсбергской тюрьме. В 1945 году оно перешло в ведение баварского правительства. А крепость Ландсберг стала американской тюрьмой номер один для военных преступников. В хозяйстве работают заключенные, впервые осужденные на небольшой срок или переведенные сюда за «хорошее поведение». Мои спутники принадлежали к этой категории. Когда мы открыли дверь управления Шпетингена, мелодично зазвенел старомодный колокольчик. Все сверкало чистотой, напоминая опрятный крестьянский двор в Гольштинии, на моей родине.
Мои спутники остались здесь, а меня вдоль кладбища, мимо красивой часовенки один из конвоиров повел в крепость. Мне бросилось в глаза, что могилы расположены симметрично. Сотни деревянных крестов выстроились ровными рядами, как на прифронтовых солдатских кладбищах.
– Разве и здесь шли бои? – спросил я конвоира. Он промолчал.
Я всмотрелся в надписи на крестах: ни одного имени, только номера погребенных и даты смерти. Я снова попробовал добиться ответа от конвоира, но он отмахнулся:
– В крепости все узнаете.
* * *
Стемнело. В тюрьме зажглись огни. Стены корпусов стали похожи на огромные, длинные шахматные доски: освещенные четырехугольники окон на фоне темной стены образовывали белые поля – сто по горизонтали и четыре этажа по вертикали. Решетка превращала в шахматную доску каждое из освещенных окон. За каждой решеткой сидел человек. Еще несколько минут – и я окажусь там на шесть лет! Ноги налились свинцом.
– Только бы выбраться отсюда живым, – пробормотал я.
– Да. Уж лучше бы вам быть военным преступником! – заметил конвоир.
Мы вошли. Красивые новые здания. Вылизанный двор. Нигде ни снежинки. А ведь на всем нашем пути были горы снега.
– Административный корпус, – пояснил мой сопровождающий.
По его звонку нам открыл американский солдат в синем стальном шлеме, на котором большими белыми буквами было начертано: «CIC» (Си Ай Си). Меня передали с рук на руки, и вскоре я очутился на первом этаже управления.
Лестничная клетка и помещение, где я находился сейчас, напоминали скорее роскошную гостиницу, чем тюрьму. Повсюду горел свет. Все сверкало чистотой и излучало тепло. За столом сидел рыжеватый американский капитан лет тридцати. Он читал мои бумаги. Я сел, не дожидаясь приглашения. Он удивленно взглянул на меня, но ничего не сказал и продолжал читать. После этого зимнего «спихивания» я выглядел, видимо, настолько скверно, что офицер, кончив читать, отдал распоряжение, и передо мной появился огромный кофейник с настоящим кофе, сливки, сахар и толсто намазанные сэндвичи. Я набросился на бодрящий напиток.
Все пожитки у меня забрали. Пришел врач в тюремной одежде. Проверил, нет ли у меня инфекционных болезней, лишаев или вшей. Он шепнул мне:
– Я вас знаю. Вы меня крепко обложили на харьковском шоссе.
Врач был худой, довольно приятный человек. Позже я узнал, что это майор медицинской службы доктор Зикель из дивизии СС «Адольф Гитлер», которого я в свое время резко обругал за недисциплинированную езду.
Дежурный отвел меня в душ, а затем в камеру.
В тюремном корпусе было тихо и пустынно: демонстрировался кинофильм. Теперь я изнутри увидел башню, господствующую над крестообразными корпусами крепости. Она не только архитектурно, но и по своему назначению была центром всего комплекса зданий. От нее лучами, как пристройки в церквах, отходили четыре флигеля. Снизу вверх нарастали ее этажи, замыкаясь над крышами флигелей куполом из толстого стекла. Днем купол башни становился источником естественного света. Внизу в круглом холле находился небольшой стеклянный павильон. В нем всегда дежурили двое. Крыша павильона служила вышкой для надзирателей. Двери камер открывались внутрь. Вдоль камер шла узкая галерея, огражденная металлической сеткой. Вышка охраны была связана с каждой из галерей такими же железными дорожками. Все выглядело игрушечным, словно смонтированным из детского конструктора.
Моя камера была меньше и уже, чем в Штадельгейме, но зато теплее и чище. Над приделанной к стене откидной доской стола находилась выдвижная электрическая лампочка с абажуром. Правда, без выключателя, но лампочку можно было самому вывернуть или ввернуть. Я тут же воспользовался этой возможностью, погасил свет и лег спать.
На следующее утро я прежде всего осмотрел выданную мне одежду. Хорошее нижнее белье, длинные черные брюки с заглаженной складкой, темно-синяя навыпуск верхняя рубашка с пришивным воротничком и черная куртка на подкладке с матерчатыми погончиками. На всех вещах, включая верхнюю рубашку, было клеймо, нанесенное белой масляной краской: WCPL. Это сокращение означало: War Criminal Prison Landsberg, то есть Ландсбергская тюрьма для военных преступников.
Каждое утро надзиратель открывал камеру. Под его присмотром я должен был в соседней камере, где находился водопровод, очищать парашу. Как и все надзиратели, он носил стальной шлем и дубинку, которая, кстати, была не из резины. Это я понял, когда кто-то из надзирателей нечаянно уронил ее на железный пол. Я хотел задать ему какой-то вопрос, но он боязливо покосился на центральную башню, откуда все было видно, и потихоньку сказал:
– Вам запрещено разговаривать, пока вы в карантине.
В соседней камере, где я мыл парашу, он на чистом немецком языке объяснил мне, что изоляция в корпусе «Б-нуль» заключается в запрете разговаривать и продолжится примерно две недели. Оказывается, корпуса условно обозначались первыми четырьмя буквами алфавита, а этажи цифрами от нуля до трех. Теперь я кое-что знал о своем положении.
Меня повели к парикмахеру. Вблизи центральной башни в том же коридоре находились великолепно обставленные помещения. На одной из дверей было написано: «Barber-Shop» – парикмахерская.
– Сколько? – прошептал тюремный Фигаро.
– Шесть лет.
– Бог ты мой, какой же смысл сюда попадать! А я вот все еще «ПЖ», – с гордостью заявил он. В тюрьме это означало «пожизненно». Перед парикмахерской находился щит с объявлением: заходить за этот щит в «Б-нуль» запрещено. Потому-то в моем коридоре царила такая мертвая тишина. Я действительно был изолирован.
Еду мне приносили в камеру. Количество и качество ее было значительно выше, чем в обычных тюрьмах.
Вся одежда, которую мне выдали, пришлась впору, кроме обуви, но это из-за моей раненой ноги. После длительных переговоров я с трудом добился возврата своей ортопедической обуви, а заодно вечной ручки и принадлежностей для бритья, что в обычных немецких тюрьмах не разрешалось. В камере была жалкая обстановка, только освещение хорошее. Возле откидного стола находилось узкое сиденье, тоже откидное, как и железная койка. Складные, из трех частей, матрацы были такие же, как в других немецких тюрьмах. На стене висела полка. Как и всюду, в дверях камеры было открывающееся снаружи маленькое отверстие для выдачи пищи, настолько узкое, что человек не смог бы протиснуться сквозь него. В Ландсберге эти отверстия закрывались только целлофаном. Это было преимущество: заключенный мог смотреть в коридор. Но сейчас это ни к чему, так как «Б-нуль» – мертвый этаж. Наоборот, это даже стесняло меня: в любое время надзиратель мог заглянуть в камеру, так что заключенный постоянно чувствовал себя под наблюдением.
Условные сигналы гонга созывали заключенных на поверку. Я привык к неизменной последовательности звуков: топот, болтовня и внезапная тишина после команды «Смирно!» Довольно долго – ни звука: дежурный сержант, очевидно, пересчитывает заключенных. Потом снова топот ног, гул голосов. Поверка кончилась. По утрам после поверки все расходились на работу. Шума было меньше. В обед и вечером все спешили за едой: бегали, суетились. Шум усиливался. Мне еду приносил уборщик из «Б-нуль», тоже заключенный, который обслуживал все камеры нашего коридора.
Уборщика, бывшего эсэсовца, почему-то радовал мой хороший аппетит. Он снабжал меня газетами, принес даже вырезку о моем процессе, в которой подчеркивалось, что я отстаивал единство и мир. Такие отчеты возможны были лишь в провинциальных газетах, менее зависимых от американской цензуры. При всей сдержанности по отношению ко мне бывший эсэсовец заявил:
– Мы, конечно, тоже кое-что соображаем насчет американской военной политики и вашего процесса!
Это звучало не так уж плохо. И потом он сказал «мы»!..
За мной зашел надзиратель и повел в госпиталь на медицинский осмотр. Я попал к доктору Максу Шмидту. Этот спокойный баварец, похожий скорее на крестьянина, когда-то был сельским врачом, а во время войны – капитаном медицинской службы в войсках СС. Поверхностно осмотрев меня, он заявил:
– Вам нужно заниматься легкой работой на свежем воздухе. Из-за вашей астмы.
В несколько минут беглого осмотра, не услышав от меня ни слова, он установил болезнь, которую американцы отрицали много месяцев.








