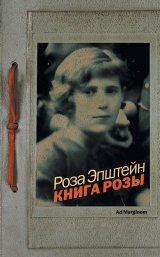
Текст книги "Книга Розы"
Автор книги: Роза Эпштейн
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава 7
А завтра была война
Четвертую жену отец привез из Киева за год до начала войны. Красивая, холеная Берта-модистка была подругой хозяйки квартиры, где он останавливался, приехав в Киев. Там они и познакомились. Не влюбиться в Берту было невозможно. Вернувшись домой, отец рассказал нам о своей новой жене. Выслушав, Рая решила:
– Папа, цыплят по осени считают. Посмотрим.
Однако на сей раз новая мачеха нам понравилась. Не только красивая, но и спокойная, доброжелательная, Берта Абрамовна по приезду сразу взялась за хозяйство. Утром приготовила из манки какие-то необыкновенные котлетки. Она вообще хорошо готовила. Отцу велела купить белой ткани, из которой настрочила простыней и наволочек. Мне сшила голубое шелковое платье с воланчиками. Увидев меня в нем, подружки ахнули:
– Роза, ты как артистка!
А красивый парень в сквере предложил проводить меня до дома и подарил букет белых роз.
Покорила новая жена отца и соседей по дому. Вначале соседки у плиты во дворе дома осуждающе перешептывались: какую молодую жену привез Соломон. Тогда Берта вынесла им свой паспорт:
– Женщины, посмотрите мой паспорт и не говорите, что я молодуха. Я чуть-чуть младше его.
Ей действительно тогда было уже под пятьдесят.
А я в сентябре 1940 года получила свой первый паспорт. В паспортном столе белобрысый паренек в милицейской форме, посмотрев мое свидетельство о рождении, предложил взять фамилию матери – Полякова. Но я отказалась:
– Нет, отец заругает.
Потом возник вопрос с именем. Дело в том, что у меня, как и у всех детей нашей семьи, в метрике было записано еврейское имя, которое дал раввин в синагоге, – Хая-Рейзл. Паренек не стал ничего переспрашивать, куда-то вышел, а вернувшись, сказал мне:
– Фамилия пусть будет Эпштейн, а имя запишем – Розалия.
Так и сделали. Получив паспорт, дома показала его отцу. Тот расстроился:
– Зря тебя не записали Хаей-Рейзл. Была бы как бабушка.
Он имел в виду свою мать, на которую я, говорили, очень похожа. А Рая возразила:
– Правильно, Розочка, тебе сделали. Скажи спасибо тому милиционеру. А то бы как Белла с таким именем мучилась.
Нашей сестре в паспорт записали ее имя из метрики – Буня. Так она с ним действительно мучилась, пока не вышла замуж и не сменила вместе с фамилией и имя – стала Беллой Соболевой.
Известие о нападении фашистской Германии на СССР совпало с моим выпускным в школе. Некогда было радоваться окончанию десятилетки и мечтать о выборе жизненного пути. Молодежь рвалась на фронт, у военкоматов выстраивались длиннющие очереди. К Берте из Киева приехала дочь Соня, прима-балерина Театра Франко, попрощаться. Они с братом – театральным художником – приняли решение не эвакуироваться, а пойти в ополчение. А старшая дочь эвакуировалась вместе с предприятием и просила Берту ехать с ней вместе в Казань. Но Берта отказалась:
– Я не могу. У меня муж, семья.
Очень уж любила она отца. Да и как его было не любить? Высокий, стройный, обаятельный. И в городе авторитетным человеком слыл.
Я бы тоже, не задумываясь, записалась в добровольцы, но годами не вышла. Поэтому, откликнувшись на призыв обкома комсомола помочь с уборкой урожая, в первых рядах записалась и очень переживала: возьмут ли. Направили меня в зерносовхоз «Горняк», где я познакомилась со студентами Киевского университета. Ледик – моя первая любовь – был с филфака, а Франк – его товарищ – с мехмата. Ледик в совхозе на лобогрейке работал, приходил измочаленный. Я ему всегда готовила ведро воды. В колодце вода очень холодная. Поэтому ставила ведро на солнце греться, и он умывался уже теплой.
По ночам нас посылали зерно на току охранять. А зерно то воровали цыгане. Их два табора в тех местах обитало. Вот цыгане из этих двух таборов и приезжали поочередно ночью на ток за овсом для лошадей. Насыплют в торбы сколько надо и уедут. А мы не то что защищать доверенное добро, боялись пикнуть – себя обнаружить. Зароемся в зерно – а там тепло, оно горит – и сидим тише воды, ниже травы. Потому как цыгане и побить, и убить могли. Если же их совхозные мужики ловили, то заставляли зерно возить с тока на элеватор.
Днем же мы с цыганами дружили. В одном таборе девочка была – настоящая кукла: глаза огромные, ярко-голубые, лицо словно фарфоровое, волосы смоляного цвета, кудри из кольца в кольцо, а вшей в них немерено. Придет она к нам в барак, мы с девчатами воды в ведре нагреем, и моем девочку в нескольких водах, пока волосы не станут как шелк.
Очень любила малышка ко мне ходить книжки читать.
– Тетя Роза, почитай мне книжечку, – просит.
Возьму я в руки какую-нибудь тетрадку или журнал, раскрою и делаю вид, что читаю. А сама на память рассказываю что-то из Маршака, Михалкова, детские сказки – я их много знала. И в таборе все знали про нашу с Асей дружбу. За это одна цыганка научила меня гадать. Не по-настоящему, а так – показала, как раскладывать надо, какое значение у какой карты и масти.
Цыгане – народ загадочный. Можно верить или не верить в их пророчества и гадания. Но что-то в этом есть. Нередко во время ночных бдений я оказывалась в паре с Зоей – дочерью стоматологов. Ее родителей забрали на фронт. Заводная, отчаянная девчонка все время искала приключений на свою голову.
Один из старых цыган умел предсказывать будущее по руке. Увидев как-то ночью старика возле тока, Зойка сказала мне, что пойдет и спросит его, вернутся ли живыми с войны ее родители.
– И не вздумай! Моли Бога, чтобы цыгане нас не заметили. Мало ли что они могут сделать! Изнасилуют или убьют как свидетелей.
– Нет, я все-таки спрошу, – отмахнулась Зойка и направилась к старику.
– Дед, скажи мне по ладони, вернутся ли живыми мои родители? – спрашивает.
А цыган лишь мельком взглянул на ее ладонь и говорит:
– Тебе самой-то жить чуть-чуть осталось.
Зойка прибегает ко мне и смеется:
– Представляешь, что старик мне напророчил? Что мне жить осталось вот столько.
И показывает самый кончик пальца. Я разозлилась и отчитала сумасбродку:
– Дура ты, дура, ты зачем к нему поперлась?! Еще раз увижу, что к цыганам цепляешься, сама прибью!
Отдежурили мы ночь. Утром повозка конная за нами пришла – в барак ехать. Я на повозку села, а Зойка – верхом на запряженную лошадь. Доезжаем до места, девчонка спрыгивает с лошади и попадает ногой на металлический обруч, который там почему-то оказался. Другая сторона обруча резко поднимается и ударяет ее прямо по виску – Зойка падает замертво.
Это жуткое предсказание и ужасная смерть цветущей юной девушки потрясли нас всех. Потому и сохранилось в памяти.
Друг Ледика Франк, по национальности немец, страшно боялся, что его не возьмут на фронт. Немцев же высылали на лесоповал. Моя соседка Тамара Христиановна рассказывала (она там работала), что среди ссыльных были и студенты, и медики. Ледик привел к нам Франка и попросил поговорить с отцом: может, что присоветует. И отец спросил:
– Франк, ты комсомолец?
– Да.
– А можно ли тебе доверять?
– Соломон Борисович, можно.
– Тогда вот что: спрячь документы. И пусть твои друзья, человека четыре, покажут, что их украли. У вас там, я слышал, цыгане возили на лошадях зерно из-под комбайна на элеватор и воровали. Могли и документы украсть. Пойдешь к военкому и скажешь, что фамилия твоя Франков, а зовут, к примеру, Петром. А ребята пусть это подтвердят.
Отец вначале сам позвонил военкому и попросил:
– Выслушай ребят внимательно. Дочка клянется, что все это правда, она тоже с ними была там, в зерносовхозе «Горняк». Помоги – не в тюрьму же парень просится.
Военком был в курсе, что в этот совхоз посылали молодых. Поверил и дал парню направление в армию.
Киев к тому времени наши уже сдали, и проверить достоверность заявления Петра Франкова не смогли.
В 1945 году Франк приехал в Сталино, нашел отца:
– Соломон Борисович, я пришел вам поклониться.
На груди у него была медаль «За отвагу».
Ледик был единственным, кто меня по-настоящему любил. И понравился мне порядочностью – интеллигент в лучшем смысле слова. Потому и храню семьдесят лет его фотографию. И я перед ним очень виновата, тем, что не разрешила ему себя поцеловать. Ну не идиотка? Мне ведь уже исполнилось шестнадцать лет. Мы сидели в скверике, он спросил:
– Роза, можно я тебя поцелую?
А я говорю:
– Ледик, ты что? Посмотри, сколько людей кругом! Нет, конечно!
Это было уже после возвращения из зерносовхоза «Горняк». Ледик и Франк вернулись вместе с нами в Сталино, так как Киев уже заняли немцы. В это время Белла прислала отцу письмо из Коканда. Писала, чтобы мы ехали к ней, что обеспечит комнату для всей семьи. И я сказала про это Ледику и адрес дала: город Коканд, улица Жданова, 65. Забегая вперед, скажу, что, когда мы эвакуировались, Ледик пошел на фронт. Писем от него не было. Но однажды я зашла на Главпочтамт и вдруг получаю там письмо «до востребования» – треугольник от Ледика. Он писал: «Розик, не знаю, получишь ты мое письмо или нет, но на всякий случай пишу, для того, чтобы ты знала мой обратный адрес…» Послание было очень теплое, нежное. И я тут же на почте написала ему ответ. Призналась в любви: «Ледик, ты прости, что не позволила себя поцеловать. Но сейчас я тебя мысленно целую…» Хорошее письмо получилось. Он ответил также на «до востребования»: «Читали всем взводом твое письмо. И все за меня радовались…»
Служил Ледик где-то в пехоте рядовым, поскольку забрали его с третьего курса и отправили сначала в зерносовхоз, а потом – в армию. Видимо, он погиб на войне. Иначе бы обязательно меня разыскал, даже по адресу в Сталино.
С эвакуацией мы задержались, потому что отец отвечал за организацию эвакуации предприятия. Когда же пришло время нам эвакуироваться, отец меня отправил попрощаться с Серафимой Ивановной, женой Леньки Бухтиярова, и ее детишками. После смерти моей мамы она меня пригрела: накормит, кусок мыла даст. Я дружила с их дочкой Галей, а с сыном Вовкой-второгодником училась. К тому времени их семья жила в Гладковке (маленький шахтерский поселок, названный по фамилии трагически погибшего директора шахты) в своем доме. Полдома занимала семья, полдома – пивнушка, где торговала пивом жена Лени.
Ну, я и поехала. Приезжаю в поселок, иду и вдруг слышу крик-шум. Смотрю: в канаве сидит пьяный дядя Леня, его лупят шахтеры, а он только руками прикрывается и кричит:
– Бей жидов – спасай Россию!
Ну, думаю, убьют. И давай просить:
– Дяденьки, не бейте, пожалуйста!
Упросила. Помогла соседу вылезти из канавы, кое-как довела до дома – весь в грязи, на ногах еле держится – он беспробудно пил. А Серафима Ивановна увидела нас и сердито так спрашивает:
– Что ты эту мразь ведешь сюда?
– Так это ж дядя Леня!
– Подлец он, а не дядя Леня.
Но рубашку с мужа сняла, бросила в таз с замоченным бельем.
– Дай ей денег, они эвакуируются, – сказал ей дядя Леня. – И дай продуктов.
И Серафима Ивановна дала мне 400 рублей, десять кусков черного мыла хозяйственного и три куска туалетного. Сложила все в торбочку. Очень нам это все пригодилось, пока добирались до Коканда.
Глава 8
«Вставай, страна огромная»
Осенью 1941-го, когда началась эвакуация из Сталино, сестра Рая, узнав, что больницу, где находились ее друзья, не собираются вывозить, а хотят разместить где-то в деревне, пошла на железнодорожную станцию к начальнику. Уговаривала, слезно просила отправить немощных студентов-медиков, которые из-за болезни даже ходить не могут. И уговорила ведь – посочувствовал начальник станции парням, в какой-то эшелон их пристроил.
Сама же Раечка вместе со всем своим курсом выпускников-медиков отправилась на фронт. 144-й медсанбат 124-й стрелковой дивизии, в котором ей предстояло служить ординатором, формировался на станции Ясиноватая. Оттуда она прислала отцу письмо с просьбой:
«Папа, попробуй мне достать сапоги хотя бы 37-го размера. А то я два шага делаю в сапоге, а третий уже с сапогом. Ноги растираются». Дело в том, что у миниатюрной Раечки ножки были 33-го размера. Отец, конечно же, выполнил просьбу дочери. Дядя Гриша, сапожник, стачал ей сапоги, которые пришлись впору. А наша мачеха Берта Абрамовна предложила:
– Я схожу на базар и попробую купить Раечке шелковую комбинацию. Вши не держатся в шелке, а она же врач – ей нельзя завшиветь.
Берта купила две комбинации: розовую и белую. Стали мы на семейном совете решать, как отвезти сапоги и белье в Ясиноватую. Рая в письме прислала справку: «Эпштейн Р. С. находится в Ясиноватой по месту службы». Инициалы совпадали полностью только с моими. А в автобусах шли проверки. Поэтому и поехала к сестренке я. Это был последний раз, когда я ее видела. А в 1942 году с ней встречалась сестра Груня в Харькове.
Белла с Анатолием в предвоенные годы жили в Москве. Сестра, став начальником участка Метростроя, вся ушла в работу. Она готова была дневать и ночевать на участке. Ее высоко ценили как специалиста и потому вынужденно мирились с ее беспартийностью. В то время стать даже самым маленьким начальником имел шанс только член Компартии. Но Белла, дочь убежденного коммуниста с 1918 года, категорически отвергала любой намек на вступление в партию:
– Некогда мне на ваших собраниях часами лясы точить.
И не только мирились, но и присвоили звание почетного железнодорожника СССР. Строительство метро требовало серьезных знаний, опыта и смелости, взять ответственность на себя при согласовании прокладки того или иного участка тоннеля. Ведь Москва стоит на территории, под которой располагаются водные залежи (пласты), выходящие в иных местах близко к поверхности. И не учитывать это при строительстве нельзя. Ибо следствием станет оседание домов и обрушение тоннелей. Белла всегда на первый план ставила принципы безопасности и надежности вводимого объекта, а не сроков, о которых рапортовали партийные руководители. Видимо, в определенной степени такое независимое поведение сходило с рук и благодаря авторитету мужа. Анатолий Михайлович был коммунистом и в самый канун войны в составе группы специалистов-фортификационников, в которую входил и генерал Д. Карбышев, участвовал в выработке рекомендаций по инженерному обеспечению прорыва линии Маннергейма.
Начало войны капитан второго ранга Анатолий Соболев встретил на главном острове Моонзундского архипелага Сааремаа (Эзель), который в срочном порядке требовалось укрепить инженерными сооружениями с востока. Поскольку ранее, ожидая вторжения противника со стороны моря, укрепляли западную часть острова. Оборона этого архипелага осталась поистине героической страницей в истории Великой Отечественной. Я много раз слышала от зятя и читала в мемуарах участников тех событий, как обстояло все на самом деле. Никто не думал, что столь стремительно произойдет отступление наших войск на суше. 8 сентября 1941 года началась оборона острова Сааремаа. А уже 9 сентября начавшаяся артподготовка немцев вывела из строя до 50 процентов инженерных сооружений и нанесла значительные потери личному составу обороняющихся.
Больше месяца длилась героическая оборона острова. Лишь 16 октября начальник Генерального штаба сухопутных сил Германии генерал-полковник Гальдер записал в своем служебном дневнике: «Остров Эзель занят нашими войсками». Хотя остатки защитников Сааремаа продолжали отчаянно драться с фашистами на полуострове Сырве. Многие бойцы и командиры попытались уйти с Сырве в море, на остров Хийумаа, на оккупированный материк, пробиться к своим, поскольку организованного сопротивления уже не было. Очень обстоятельно описана оборона островов Моонзундского архипелага в мемуарах генерал-лейтенанта С. И. Кабанова «На дальних подступах» (Воениздат, 1971).
Группу защитников Сааремаа на плотах течением занесло на шведский остров Готланд. В этой группе оказался и мой зять Анатолий Соболев. Тяжело раненный, с простреленным легким, он вынужден был взять принятие решения на себя, сумел дозвониться в Москву своему высшему руководству и доложить о ситуации на острове. Более половины попавших сюда защитников Сааремаа имели тяжелые ранения и нуждались в срочной медицинской помощи. Руководство связалось с наркомом иностранных дел В. М. Молотовым, а тот по своим каналам договорился со Швецией, соблюдавшей нейтралитет в войне, об интернировании этой группы советских моряков. Так Анатолий Михайлович попал в шведский лагерь, откуда был экстрадирован в СССР только в 1943 году.
Белла же в самом начале войны уехала в Коканд вместе с новорожденной дочкой Юлей. Работу нашла быстро. На военкома произвела впечатление справка о должности мужа, он устроил ее в строительную контору города. У Беллы эта работа хорошо получалась. Сразу же отправила письмо отцу, чтобы он с нами и мачехой эвакуировался в Коканд.
Получив это письмо, мы стали собираться в дорогу. Отцу дали повозку с тремя лошадьми. Погрузили мы свой скарб немудреный и по ехали: я, Борька, Фенька, Берта и отец. Кое-как до Чистяковки доехали, потому что попробуй удержать лошадей, когда со всех сторон машины. А дорога – сплошное бездорожье: осень, грязь страшенная. Отец нашел в Чистяковке какой-то колхоз и под расписку сдал скотину.
А ехали мы по направлению к Ворошиловграду (сейчас Луганск). Добрались наконец и там еще сутки сидели в вагоне с углем. Черные все, грязные, замученные. А поезд все не отправляют.
Обходчик с палкой идет, отец к нему:
– Не знаешь, когда отправят?
– Не знаю. Узнаю – приду скажу. Десять рублей готовь.
Куда деваться? Отец отдал. Опять ждем. И тут на соседний путь подходит поезд, весь закамуфлированный, закрытый – одни классные вагоны. Вижу в одном окошечке – голова дядьки низко так, а потом он вдруг стал выше ростом. Оказывается – в туалете сидел. Я как закричу:
– Дядечка! Возьмите нас, пять человек. У меня один брат майор, второй – старший лейтенант, сестренка – военврач. Все на фронте. И документы у отца есть.
Дядька сжалился:
– Ну, идите сюда! Вещи громоздкие?
– Нет.
Из вещей у нас были подушки и чемоданы. В один Фенька ноты свои положила – она второй курс Киевской консерватории закончила, а я – томик Есенина и другие любимые книги. Отправил он нас в комнатку для отопления рядом с тамбуром. Закрыл там и забыл. Едем-едем. Грязные. Стоять уже сил нет.
Отец спрашивает:
– Розка, куды мы едем? Ты ж договаривалась!
– Да шо я? Я попросила дядьку взять нас – он и взял. Спасибо.
– Иде той дядька?
– Батька, отщепись от меня!
Отец из-за тесноты даже рукой взмахнуть не мог, чтобы дать мне по шее, – впритык стояли. Так и ехали сутки. Куда ж деваться? Оказалось, что в том поезде Тбилисская военная академия эвакуировалась в Куйбышев. Когда у отца терпение лопнуло, он стал стучать в дверь. И нас наконец выпустили.
Тот дядечка Коля был в поезде единственным русским, остальные – грузины.
Нам полку одну сразу освободили. И мы наконец смогли сесть.
У грузин вино лилось рекой, везде были понатыканы и бутылки, и бочонки. Они и отцу дали несколько бутылок: пейте! А мы ж голодные. Нам бы поесть, а они не предлагают, хотя себе кашу приносят.
И тут приходит начальник эшелона и видит нас грязных. Тогда не разрешалось брать гражданских – вшивость была, зараза всякая.
– Это что такое? – спрашивает строго.
Отец показывает ему справки, которые одновременно прислали Леня, Исай и Рая о том, что они члены семьи такие-то с указанием их воинских званий. А сверху справок специально кладет свой партбилет. И говорит:
– Извините, что такие грязные – сутки в вагоне с углем сидели.
Начальник эшелона принимает решение:
– Взять на довольствие и пропустить через санпропускник.
В поезде имелись и вагон-баня, и вагон-ресторан. Отправили нас в баню. Я, Галька и Берта зашли первыми. На нас с Галькой платья были вельветовые в рубчик: у меня зеленое, у нее коричневое. Так мы их выбросили в окно. Где б их стирать и сушить? Намылись от души горячей водой, а мыло и полотенце у нас свои. Потом пошли мыться отец с Борькой. А мы отправились в свой вагон. Представляю удивление грузин, которые вдруг видят, как идут по вагону две девы. Симпатичная кучерявая черноволосая Галька в сиреневом свитере. И русоволосая Роза в белом свитере. Зря, конечно, его надела – замызгала в пути.
– Откуда вы? – спрашивают курсанты.
– Из бани. Нам начальник поезда разрешил.
Дежурный по вагону принес нам котелок с пшенной кашей. Пахучая, горячая. Наелись до отвала.
Не помню, куда нас довезли, но прощались мы тепло. Нас с Галькой расцеловывали. Гальку какой-то Шота всю дорогу обжимал по углам. Но отец за нами все время следил и ребят просил: «Вы девчат не трогайте!»
Долгой получилась наша дорога в Коканд. Но к концу осени мы добрались до места. Белла помогла нам снять проходную комнату в квартире с соседями. Отец устроился мастером на тукосмесительный завод, я – на одеяльную фабрику. А Борька упорно, как на работу, каждый день ходил в военкомат, просился на фронт. Но он был «белобилетчик» из-за ног. Его ноги на две палки походили, и суставы очень болели. В сырую погоду ночи напролет на раскладушке крутился. Берта Абрамовна ему все примочки какие-то делала. Тем не менее Борька рвался на фронт. Тогда ему уже восемнадцать исполнилось, а призывали с семнадцати лет. Придет к военкому, а тот ему говорит:
– Куда ты годишься? Там же переходы, марш-броски. И все на ногах.
Военком его выгонит, а Борька пойдет на базар, косточек абрикосовых наберет много-много, вернется и сидит под окном военкомата, кирпичом косточки разбивает. Стучит. Солдат выйдет:
– А ну пошел отсюда, или сейчас пристрелю!
– Стреляй! – соглашается Борька и продолжает сидеть.
В общем, надоел он военкому хуже горькой редьки.
– Пусть отец твой придет, – говорит.
Отец пришел.
– Слушай, до того твой сын мне надоел, – рассказывает ему военком. – Я гоню, а он опять идет, просится на фронт. Ну куда я его с такими ногами отправлю?
– Это же нормально – война идет. Было бы мне поменьше лет, я и сам бы пришел к тебе проситься на фронт. Что же делать? Может, куда-нибудь в санитарный поезд его определить, где не надо в атаку ходить, – предложил отец.
– Знаешь, для него специальную дивизию еще не сформировали, – не поддержал идею комиссар.
Вернувшись домой, отец Борьку предупредил:
– Еще раз пойдешь до военкома, я тебе голову откручу.
На работу брата в Коканде тоже не принимали. И все-таки он добился: в какой-то момент его призвали в армию. Сначала отправили в Казахстан, он оттуда свою одежду прислал, потом – на фронт.
Я тоже первое время в Коканде не оставляла попыток отправиться Родину защищать. Как-то даже Галькино платье, белое в мелкий красный горошек с бантом красным с белым горошком, надела – хотела понравиться призывной комиссии, чтобы меня взяли на фронт. Я даже окончила курсы медсестер и курсы Ворошиловского стрелка, снайперские. Но меня не взяли, спросили: с кем ты живешь?
– С папой и с мачехой, – ответила я честно.
А они решили, что я из-за мачехи из семьи бегу.
В комиссии был один лейтенант, который с Галькой шуры-муры крутил и меня знал. Не взяли меня на фронт, хотя ходила во все три комиссии. Галька, хоть и имела уже два курса Киевской консерватории, в Коканде смогла устроиться лишь в какую-то артель учетчицей. Там вязали для фронта свитера, варежки, носки. И там ее приглядел следователь транспортной прокуратуры. У него жена жила в Ташкенте с дочкой. А он был без ума от Гальки.







