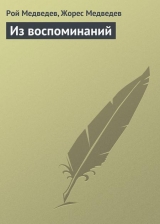
Текст книги "Из воспоминаний"
Автор книги: Рой Медведев
Соавторы: Жорес Медведев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Операция была проведена одним из лучших хирургов-урологов страны, который удалил больную почку вместе с опухолью. Возникла надежда, что все обойдется. Трифонов чувствовал себя после операции хорошо и был спокоен. В свое последнее утро он лежал в больничной палате и читал спортивную газету. Неожиданно он стал задыхаться и потерял сознание. Его не успели довезти до отделения реанимации. Он умер от послеоперационного тромба, прошедшего по кровотоку и закупорившего часть легкого. Писателю было пятьдесят шесть лет.
У меня нет желания писать о его похоронах, официальных похоронах, организованных Союзом писателей по «второму разряду». Извещение о смерти и месте прощания и похорон было опубликовано в печати с намеренным запозданием, и только малая часть любивших его читателей смогла пройти в Центральном доме литераторов мимо гроба с телом покойного. На гражданской панихиде только Анатолий Рыбаков сумел произнести искреннюю и взволнованную речь, сказав хотя бы часть того, что можно и нужно было бы сказать о Юрии Трифонове как о писателе и человеке.
Рой Медведев Встречи и беседы с Александром Твардовским
Трудно переоценить значение А. Т. Твардовского как поэта и как редактора и его влияние на литературную и общественную жизнь нашей страны, особенно в 50—60-е годы. Когда я думаю об этом, сравнение с Некрасовым и его журналами приходит на ум само собой. И ведь тоже 60-е годы, но XIX века… Многие миллионы людей испытали на себе влияние стихов и поэм Твардовского. Огромным было влияние на людей моего поколения журнала «Новый мир». Но мне выпало редкое счастье личного общения с Твардовским: на протяжении пяти лет мы встречались и беседовали довольно часто, и между нами установились если не дружеские, то вполне доверительные отношения.
Конечно, как читатель я давно знал Твардовского и относился к нему с очень большим уважением. В 40-е годы я читал много, но из поэзии в круг моего чтения входила только русская классика. Из советских поэтов я знал только Маяковского, любовь к которому привил нам с братом еще отец. Отрывки из «Василия Теркина» я услышал впервые с эстрады на концерте в Свердловске, и это были первые стихи за много лет, которые затронули мое сознание и сердце. Вскоре я приобрел «Книгу про бойца», сразу прочел ее и потом много раз с волнением перечитывал. До сих пор я считаю эту книгу не только лучшей о войне, но и лучшей в русской поэзии ХХ века. Эта книга стала частью того, что мы называем великой русской культурой.
Помню, как внимательно читал опубликованную в «Правде» главу из новой поэмы Твардовского «За далью даль». В этой главе «Так это было» говорилось о репрессиях 30-х годов не во весь голос, а скорее намеками. Но все это было еще до XXII съезда КПСС и воспринималось нами как важное литературное и политическое событие. В 60-е годы я покупал и читал «Новый мир» почти всегда от первой и до последней страницы. Общественная, политическая и нравственная платформа журнала и его редакции, которую возглавлял А. Т. Твардовский, была мне наиболее близка и понятна. Но мне нравилось качество всех журнальных публикаций. И проза, и публицистика, и поэзия, и литературная критика, и научно-популярные очерки – все это было в «Новом мире» как по литературному, так и по интеллектуальному уровню выше, чем в других журналах.
Начав осенью 1962 года работу над книгой о Сталине и сталинизме, хорошо понимая, что эта работа потребует многих лет и большого труда, я сознавал, что само существование «Нового мира» является для меня важным стимулом и поддержкой, – это сознание, конечно же, очень укрепилось после публикации в журнале «Одного дня Ивана Денисовича». Новые публикации Солженицына, полемика вокруг них, особенно статья Владимира Лакшина «Иван Денисович, его друзья и недруги» – все это было тогда источником многих переживаний, размышлений и бесед. Моя работа не была подпольной, и она шла как бы кругами: закончив второй или третий вариант рукописи, я тут же начинал писать четвертый, а через полгода – пятый, используя новые источники или критику. Первыми читателями моей работы были молодые историки Виктор Данилов, Михаил Гефтер, Норайр Тер-Акопян, Яков Драбкин. Немного позже я познакомился также через обсуждение своей рукописи и с известными писателями: К. Симоновым, В. Дудинцевым, А. Беком, Е. Гинзбург, В. Аксеновым, В. Тендряковым, В. Шаламовым, В. Кавериным, А. Солженицыным. Многие из них были авторами «Нового мира», и, как теперь понимаю, рано или поздно судьба должна была свести меня и с Твардовским. Сам я никогда и ни с кем из известных людей не встречался по своей инициативе.
В прямом контакте с редакцией «Нового мира» оказался еще в середине 1965 года мой брат Жорес. Редакция журнала начала в это время готовить к публикации книгу Жореса «Биологическая наука и культ личности». Это был сокращенный журнальный вариант. При подготовке к публикации, которую, к сожалению, так и не удалось осуществить, Жорес познакомился с некоторыми из ведущих членов редколлегии журнала. Они слышали о существовании моей работы и попросили Жореса дать им ее для чтения. Я не слишком быстро откликнулся на эту просьбу, так как работал над очередным ее вариантом. К тому же я предпочитал иметь прямые контакты с читателями своего «манускрипта», чтобы не допустить его бесконтрольного распространения, а также записать какие-то замечания, пожелания и дополнительные свидетельства. Рукопись была передана в редакцию «Нового мира» лишь к осени 1966 года, и, как я узнал позже, ее читали здесь по очереди все члены редколлегии.
В 1960-е годы я работал в одном из институтов Академии педагогических наук, возглавляя здесь сектор трудового воспитания школьников. Я любил школу, школьное дело, и педагогика трудового обучения и воспитания была моим главным занятием. В этой области я приобрел уже некоторую известность, защитил диссертацию, опубликовал две книги и много статей. Но все больше и больше времени я отдавал работе по советской истории, главным образом по истории сталинизма и «культа личности».
Однажды поздней осенью 1966 года меня позвали к телефону в приемную директора института. «Рой Александрович, – услышал я негромкий, но густой и глубокий голос, – с вами говорит Твардовский. Я прочитал вашу работу и хотел бы повидаться с вами. Когда бы вы могли побывать у нас в редакции?» Я ответил, что если это возможно, то для меня было бы лучше всего приехать в редакцию в тот же день – часов в пять после полудня. Моим правилом было никогда не откладывать важные для меня встречи. «Хорошо, – сказал, немного помолчав, Твардовский, – приезжайте. Мы будем ждать вас».
У меня было три часа на подготовку к этой встрече, и я попросил своего друга из сектора методики физики Василия Разумовского сопровождать меня. Мы вместе уже бывали у Константина Симонова и еще у одного из известных людей. Высокий, сильный, красивый и умный Василий Разумовский придавал мне уверенности в себе. Василий Григорьевич к тому же был главным редактором журнала, хотя это и был журнал «Физика в школе».
Мы приехали в редакцию «Нового мира», расположенную недалеко от Пушкинской площади. Нас сразу же провели на второй этаж в просторный кабинет Твардовского, и он тепло приветствовал меня и моего друга, поднявшись из-за письменного стола. Мы не успели обменяться и несколькими фразами, как в кабинет стали приходить и другие члены редколлегии: Владимир Лакшин, Алексей Кондратович, Александр Дементьев, Игорь Сац, Ефим Дорош, Александр Марьямов. Лишь позднее я узнал, что в редакции «Нового мира» был обычай – на первой встрече с автором интересной рукописи присутствовали почти все члены редакционной коллегии.
Разговор вел сам Твардовский, но по отдельным замечаниям его коллег было видно, что они все прочли мою работу. Я хорошо запомнил все, что говорил Твардовский, но это был разговор обо мне и моей рукописи, и я не вижу необходимости воспроизводить здесь беседу, которая продолжалась не менее двух часов. Моя книга понравилась Твардовскому не только благодаря строгой последовательности изложения и обилию заслуживающих доверия фактов, изложенных в ясной системе, но и благодаря ее спокойному тону и убедительной аргументации. Я рассматривал сталинизм не как порождение, а как извращение социализма, и Твардовский полностью разделял в этом и мою интерпретацию событий сталинских лет, и мои выводы. Я гордился тем, что сумел записать сотни устных свидетельств старых большевиков и других людей, помнивших и переживших события 20–30-х годов. Я использовал множество писем и мемуаров, которые мало кому были известны. Твардовский отметил это.
Но больше всего он был удивлен обилием ссылок на уже опубликованные в 1961–1966 годах книги и статьи, в том числе и на материалы из республиканских и областных газет. «Я и не подозревал, что так много обо всем этом уже напечатано», – сказал Твардовский. Он с удовлетворением отметил, что я не пропустил ничего важного из публикаций «Нового мира». Твардовский согласился с моим замечанием по поводу позиции Ильи Эренбурга («Пострадали люди, а не идея социализма»).
Он согласился и с моими замечаниями в адрес генерала армии А. Горбатова, мемуары которого также были опубликованы в «Новом мире». А. Горбатов был арестован в 1937 году, был подвергнут тяжелым пыткам и затем провел два года в лагерях. Перед самой войной он был реабилитирован и вернулся в армию, потом прошел всю войну. В своих мемуарах он с крайней неприязнью и осуждением отзывался о тех военных и гражданских работниках (а их было большинство), которые, не выдержав многодневных пыток, подписали фальшивые протоколы допросов, признав таким образом свою мнимую вину перед страной и народом. «Эти люди, – писал Горбатов, – заслужили своим малодушием свое наказание». Я оспаривал такое несправедливое и жестокое суждение. Твардовский сожалел, что оно попало на страницы его журнала, что он как-то не подумал об ошибочности такой оценки и такого отношения к жертвам сталинского террора. В машинописном тексте моей рукописи не хватало двух последних глав книги, и я обещал их привезти через семь-десять дней; моя машинистка заканчивала их перепечатку. «Никому не отдавайте, – сказал Твардовский. – Приносите их сразу мне».
Вскоре я выполнил это обещание, захватив заодно и две имевшиеся в моей библиотеке книги самого Твардовского – для автографа. На выразительном лице Твардовского промелькнула тень неудовольствия, – это была слишком заурядная просьба. Но он сразу же заметил и мое смущение. Возвращая мне книги с подписями: «В память о приятном для меня знакомстве» и «С пожеланием доброго пути его книге», он заметил: «Все это старые издания. Скоро выходят новые, и я вам их подарю». Сделав эти короткие надписи, Твардовский поставил дату – 14 декабря 1966 года.
Наша вторая беседа была не столь продолжительна, сколь первая. Твардовского поражали в моей работе два обстоятельства – что эта работа от начала до конца проводилась одним человеком без каких-либо согласований и поручений и что автор работы является членом КПСС, даже парторгом своего института, что он не пытается ниспровергать социалистическую идеологию, не отрицает великих достижений КПСС и СССР, что он остается оптимистом и ведет работу вполне открыто, без какой-либо конспирации. То, что Твардовский говорил мне в декабре 1966 года, он записал и в своих «Рабочих тетрадях». Я прочел эти записи в журнале «Знамя» через двадцать пять с половиной лет.
Первая большая запись сделана в Пахре 30 ноября 1966 года: «С утра стал переписывать (стихи), чтоб отвлечься каким-нибудь делом и не сразу пытаться записать все, что на душе от чтения двух папок Р. Медведева, – читать закончил во втором часу ночи за столом». Вторая – на две страницы – запись – о «густоте впечатления о работе Р. Медведева» – сделана 1 декабря 1966 года.
4 декабря Твардовский сделал еще одну запись: «Последние дни – главное, переполняющее душу впечатление и содержание мыслей и представлений, воспоминаний – все в связи с тремя папками Р. Медведева. Какой поистине подвижнический, огромный, дерзкий и благородный труд предпринял один человек, чтобы собрать все, что доступно, и выстроить в цельном, убедительном и глубоко партийном изложении историю сталинской эпохи. Как нужна эта книга, как непостижимо после нее и без того непостижимое и удручающее стремление верхов спрятать голову в песок от этой темы, – от нее не спрятаться… Голова ломится, сердце замирает, и просто жутко от этого всего, что наплывает, связывается, обступает и не дает жить вне этого. – Какова еще будет судьба книги и автора? Что-то нужно делать».
Еще одна запись сделана 5 декабря. 14 декабря вечером Твардовский записал по памяти: «Рой Медведев с товарищем. Прекрасное впечатление от этих людей. Вечером и утром читал предпоследнюю папку».
Последнюю главу моей книги Твардовский прочел в первые дни января 1967 года, о чем свидетельствует запись от 4 января: «Чтение окончания книги Роя – лучшей, пожалуй, ее части – как-то все еще осветило и уточнило для меня все, что и без того знал как будто и делал кое-что в достойном духе. Мне страшно за него и за наверняка безгласную судьбу этой книги, которая так была бы нужна в “юбилейном” году и значение которой для оздоровления всей нашей “юбилейной” атмосферы невозможно переоценить».
Обычно я забирал свои рукописи у читателей. Но у Твардовского я своих папок решил не забирать, он сказал, что ему надо иногда в них заглядывать. Они хранились и хранятся до сих пор в большой библиотеке Александра Трифоновича в трех переплетенных томах. Я делал тогда всего семь-восемь копий. На «постоянном» хранении они оставались еще у А. Д. Сахарова и у моего брата Жореса. Фотокопии всех своих главных работ и материалов из своего архива я передавал для хранения друзьям из числа бывших зэка – Георгию Меньшикову, который занимал важный пост в одном из министерств, и пенсионерке Доре Зориной. В 1969 году я отправил одну фотокопию друзьям Жореса в США. Книга не осталась безгласной, но до 1989 года издавалась только за границей.
Прощаясь со мной 14 декабря 1966 года, Твардовский просил приезжать в редакцию всегда, когда мне это будет нужно или когда у меня просто возникнет желание встретиться. В первые месяцы 1967 года я несколько раз приходил в редакцию «Нового мира», и темой наших бесед в кабинете Твардовского были, естественно, личность Сталина, природа сталинизма и те настойчивые попытки реабилитации Сталина, которые предпринимались тогда в партийной пропаганде и в литературе.
С радушием относились ко мне и другие члены редакционной коллегии; кто-нибудь из них всегда присутствовал при моих беседах с Твардовским. Иногда мы пили чай и закусывали вместе в небольшом редакционном буфете. Я приезжал обычно не с пустыми руками, а с какой-либо интересной новинкой Самиздата или с редкой книгой из литературной жизни 20–30-х годов, например, с большим стенографическим отчетом Первого съезда советских писателей в 1934 году Такие книги уничтожались в 1937–1938 годах, но что-то сохранилось, и я получал немало их от старых большевиков, вернувшихся из лагерей или ссылки.
А. Твардовский находился в редакции не всегда, а я в то время предпочитал не пользоваться телефоном и не договариваться о своих визитах заблаговременно. В этом случае я беседовал с Алексеем Кондратовичем, но еще чаще с Владимиром Лакшиным, в кабинет которого заходил нередко и Игорь Сац, человек с поразительной эрудицией. Все же приходить в редакцию даже по делу, а тем более для простой беседы о каком-то событии мне казалось неудобным, так как Твардовский и его сотрудники и помощники были всегда чем-то заняты, даже перегружены работой. Постепенно я почти перестал бывать в этой гостеприимной редакции. В последний раз, как я помню, мы обсуждали у Твардовского побег Светланы Аллилуевой из Советского Союза. Это событие, случившееся в марте 1967 года, всех тогда очень взволновало. «Для поклонников Сталина, – заметил Твардовский, – это будет сильным разочарованием».
Александр Трифонович заметил, что я перестал приходить в редакцию. Мне передали предложение – посетить его на даче или, вернее, в загородном доме в Пахре.
В июне 1967 года я в первый раз побывал в гостях у Твардовского в Пахре и с тех пор стал приезжать сюда почти каждый месяц. У Твардовского имелась большая квартира в Москве – в высотном доме на Котельнической набережной. Но он редко оставался ночевать в этой городской квартире и почти весь год – летом и зимой – жил в красивом двухэтажном загородном доме из красного кирпича. Здесь было просторно – вокруг живописное Подмосковье, большой настоящий лес, колхозные поля, свой небольшой огород, деревья, кусты роз.
В отличие от Переделкино, дома у писателей здесь были не государственные, а собственные, их надо было или покупать, или строить. Когда писательский кооператив только создавался, участки для дач нарезались большие – не меньше гектара. Ходила легенда, что этот размер определил сам Сталин, когда подписывал после войны постановление о строительстве нового дачного поселка для писателей. «Писатель должен ходить и думать, ходить и думать, – сказал якобы Сталин. – Дадим каждому писателю гектар». Однако позднее участки помельчали, так как приходилось строить все новые и новые дома. Большие лесные участки сохранились у немногих писателей. Участок при доме Твардовского был, вероятно, в треть или четверть гектара, но и такой участок создавал ощущение простора.
А. Твардовский познакомил меня со своей женой Марией Илларионовной и с дочерью Олей, которая только что кончила школу и училась на первом курсе института – она избрала для себя профессию театрального художника. Позднее я познакомился и со старшей дочерью Александра Трифоновича Валентиной, которая была профессиональным историком, кандидатом, а потом и доктором наук, автором многих статей и книг по истории революционного движения и революционной мысли в России в конце XIX века. Валентина Твардовская жила на прежней даче Твардовского во Внукове и не слишком часто приезжала в Пахру. У нее была семья, двое детей и немало собственных забот. Оля жила по большей части в Москве, но почти каждую субботу и воскресенье проводила у родителей. Когда она года через два вышла замуж, то приезжала с мужем Володей, также театральным художником. Их маленький сын Алеша стал любимым внуком Твардовского.
Обычно я приезжал в Пахру в воскресенье после полудня. Мы беседовали с Твардовским или в гостиной, или в небольшом кабинете на первом этаже. Большой кабинет и основная часть библиотеки находились на втором этаже, но Твардовский редко приглашал туда гостей. Потом беседа продолжалась за обеденным столом, где собирались все члены семьи Александра Трифоновича, которые в этот день находились в доме. Дом и хозяйство вела Мария Илларионовна, здесь не было домработниц, экономок, стенографистки, шофера, как, например, в доме Константина Симонова, который также жил в Пахре. Мария Илларионовна активно участвовала в обсуждении всех дел, и было видно, что она в курсе тех политических и литературных событий, которые тогда волновали всех нас. Гостей в воскресенье обычно не было, лишь иногда заходил кто-либо из соседей или гостящих в Пахре литераторов. Деловые встречи откладывались на другие дни недели, а воскресенье Твардовский проводил в кругу семьи, и, как я понял только позже, для меня делалось исключение.
После обеда я навещал других писателей из числа своих знакомых, а вечером заходил проститься с Твардовским. Если была хорошая погода и не было к тому же попутной машины, Твардовский провожал меня часть пути до шоссе, где ходили автобусы. Иногда я приезжал в Пахру на два дня – с утра в субботу и до позднего вечера в воскресенье. Ночевал обычно в доме Юрия Трифонова или в гостеприимной семье переводчика и критика Владимира Россельса.
В летние месяцы Твардовский приглашал меня просто прогуляться по лесу, он любил эти неторопливые лесные прогулки, да и разговоры в лесу проходили как-то свободнее и откровеннее. Еще на одной из первых таких прогулок Твардовский спросил – верю ли я в прослушивание домашних разговоров или бесед в редакции? Я ответил, что технически это не слишком сложное дело, и я думаю, что как кабинет Твардовского, так и его телефоны, несомненно, подключены к какой-то системе прослушивания. Однако это делается не для того, чтобы слушать все без исключения разговоры, но чтобы иметь возможность слушать и записывать некоторые из них. «Одна мысль, что кто-то слушает мои разговоры, мне противна, – сказал Твардовский. – Я не боюсь говорить все, что думаю. Но я не хочу, чтобы меня еще кто-либо слушал, кроме собеседника».
Как и раньше, я привозил в Пахру какие-либо материалы, которые, как я уже знал, могли вызвать интерес у Твардовского. Одним из первых подобного рода материалов была большая книга воспоминаний бывшего чекиста и крупного работника органов НКВД в Закавказье Сурена Газаряна «Это не должно повториться». Газарян сам был арестован в 1937 году подвергнут пыткам, прошел через много тюрем. Около шести лет он содержался не в лагере, а в одиночной камере, видимо, потому, что слишком много знал. Его освободили по окончании десятилетнего срока, и он тихо жил и работал в провинции. Свою книгу С. Газарян начал писать вскоре после ХХ съезда, но об этом мало кто знал. Я познакомился с Газаряном и его семьей в самом начале 60-х годов, и его рукопись была первой в той серии «тюремно-лагерных» воспоминаний, которых позднее ко мне попадало очень много.
А. Твардовский не только прочел книгу Газаряна, но и счел своим долгом написать большое и теплое письмо автору, которое очень обрадовало последнего и которое он бережно хранил до конца жизни. «Должен сказать, – писал Твардовский, – что я перечитал немало мемуаров, посвященных тому ужасному периоду в жизни нашего общества, который мы обозначаем как “тридцать седьмой год”, но я затрудняюсь сравнить с Вашими записками что-нибудь из прочитанного ранее… Мне незачем, думается, объяснять Вам, что об опубликовании Ваших записок сегодня не может быть и речи. Но я ни на минуту не сомневаюсь, что они, подобно некоторым другим работам, непременно увидят свет и послужат делу коммунизма, т. е. воспитанию людей, особенно молодых, в человеческом смысле. Они, эти записки, несмотря на все тягостное и порой ужасающее, что в них содержится, не приводят к отчаянию, не угнетают безнадежностью, но, наоборот, вооружают силой духа, волей, облагораживают».
Сурен Газарян умер в 1982 году в возрасте восьмидесяти трех лет. Через несколько месяцев, в мае 1983 года, его прах был перевезен в Ереван и захоронен в Пантеоне Армении. Книга С. Газаряна опубликована в Ереване сначала в 1988 году в четырех номерах журнала «Литературная Армения», а позже, в 1990 году, отдельным изданием, тиражом в тридцать тысяч экземпляров. И в том, и в другом случае в предисловии от редакции и издательства приводились не только главные факты из биографии автора, но и полный текст большого письма Сурену Газаряну от А. Т. Твардовского.
В 1967 году я начал работать над новой книгой под условным названием «Социализм и демократия». Следуя своему методу, я написал сначала на 75–80 страницах «Заметки о социалистической демократии», чтобы начать их обсуждение с друзьями и единомышленниками. Одними из первых читателей этих заметок стали Твардовский и Лакшин. Твардовскому была особенно интересна моя классификация различного рода неофициальных и неоформившихся течений как среди диссидентов, так и в самой КПСС. К течению «партийно-демократическому» я отнес условно «Новый мир», партийную организацию Института истории АН СССР, отдельных деятелей интеллигенции, публично обозначивших свою позицию. Именно это течение общественной мысли было мне наиболее близко, и я не скрывал этого.
Осенью 1967 года после одной из наших бесед, когда я сказал, что останусь ночевать в Пахре в доме В. Россельса, Александр Трифонович неожиданно достал из ящика стола и передал мне страниц пятнадцать машинописного текста со стихами. «Я написал дополнительную главу к поэме “За далью даль”, – заметил Твардовский. – Прочтите эти стихи вечером. А утром вернете. Может быть, у вас будут какие-либо замечания».
Перед сном, оставшись один, я прочитал стихи Твардовского, потом перечитал их еще несколько раз. Они меня взволновали. Я знал тогда только официальную и весьма краткую биографию их автора. Мне в то время ничего не было известно о трагической судьбе большой семьи Твардовского, его родителей, братьев, сестер, не ведал я и всего того, что сам А. Твардовский пережил в 30-е годы. Теперь я узнавал часть этого из его новой поэмы. Конечно, я не удержался, чтобы не переписать эти стихи. Но я не делал копий и показывал их позже только самым близким из друзей. Стихи Твардовского клеймили преступления Сталина, в них были слова о лагерях «под небом Магадана», о лицемерии вождя, о выселении целых народов, о поощрении лжесвидетельств и клеветы.
Было видно, что работа над этой главой начата не сейчас и еще не завершена. Какие-то строчки или слова были поставлены на время. Но это был уже не черновик, а близкий к завершению вариант текста. Я испытывал удовлетворение от того, что Твардовский в нем прямо и точно определил свою позицию, сказал обо всем недвусмысленно и сильно. Лично для меня наиболее волнующей частью поэмы были те несколько строк об отце, которые Твардовский написал, вспоминая «лишь руки, какие были у отца»:
В узлах из жил и сухожилий,
В мослах поскрюченных перстов,
Те, что со вздохом, как чужие,
Садясь к столу, он клал на стол.
И точно граблями, бывало,
Цепляя ложки черенок,
Одной рукой, как подобало,
Он ухватить не сразу мог.
Те руки, что своею волей
Не разогнуть, ни сжать в кулак.
Отдельных не было мозолей,
Сплошная – подлинно КУЛАК.
Мой отец погиб на Колыме позже, да он и не был крестьянином, но я всегда вспоминал и его, читая эти строки. Не слишком хорошо помню, что я сказал Твардовскому, когда возвращал ему стихи. Расспрашивать о семейной трагедии я не стал, некоторые из ее подробностей я узнал позже от В. Я. Лакшина. Как поэту я не мог сказать Твардовскому ничего, да и не из-за каких-либо отдельных слов давал он мне читать свои стихи, он просто показывал, что мы в этой позиции единомышленники. У меня в голове вертелось только одно замечание или пожелание: надо было бы более четко осудить не только «перегибы» при раскулачивании, но и всю эту жестокую карательную кампанию. Но я не решился высказывать на этот счет свои замечания.
Твардовский нередко расспрашивал меня о наиболее известных тогда деятелях диссидентского движения, которое становилось предметом повышенного внимания и в кругах интеллигенции, и за границей. К главному редактору «Нового мира» часто обращались с просьбой подписать ту или иную петицию или коллективное «открытое письмо». Он всегда от этого отказывался. Коллективных писем он не любил. «Я не хочу прятаться за чужие подписи», – говорил он. Ему не нравилась и резкость выражений, присущая большинству подобного рода документов.
Твардовский искренне считал себя коммунистом и не относился формально ни к своему членству в партии, ни к тому, что именовалось «партийной дисциплиной». Но это вовсе не означало простое подчинение каким-то партийным чиновникам. Твардовский хорошо знал цену себе и тем людям, которые возглавляли Союз писателей или аппарат отдела культуры в ЦК КПСС. Он смотрел на свою работу редактора «Нового мира» не как на оппозиционную деятельность, а как на важнейшую часть работы по развитию новой советской литературы и культуры страны в целом. Его положение было очень сложным; он не хотел и не мог быть простым исполнителем партийных директив, он опасался повредить своему детищу – «Новому миру».
Журнал двигался вперед как большой корабль, по определенному направлению, раздвигая торосы и избегая надводных и подводных рифов. Критика, а то и самая грубая ругань в адрес «Нового мира» в 1967 году возросла, и Твардовский уже несколько раз обсуждал с друзьями вопрос о своей возможной отставке или даже о смещении с поста. Надо было не только сохранять, но и расширять завоеванные плацдармы, но не зарываться и сохранять разумную осторожность. В такой обстановке Твардовский считал, и не без оснований, что и он, и его журнал смогут лучше выполнить свою общественную и литературную миссию, если не будут напрямую вмешиваться в разного рода политические и диссидентские акции, многие из которых были Твардовскому не только непонятны, но и откровенно чужды.
Для Твардовского важны были порой и чисто эмоциональные мотивы. Ему была неприятна развязность Петра Якира, который раза три наведывался в кабинет главного редактора с разными предложениями. Не получился у Твардовского и разговор с бывшим генералом Петром Григоренко, который приходил в редакцию с просьбой подписать коллективное письмо в защиту А. Гинзбурга и А. Галанскова – те в конце 1967 года должны были предстать перед судом. Твардовский отказался подписать это письмо хотя бы потому, что он не знал ни Гинзбурга, ни Галанскова, ни самого Григоренко. Тот был возмущен. «Трусливые люди всегда были на Руси и всегда, наверное, останутся», – сказал бывший генерал и ушел. Позднее он очень сожалел об этой размолвке с Твардовским и винил в ней себя. «Как ужасающе я был неправ, как бестолково и трагически мы разошлись», – писал Григоренко в 1975 году в письме к А. Солженицыну («Общая газета», 19–25 января 1995 г.).
Кого готов был Твардовский в 1966–1967 годах всячески защищать от разного рода репрессий и грубой критики – это А. Солженицына.
Почти в каждой из наших бесед с Твардовским возникала тема, связанная с судьбой Александра Солженицына. Лучшая пора отношений Твардовского и Солженицына к этому времени уже осталась позади. «Новый мир» еще в 1966 году готов был публиковать роман Солженицына «Раковый корпус», который был только что завершен и отправлен на публичное обсуждение в секцию прозы Союза писателей СССР в форме журнальной верстки. Я также читал этот роман еще до знакомства с Твардовским и был о нем очень высокого мнения. В Самиздате распространялась и подробная стенограмма писательского обсуждения «Ракового корпуса». Однако решительные возражения против публикации новой повести Солженицына возникали у влиятельных членов Правления и Секретариата самого Союза писателей, в том числе у Константина Федина, который был не только формальным главой ССП, но и членом редакционной коллегии «Нового мира».
А. Твардовский переживал эти конфликты гораздо сильнее, чем сам Солженицын. Отношение Твардовского к Солженицыну имело особый характер: это была очень сложная смесь уважения, любви, интереса, признания, обиды, непонимания, неприятия, а временами даже острой неприязни. Твардовский продолжал считать Солженицына великим писателем, самой крупной фигурой в современной русской и советской прозе и гордился тем, что «открыл» его для литературы. Позднее Солженицын пытался доказать и себе, и другим, что он, в сущности, ничем не обязан Твардовскому, что тот даже затягивал без нужды публикацию «Одного дня Ивана Денисовича», что он, Солженицын мог бы двигаться вперед и вверх более стремительно без «туповатой» опеки Твардовского и т. п. Или, напротив, Солженицын говорил и писал, что он ждал долго своего «взлета», мог бы еще подождать не один год.








