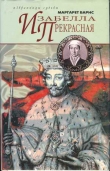Текст книги "Реставрация"
Автор книги: Роуз Тремейн
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
Глава двадцатая
Как Джон чуть не лишился своего половника
Эта ночь положила начало тому, что я называю «временем своего безумия в „Уитлси“»…
То, что было раньше, звалось «временем до безумия». Тогда, как вы видели, я верил, что мои отношения с Опекунами и их подопечными честные и чистые. Я не притворялся. И даже извлек почти утраченное врачебное мастерство из мрака, куда его заточил, и использовал на благо общины. Я принял новое имя и всячески стремился быть достойным его. А если иногда оживал старина Меривел и вздыхал об утраченном прошлом, он тоже старался быть полезным – как, например, в день танцев. Как сказал Пирс по поводу моей игры на гобое, все видят, что я совершенствуюсь.
Но теперь все изменилось: после того как я вошел в операционную вместе с Кэтрин, порок так плотно пристал ко мне, что я только им и жил, совсем не думая о повседневном долге, и шел на самые чудовищные хитрости, чтобы все так и продолжалось.
Проснувшись после той первой ночи, я вспомнил, что произошло, и испытал смертельный ужас. Опустившись на колени у кровати, я стал молиться: «Господи, на меня нашло безумие, я нечист, дьявол вселился в меня. Помоги мне прогнать дьявола, и я больше не согрешу».
Когда я спустился в кухню к завтраку, Ханна обратила внимание на то, что сегодня я бледнее обычного; я признался Друзьям, что неважно себя чувствую, – это подтверждалось тем, что каша застревала у меня в горле, да и ложку я с трудом держал в дрожащей руке.
Однако от ежедневной работы я не уклонился – на этот раз мне предстояло вывести на воздух обитателей «Уильяма Гарвея» – трудная и утомительная задача: перед выходом больных мыли, некоторых приходилось отчищать от экскрементов. Час за часом утренние страх и стыд понемногу отходили, уступая место непреодолимому желанию пойти в «Маргарет Фелл», грубо схватить Кэтрин за руку, затолкать в темную комнату и снова предаться с ней бесстыдным занятиям, от которых утром я решительно обещал отказаться.
Так проходил каждый день во «время моего безумия»: утром я клялся, что никогда, пока жив, не прикоснусь более к Кэтрин и ей не позволю домогаться меня, однако ночью я лежал без сна, дожидаясь момента, когда смогу юркнуть в темноту и пойти к ней.
Другие обитатели «Маргарет Фелл» вскоре выяснили, чем мы занимаемся в операционной, женщины иногда толпились у дверей, подслушивая; когда мы выходили, некоторые из них набрасывались на меня, вцеплялись в волосы, хватали за член, требовали заняться с ними тем же. То, что они знали о моих неблаговидных поступках, их жаркая похоть наводили на меня страх: ведь рано или поздно какое-нибудь их слово или действие выдаст меня Опекунам, и меня изгонят из «Уитлси». Я обманывал Пирса (кажется, первый раз в жизни, ведь раньше я никогда не притворялся, что веду честную жизнь), обманывал Амброса и всех остальных, тех, кто приютил меня и пытался сделать одним из них. Но, возможно, самым страшным было то, что я обманывал и Кэтрин, которая, полюбив, потребовала от меня клятвы, что и я люблю ее и, если соберусь когда-нибудь покинуть «Уитлси», возьму ее с собой. И я поклялся в этом. На самом деле я ее совсем не любил. Меня привели к ней жалость и похоть – безумная, неодолимая, она заточила нас с ней во мрак. И задавая себе вопрос, смогу ли я со временем полюбить Кэтрин, я знал на него ответ: это было так же маловероятно, как и то, что меня полюбит Селия.
Так недель пять я жил двойной жизнью во «время своего безумия», пока однажды, возвращаясь ночью к себе, не услышал голос: «Меривел!»
Дрожа, я стоял на лестничной площадке, не сомневаясь, что грешки Роберта вышли наружу и теперь он в качестве Меривела должен понести наказание. Я ждал – зов повторился: «Меривел!» На этот раз я узнал голос Пирса и медленно двинулся в сторону его комнаты.
Я приоткрыл дверь. У кровати моего друга горела свеча. Пирс лежал на боку, лицом к свече, и протягивал ко мне худую руку жестом нищего ладонью вверх.
– Джон, тебе что-нибудь надо? – спросил я.
– Меривел… – повторил он снова хриплым от катара голосом, – я ждал тебя.
– Ждал меня?
– Ждал твоего возвращения. Я слышал, когда ты уходил, и ждал, когда вернешься, чтобы тихо позвать тебя, не потревожив остальных.
– Да. Иногда, когда не спится, я иду подышать воздухом, – сказал я.
– Я слышал.
Я подошел ближе к Пирсу. Своего друга я знал так хорошо, что мог различить гневную складку на его губах еще до того, как он начинал говорить, и сейчас всматривался в его лицо, надеясь определить, есть она или нет. Складки не было, и я почувствовал облегчение. Однако, стоя у самой кровати, я увидел, как по его лицу струится пот, а щеки (обычно не верится, что обладатель щек такого воскового цвета когда-нибудь бывает на воздухе, не говоря уже о том, что большую часть дня он возится в огороде – тяпает, подрезает) лихорадочно пылают. Сомнений не оставалось – у Пирса поднялась температура.
Я коснулся рукой его лба. Меня чуть не обожгло.
– Джон… – заговорил я.
– Да. Понимаю. У меня небольшой жар. Как раз собирался тебе это сказать. Но я позвал тебя не для того, чтобы услышать то, что и так известно.
– Тогда для чего?
– Я позвал тебя, чтобы…
– …чтобы?
– Никак не могу найти свой половник. Думаю, он упал и закатился под кровать.
Я опустился на колени и стал водить рукой под деревянной кроватью по пыльному полу, но так ничего и не нащупал. Сколько я ни ползал вокруг кровати, вытягивая как можно дальше руки, половника нигде не было.
– Его там нет, Джон.
– Пожалуйста, найди его, Меривел.
– Почему ты называешь меня Меривелом?
– Я тебя так называю?
– Да.
– А как тебя зовут… на самом деле?
– Роберт.
– Роберт?
– Да.
– Видишь ли, сегодня, когда у меня поднялся жар… имя Роберт выскользнуло из моей памяти, я помнил только Меривела, с которым мы были свидетелями удивительного явления – открытого бьющегося сердца. Ты помнишь?
– Конечно, Джон.
– Я не смог, а ты протянул руку и прикоснулся к живому сердцу.
– Правда.
– А тот человек ничего не почувствовал.
– Ничего.
– Помолись, чтобы я стал таким же, как он.
– Почему?
– Чтобы я не чувствовал боли ни в сердце, ни еще где-нибудь.
– Тебе больно?
– Ты нашел половник?
– Нет. Под кроватью его нет.
– Пожалуйста, постарайся его найти.
– Не знаю, где еще искать. Ты сам как думаешь?
– Тсс. Не повышай голос. Разбудишь остальных.
– Обязательно разбужу, если ты мне все не расскажешь. Вернулась прежняя боль, в легких?
– Не могли его украсть?
– Нет. Я его отыщу. Где болит, Джон? Покажи или скажи. Где?
Пирс взглянул на меня. При тусклом свете свечи его выцветшие глаза казались темнее. Он поднял руку и робким движением опустил ее на грудь.
Я выпрямился. Половник может подождать, сказал я, сначала надо послушать твое дыхание. Я бережно помог ему повернуться на спину, откинул постельное белье и приложил голову (ее всего полчаса назад в своих руках держала Кэтрин, требуя, чтобы я, как младенец, сосал ее грудь) сначала к грудине, потом опустился ниже – к диафрагме.
Половник Пирса я обнаружил под подушками и вручил ему. Потом ненадолго оставил друга, сказав, что пойду вскипячу воду для ингаляции с бальзамом, сам же сначала отправился в свою комнату и тщательно помылся: каждая частица моего тела, казалось, источала запах Кэтрин. Надел свежую рубашку и причесался. Только после этого я спустился на кухню и приступил к приготовлению единственного средства, которое я и весь остальной медицинский мир могли предложить моему другу. Только на этот раз я знал, что оно ему не поможет.
Эту ночь я не отходил от Пирса, и последующие десять дней и ночей все Опекуны «Уитлси» поочередно дежурили у его постели.
На пятый или шестой день боль при дыхании стала совсем невыносимой, и тогда Пирс шепнул мне: «Не ожидал, что с таким нетерпением буду ждать последнего вздоха».
Мы давали ему препараты опия, и, когда они поступали в кровь (циркулируя по всему организму в соответствии с открытием его обожаемого учителя Уильяма Гарвея), Пирс впадал не то чтобы в сон, а в грезы о прошлом: он болтал без умолку о своей матери, которая все двадцать лет, что была вдовой, каждый день молилась о душе покойного мужа, брадобрея, не оставившего ей после своей кончины ничего, кроме рабочего инструмента; этой бритвой она и перерезала себе горло, когда сын поступил в Кембридж. Ее похоронили не на кладбище, рядом с мужем, а на перекрестке дорог, вдали от деревни, в этом месте никто не останавливается, в какую бы сторону ни двигался, – ни пеший, ни всадник, ни путешественник в карете. Пирс сказал, что если мы откроем его Библию на десятой главе Евангелия от Матфея, то увидим «оттиск птицы, проходящий через всю страницу». Он не помнит названия птицы, помнит только, что она была маленькой, он наглел ее уже мертвой, когда был еще ребенком и жил с матерью. Было видно, что ему не терпится показать нам этот оттиск, и тогда я взял Библию и стал его искать, но он оказался не в Матфее, а в Марке и занимал целых две страницы – коричневый сальный след, как будто на Священное Писание неосторожно обронили горячий поджаристый блин. Я показал эти страницы Пирсу. «Ты об этом говорил, Джон?» – спросил я. Ему было трудно сосредоточить рассеянный взгляд на неряшливом отпечатке, но в конце концов он ответил: «Да. Внутренности птицы я удалил, не желая загрязнять слова Иисуса, а потом положил ее на раскрытую Библию, расправил крылья, закрыл книгу, положил сверху груз и засушил птицу, как цветок».
Я бросил взгляд на Ханну, она сидела по другую сторону кровати Пирса, время от времени смачивая лоб страдальца лавандовой водой. Женщина покачала головой, как бы говоря, что не считает историю о засушенной птице правдой; оба мы представляли, какая вонь должна была идти от трупика птицы, разлагавшейся в этой гробнице из священных слов. Будь Пирс здоров, я не преминул бы заметить, что запах мертвого позвоночного даже отдаленно не напоминает аромат увядшего цветка, но сейчас он был очень болен и так слаб, что не мог оторвать голову от подушки, усеянной выла 1давшими волосами.
Все эти десять дней понимание, что Пирс умирает, существовало,но как бы помимо меня. Нежелание смириться с реальностью не было связано с ложными надеждами на его спасение. Думаю, я понимал: даже сознание неминуемой потери друга не сможет подготовить меня к его действительному уходу.
На седьмой или восьмой день болезни Пирса боль в легких и лихорадка немного отступили. Ой попросил приподнять его, чтобы сидеть в подушках – «не украшенных кисточками или прочими побрякушками, и не ярких, каких много в твоем доме». Я улыбнулся, осторожно просунул руки ему под мышки (ни грамма мяса – только кожа и кости) я притянул к себе, а в это время Даниел поставил подушки. Я спросил Пирса, не съест ли он немного супа. Он согласился, и Даниел пошел на кухню (в доме всегда есть суп, на кухне постоянно варятся кости с луком и зеленью), оставив меня наедине с Пирсом.
Я сел подле друга, до меня долетало его дыхание, отдававшее серой. Пирс завел вполне разумный разговор о самозарождении, в которое он никогда полностью не верил, хотя возникновение живых личинок на мертвом тебе можно считать доказательством этого.
– Скажи, Меривел, разве нельзя гипотетически предположить, – спросил он, – что личинка появилась из яйца такого маленького, что человеческий глаз просто неспособен его разглядеть?
– Думаю, можно, Джон.
– Но если человеческий глаз не может разглядеть подобные бесконечно малые вещи, тогда на свете, возможно, есть такие материальные явления, о существовании которых мы далее не догадываемся?
– Вполне возможно.
Пирс вздохнул. Некоторое время он молчал. Потом сказал:
– Грустно сходить в могилу, когда в мире еще столько неизвестного.
– Не стоит раньше времени говорить о могиле, Джон, – сказал я.
– Ну, конечно, – отозвался он с кислой миной. – Сколько тебя знаю, всегда находится много чего, о чем, на твой взгляд, мне не стоит говорить. Но, это не соответствует моему характеру. Сейчас тоже хотелось бы кое-что прояснить – не уносить это с собой в могилу. Речь пойдет о моих вещах.
– Каких вещах?
– Того немногого, что мне дорого. Когда-то ты, подсмеиваясь надо мной, называл их «горящими углями».
В этот момент появился Даниел, избавив меня от унизительной необходимости просить в очередной раз прощения у Пирса, которое мне было бы трудно из себя выдавить: ведь я считал, что это он должен просить прощения за свой необдуманный поступок. Как мог он уйти, навсегда покинуть меня?!
Даниел поставил поднос, на котором стояла миска с супом, лежала ложка и еще какой-то зеленоватый фрукт, – в нем Пирс тут же признал выращенную им грушу. Он взял ее в руку, ощупал, потом поднес к своему чувствительному носу.
– Аромат груши. Всю жизнь люблю его, – восхищенно произнес он, и эта восхищенность вызвала в моей памяти наши поездки на реку и восторг Пирса при виде искусственной наживки.
Даниел улыбнулся мне и сел кормить больного. Однако, к моему удивлению, Пирс вежливо попросил Даниела оставить нас одних. Юноша тут же встал, передал мне ложку и вышел.
Суп был горячий. Я не хотел, чтобы Пирс обжегся, и прежде, чем поднести ложку к его губам, долго на нее дул. Некоторое время мы молчали, сосредоточившись на кормлении. Но глотательные усилия быстро утомили Пирса, он попросил убрать поднос, а ему принести перо, чернила и бумагу.
Хотя завещание Пирса сейчас не находится у меня перед глазами – бумага у Амброса, как я положено, – я помню ее дословно: ведь это было, наверное, самое короткое завещание на свете. «Горящие угли» за это время сильно сократились – их осталось немного. Все книги, включая Библию, Пирс передал «Уитлси». Изрядно поношенную одежду, какую Пирс носил без тени смущения, он предложил отдать «кому-нибудь из обитателей больницы, пусть носят одежду настоящего квакера и с нежностью относятся друг к другу». Половник он завещал мне: «может, эта хрупкая вещь иногда утешит его». Вот и все. Пирс заставил меня приписать, что он, «Джон Джозеф Пирс, квакер, больше не имеет никакой собственности».
Написав это (самым аккуратным почерком, на какой только был способен, изо всех сил следя за нужным положением гусиного пера), я передал бумагу Пирсу и помог ее подписать. По поводу распоряжения о половнике я ничего не сказал: этот его поступок так взволновал и расстроил меня, что на некоторое время я утратил дар речи. Когда же вновь обрел голос, то предложил Пирсу отведать зеленую грушу, но он отказался, боясь, что заболят зубы.
С той ночи, когда Пирс окликнул меня после посещения «Маргарет Фелл», я не ходил к Кэтрин и попытался вступить в сделку с Богом, пообещав, если Он оставит Пирса в живых, никогда не прикасаться к Кэтрин и даже близко к ней не подходить.
Но все было бесполезно, и я это знал. Пирс умирал. Кэтрин же, считая себя брошенной, пришла после очередной прогулки к главному дому, колотила в дверь и кричала во весь голос, что я ее любовник. В этот день – девятый день болезни Пирса – я и остальные Опекуны ни слова не произнесли за ужином, все с грустью смотрели на меня, а в конце ужина Амброс сказал: «Когда придет время, Роберт нам все расскажет». Я кивнул, соглашаясь с его словами. После этого мы поднялись и стали убирать со стола.
Все знали: пока Пирс жив, я не могу покинута «Уитлси».
Он умер в тихий час между ночным обходом и рассветом – на одиннадцатый день болезни.
Я был рядом с ним до конца, один.
Я закрыл его рот. Сложил худые белые руки на груди. И в руки вложил половник.
– Видишь, – шепнул я, – он остался с тобой.
Потом я закрыл ему глаза. И сел рядом. Тут на меня обрушилась страшная тишина, и я понял, что это навсегда: когда бы я ни подумал о своем друге, когда бы мысленно ни заговорил с ним, я снова услышу эту тишину – вместо ответа, или совета, или неодобрительного фырканья отныне будет только она, эта тишина – молчание Пирса…
Наклонившись вперед и упираясь локтями в колени, я сидел на жестком стуле и плакал. Я не пытался сдерживать слезы, не утирал их платком или полосатой салфеткой, они капали на пол, на мои бедра, стекали по ногам.
Когда я вновь поднял глаза, за окном белел рассвет, а в комнате, помимо меня, были и Амброс, и Эдмунд, и Ханна, и Элеонора, и Даниел, они стояли подле кровати, их руки были молитвенно сложены.
Гроб в тот же день сколотили двое мужчин из «Джорджа Фокса». Гроб был слишком велик, и теща мы, положив в него Пирса, обложили тело грушевыми ветками.
Ночь мы провели в комнате для Собраний – она и прошла как Собрание, затянувшееся надолго, – каждый говорил о Пирсе, когда и как ему хотелось, и еще мы молились о его душе.
Я молчал, старался припомнить его мудрые высказывания, и первое, что вспоминалось, – это приводившие его в отчаяние жадность и эгоизм нашего века, он считал их чем-то вроде болезни, от которой мало кто защищен, включая поэтов или драматургов («потому что, Роберт, сейчас продается даже творческий дух, и мать Благочестие породила Распутство, развратную дочь»). Эти мысли немного утешили меня: через них я понял, что Пирс не многое любил в этой жизни – неясность и отзывчивость квакеров, мудрость Уильяма Гарвея, воспоминания о матери, выращивание деревьев en espalier,утреннюю зарю на реке, где водится форель, – поэтому, хоть он и говорил, что боится смерти, однако не мог не желать ее.
Я изо всех сил старался представить его в Раю (как часто пытался вообразить там своих родителей, но все, на что годилось мое воображение, – это Воксхолский лес, однако сомнительно, чтобы Рай, если он существует, напоминал место, где лондонцы любят устраивать пикники). От этих мыслей меня оторвал Даниел, он вдруг произнес: «Господь открыл мне, что Джон Пирс примером своей жизни научил меня многому, но главное, чему он меня научил: не позволять привязанностям брать над тобой верх, ведь с тех, кого он любил больше других, он строже и спрашивал, потому его любовь не портила, а давала силу». При этих словах я поднял глаза и увидел, что Даниел смотрит на меня, и Амброс – тоже, как будто они ждали, что я заговорю.
Меня бросило в жар, как в тот раз на Собрании, когда я предложил рассказывать нашим больным истории и устраивать танцы, из чего я заключил, что буду говорить и сейчас, но не подозревал, что в процессе произнесения речи мне откроется нечто такое, о чем я до этого не догадывался. Я хотел встать, но ноги мои подкашивались, и я заговорил, продолжая сидеть: «Когда этим утром умер Джон и внезапно наступила тишина, я слушал и ждал. Нет, я не ждал каких-то слов от Джона или от Бога, я ждал слов от себя и для себя, и вот наконец эти слова пришли…»
Но даже в этот момент я еще до конца не знал, что это за слова и что я сейчас скажу перед всеми. Я замолчал, вынул платок, вытер лоб и продолжил: «И в этой тишине я понял одну вещь. Вот она: моя страсть к женщинам, которая до приезда сюда была столь горячая и необузданная, даже любовь к моей жене Селии… все это всего лишь самообман и больше ничего, всего лишь тщеславие и похоть, и теперь я стыжусь этого. За всю свою жизнь я любил только двух людей, и эти двое – Джон Пирс и король Карл».
Для Друзей упоминание имени короля рядом с именем Пирса явилось таким шоком, что они дружно подняли глаза и строго посмотрели на меня. Я беспомощно развел руки. «Вы сразу же скажете, – продолжал я, – что моя любовь к Джону Пирсу полна смысла, а любовь к королю бессмысленна, и мне следует, как часто советовал Джон, исторгнуть ее из себя. Но, похоже, это невозможно. Ведь что бы я ни делал, как далеко ни отходил бы от прежней жизни, эта любовь остается. Только теперь она перестала быть требовательной. Она ничего не просит, – это как любовь к умершему, как моя любовь к Джону. Ни одного из них я больше не увижу. Ни с одним не буду проводить время. Сегодня я понял: моя любовь к этим двум людям подлинная – хотя в одном случае она разумна, а в другом – нет, – и никто в целом мире не значил для меня больше, чем эти двое. И я благодарен тому, кто открыл мне на это глаза, будь то Бог или еще кто!»
Постепенно охвативший мое лицо и тело жар поубавился, хотя я сознавал, что глаза Друзей по-прежнему устремлены на меня. Я физически ощущал их недовольство и ждал отповеди. Но они промолчали. Представляю, как тяжело было им справиться с неминуемым гневом, но все же они одержали над ним победу, не оскорбили тишину и память о Джоне.
Итак, ночь продолжалась, пока ее не сменило утро. В шесть часов мы выпили шоколаду и съели немного печенья – мне показалось, что его вкус отдавал углем.
Приблизительно в полдень десятого сентября Пирса опустили в могилу, и желтая глина Уитлси плотно, со всех сторон, накрыла его. Я проследил, чтобы половник положили в гроб прежде, чем тот заколотили. Стоя у могилы, я вспомнил, как в Кембридже коварные воришки, остроумно называвшие себя «удильщиками», пытались украсть половник и остальные веши Пирса. Однажды ночью, когда мой друг спал, они просунули в открытое окно длинный шест с проволочным крюком на конце. Проснувшись, он увидел плывущий по комнате в лунном свете стул, который скрылся в окне. «Только когда в комнате снова объявился шест, – рассказывал Пирс, – и я увидел, как он движется прямиком к моему половнику, мне стало ясно, что я имею дело не с духами, а с обыкновенными ворами. Я грозно закричал, мой крик испугал их, и негодяи убежали». Рассказав мне эту историю, он рассмеялся и сказал: «Наверное, легче напугать и прогнать живых, чем мертвых? Как думаешь, Меривел?»
Не помню, что я ответил.