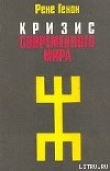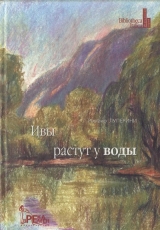
Текст книги "Ивы растут у воды"
Автор книги: Романо Луперини
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Глава четвертая
«Он как будто снова погрузился в атмосферу юности, даже детства. Это чувство вызвано было возвращением после стольких лет, а теперь уже и с женой и сыновьями, в старый дом на холме для управления отцовским имением. Впрочем, он был еще молод годами и внешне, несмотря на долгую войну, которую он прошел до конца, и последовавшие за ней несчастья, происходившие с ним. Но теперь он чувствовал себя прямо-таки заново родившимся». Так начинается рассказ, написанный осенью 1950 года, в котором отец говорит в третьем лице о себе и своей новой жизни в деревне с женой и сыновьями (тем временем у меня родился братик). Сестра осталась с тетей и дядей, которые решили взять на себя заботу о ней.
В доме на холме отец родился и вырос, а его отец, мой дед, умер за год до этого. Вернуться туда значило положить конец длинной цепочке подкарауливаний, разъездов, ссор, бегство из города было способом определения себя и своей жизни, способом найти себя.
Мой дед носил шляпу и седые усы. По вечерам, сидя на низкой скамеечке у огня домашнего очага, приподнятого от земли, он рассказывал, как был в Америке, таскал в корзинах камни на сооружении железной дороги на Запад; а я, когда приезжал к нему на зимние каникулы, долго слушая его, засыпал у него на коленях, уткнувшись носом в его рубашку, которая пахла сорго. Летом он раскладывал пустые мешки на лугу рядом с гумном, под навесом, и растягивался на них, положив меня рядом, слушать концерт сверчков; или, стоя на коленях, чтобы быть одного роста со мной, учил меня движениям и трюкам борьбы: «Убери задницу! – кричал он. – Зад должен быть снаружи, с наружной стороны!»
Дом он построил сорок лет назад, тогда, вернувшись из Америки, он купил немного земли на холме и поля в низине и женился. Он и младший сын, который не получил образования и остался с ним, работали в поле: они собирали сорго, кукурузу, картофель, бобы, арбузы, делали немного вина, немного оливкового масла. Он учил и меня копать картошку, сажать фасоль, сушить тыквенные семечки, чтобы потом грызть их. Он сделал мне мотыгу и заступ по моему росту. Он хвалил меня за «отвагу», слово, которое сначала я не понимал, оно означало «здоровье» и «силу» вместе. Когда я бегал с другими детьми, то, довольный, он кричал женщинам: «Смотрите, как он бьет пятками по заду!» Однажды летом отец отвез меня на велосипеде в низину, дед стоял посреди поля, а у его ног была змея, и, пока он, подняв серп, думал раздавить ее башмаком, она обвилась вокруг ноги, тогда он ударом руки снес ей голову.
Царством деда был чулан: комната с низким потолком, без настила, заполненная бочками, кадушками, чанами; за ним, через три ступеньки вниз под арку, шел хлев, в котором, когда я был маленький, стояли коровы, а сейчас клетки с кроликами и корзины с наседками, высиживающими на соломе птенцов; наконец, перед выходом коридор был заставлен мешками с семенами, подвешенными на стенах или стоящими в углу серпами, садовыми ножами для обрезки сучьев, топорами, граблями, косами, вилами, заступами, мотыгами. Здесь у стены стояли и мои заступ и мотыга; и я, прежде чем взять их, плевал себе на руки и растирал, видя, как это делал дедушка.
Здесь, в густом запахе бродящего вина и навоза, бурлило сусло, раздувалось брюхо крольчих, подрастали цыплята, вылуплявшиеся из яиц.
Когда я стал жить там постоянно, меня удивляло отличие этого дома от дома в Лукке. В доме не было воды, надо было набирать ее ведром в колодце под смоковницей. В кухне на раковине из серого камня всегда стояли два полных ведра. Над печкой с квадратами открытых конфорок был надстроен очаг с камином, с черным таганом для каши и двумя низкими деревянными скамеечками по бокам. Потом туалет. Там было невозможно смотреть книги и мечтать: он был неудобный, с круглой зловонной дырой, над которой надо было сидеть на корточках. Потом дыру закрывали тяжелой каменной крышкой. Я быстро усвоил, что, когда не очень холодно, лучше делать это в поле.
На первом этаже, рядом с комнатами, располагалось помещение-склад для хранения сорго. Каждые два месяца сорго надо было перекладывать, чтобы мыши не делали в нем нор и не поедали его: снопы сорго несли на гумно, разбрасывали на солнце и снова закладывали в помещение до самого потолка. Несмотря на это, каждый раз откапывались новые выводки мышей, которые начинали лихорадочно бегать туда-сюда, как только в их норы врывались свет и крики людей. Домашний кот в гуще этого кишения не знал, куда поворачиваться, на кого бросаться. Возбужденные этим избиением люди кидались с криками во все стороны, со щетками и метлами. На настиле, стенах, всюду оставались пятна крови, кулечки кожи и костей. В Лукке я любовно разводил мышат, а здесь быстро включился в общее возмущение, приносил кота и бросал его на снопы сорго.
Позади дома, на жидкой черной куче навоза и соломы, рылись куры в поисках красных червяков, стояла печь с раскрытым полукруглым зевом, и из него торчала ручка лопаты; а ниже был курятник, с грязными от помета длинными шестами, земля под которыми тоже была усеяна пометом и перьями. Чтобы взять яйца, приходилось садиться на корточки и вползать на четвереньках внутрь, вдыхая сильный теплый запах, стараясь не запачкать руки и колени: корзина с наседкой стояла в глубине, в темноте, надо было искать ее на ощупь, шарить руками, пока не наткнешься на теплые яйца, и не пугаться, если потревоженная курица начнет хлопать крыльями тебе в глаза и кудахтать, прогоняя прочь.
Между печью и лачугой для откорма скота, где дедушка держал двуколку и плуг, рядом с колодцем в тени большого фигового дерева, был сделан каменный резервуар для воды. Он служил женщинам местом стирки, а мужчины растворяли в нем медный купорос для опрыскивания. Грязная вода стекала вниз, в долину, по вырытой в поле канавке. Тут я увидел в первый раз, как отец выполняет крестьянскую работу. Он надел на себя старый жакет и серую шляпу, которые до самого последнего времени носил дедушка. «Но ты же никогда этого не делал, даже когда жил здесь», – пытался разубедить его брат. Но он хотел попробовать. Ведро ходило вверх-вниз много раз, пока резервуар не наполнился. Тогда папа вынул из чулана канистру с сульфатом и, продев в ее ручку древко от заступа, положил его поперек резервуара так, чтобы канистра погрузилась в воду и сульфат растворился. Надел ранцевый насос на спину, не удостоив взглядом нас, мальчишек, любопытных и возбужденных, и начал опрыскивать виноградник медным купоросом. «Весит больше, чем пулемет», – сказал он брату, который нес на плечах уравновешенные на шесте ведра с бордосской жидкостью. Был такой ясный бирюзовый день, что хотелось бежать, сделать праздник. У отца тоже было желание пошутить, когда мы подходили слишком близко, он грозил нам длинной трубкой, из которой вырывалась струя.
Дедушка умер неожиданно, за год до этого, после того, как целый день опрыскивал виноградник. Когда мы приехали на похороны, я боялся увидеть его мертвым и остановился перед его комнатой. Но папа толкнул меня вперед, к кровати, на которой, весь в черном, лежал дедушка, его узловатые руки были скрещены на груди. Отец хотел, чтобы я его увидел и запомнил. Тогда я закрыл глаза, чтобы не смотреть на него.
Когда мы поселились в доме на холме, по праздникам и часто по воскресным дням мы с папой ходили на кладбище. То поднимаясь в гору, то медленно спускаясь вниз, мы шли по каменистой пыльной дороге к селу, уже оказавшемуся в тени, выходили направо и поднимались на другой холм, еще залитый солнцем, между двумя рядами черных кипарисов. На последнем отрезке пути мы с братом начинали развлекаться перед лотками с карамелью, жаренным в меду миндалем и вафлями, бросать друг в друга шишки кипариса, бегая и прячась за кучками людей, толпящихся у входа на кладбище. Но когда мы входили на кладбище, желание развлекаться пропадало. Воздух был неподвижным, тяжелым от насыщенного запаха хризантем и тающего воска.
Папа останавливался у могилы, молчал, я не знал, что делать, и стоял, уставившись на даты рождения и смерти (16.3.1873–12.9.1949), чтобы попытаться понять их смысл, сокровенный закон, важный для нашей семьи. Я раздумывал о цифре три и ее кратных, фигурирующих в датах рождения моей и отца, и пытался догадаться о дате смерти отца и моей.
К тому времени отец стряхивал с себя оцепенение, спокойно заговаривал со встречными людьми. Он больше не боялся случайных встреч, как в Лукке. Однажды друг, которого прежде я никогда не видел, провел рукой по моему лбу вдоль линии волос и сказал: «Лоб и волосы у тебя отцовские». Потом отец много раз вспоминал этот эпизод и повторял его слова.
Из дома на холме отец ездил на велосипеде в школу в село за двенадцать километров: шесть километров он спускался через рощи акаций и открытые зеленые пространства, по которым бродили фазаны, до Арно, потом ехал вдоль берега реки, следующие шесть километров он ехал то по равнине, то в гору, через густой сосновый лес и поля кукурузы и подсолнечника. На полпути в гору ребята-пятиклассники шли ему навстречу и помогали толкать руками велосипед на последних поворотах, самых крутых. Они – отличные ребята, хвалил их отец, подразумевая, что сравнение было не в мою пользу. Они умели работать на земле, разводить птиц, чинить велосипед: ставили заплаты на дырявые камеры, разбирали и собирали коробку передач и картер, снимали колеса и снова ставили их на место.
Иногда папа возвращался в дождь, в промокшем плаще, с забрызганным грязью велосипедом. Тогда мама заранее разжигала камин, а я должен был почистить велосипед. Я снова и снова водил тряпкой, но папа никогда не был доволен: «А спицы? – говорил он. – А ступица колеса? А обода? Они ржавеют, если оставишь их так». Или он приказывал мне надуть ему шины, и я давил-давил на поршень насоса. «Прижми его к колену», – кричал отец и потом: «Согни колено, не стой столбом!» Но как я ни качал насос, все было напрасно, шины никогда не были достаточно тугими. Я чувствовал на себе его взгляд, который впивался в меня. Я не знал, куда девать руки, как повернуться. Видя мой паралич, мама украдкой приходила мне на помощь и сама надувала колеса.
Как-то раз, в конце весны, отец появился в верхней части улочки не на велосипеде, а на мопеде, который называли «москитом». На середине улочки он нажал на газ, чтобы было больше шума, и, наконец, по большой кривой въехал на гумно, тормозя по земле правой ногой, чтобы остановиться. «Москит» был велосипедом (у него даже были педали), но со встроенным баком для смеси. На руле, рядом с правой ручкой, имелся рычажок газа, а внизу к картеру был подвешен мотор. Мыть его мне было еще труднее, так как надо было вытирать тряпкой гайки и рычаги мотора, держа его двумя руками и поднимая вверх и вниз, слева направо, проходясь по двум рядам спиц.
Мы приехали в дом на холме в конце сентября. С октября поодиночке или стайками прилетели малиновки: утром, когда я еще лежал в кровати, я услышал их звон в зарослях кустарника за домом; я немного послушал их, под теплым одеялом, потом вскочил и подбежал к окну. Мне хотелось увидеть их, пока они скакали в ветвях акации. Иногда они садились на смоковницу, рядом с сараем, любопытные, почти острые умом. «Потряси две монеты, они тебе ответят», – говорил папа. Он тоже слушал пение малиновок и следил за ними взглядом, когда они на закате прилетали на оливу на гумне. «Обрати внимание, – говорил он, – на рассвете и на закате, даже когда солнце уже зашло, всегда слышно их тиканье. Но в другое время дня они свистят, долго, с модуляциями, невозможно поверить, что такое пение исходит от маленьких птичек. Или, когда сильный ветер и очень холодно, они непрерывно звенят, как будто жалуются». Постепенно я научился узнавать печальный монотонный голос просянки, свист скворца, качающийся полет трясогузки, постоянно движущийся кроваво-красный хвост горихвостки, подпрыгивающие стаи щеглов, звонкий металлический тон на двух нотах зяблика. Научился расставлять капканы, собирать грибы осенью, ловить цикад летом.
Отцу хотелось, чтобы я умел все это. Он сам показал мне, как ловить цикад тростиной. Когда они трещат, опьяненные солнцем, неподвижно сидя на самых высоких ветках деревьев, до которых нельзя достать рукой, надо срезать длинную двухметровую тростину, медленно бесшумно поднять ее (плохо, если они прекратят треск!), придвинуть острием к самой голове, потом, если надо, слегка прижать ее сверху. Ошалевшие от солнца, сначала они протягивают одну лапку, потом другую, и, наконец, запрыгивают на тростину. Наступает самый деликатный момент. Надо потянуть тростину назад, осторожно, без толчков, пока до добычи можно будет достать рукой.
Когда прилетевшие малиновки заполнили своим звоном рассветы и закаты, папа решил научить меня делать лучки для ловли птиц. Он снял кривой садовый нож с перегородки в чулане и приказал идти за ним. Мы пошли по берегу, молча, он впереди, я сзади, ничего не спрашивая, как всегда испуганный. Он искал верхние ветки ясеня, со стволом светлой пятнистой расцветки, или хотя бы ветки каштана. Я узнал, что только эти деревья сохраняют гибкость, даже когда их долго держат согнутыми. Он выбирал самые прямые ветки и поэтому предпочитал молодые побеги, которые появляются по краям поля или на опушке леса.
Вернувшись домой, он очистил от листвы и веток два молодых побега ясеня, пока они не стали гладкими и отполированными, чуть длиннее руки. Потом попросил у мамы вязальную спицу, самую толстую, и раскалил ее докрасна в камине. Поскольку отец сказал, что хочет научить меня, он не задавал мне вопросов и не устраивал никаких экзаменов; это меня успокоило и понравилось. Когда острие спицы покраснело, он воткнул его в конец прута, вращая и с силой вдавливая спицу, он проделал в нем круглое отверстие. В него он продел двойную бечевку, уже закрепленную на другом конце. Когда другой прут был готов, их оба нагрели на огне, чтобы увеличить гибкость и согнуть так, чтобы туго натянутая двойная бечевка дошла до отверстия, была в него продета и вышла с другой стороны сантиметров на десять. На конце бечевки отец завязал узел, размером примерно с отверстие, так что он едва проходил в него. Благодаря узлу, выходящая наружу десятисантиметровая бечевка могла раздваиваться, образуя кольцо. Потом отец нашел среди веточек, срезанных с побегов, палочку чуть длиннее кольца. Он поместил ее между узлом и внутренним краем отверстия, перекрыв его таким образом, чтобы бечевка не скользила. Потом отец легонько дотронулся пальцем до палочки, этого было достаточно, чтобы она упала: препятствие исчезло, согнутый в дугу лучок резко разогнулся и распрямился. Лучок сработал. Тогда папа снова согнул его. На этот раз на палочку, вставленную перпендикулярно в прут, он натянул кольцо бечевки: теперь она стала петлей. Когда малиновки, серые славки или славки-черноголовки садились сверху, палочка падала под их весом, лучок распрямлялся, и маленькие жертвы оказывались лапками в петле, резко втянутой в отверстие в пруте. Ловушка была готова. Не хватало только приманки. Папа пошел на гумно и вернулся с несколькими гроздьями ягод амаранта, которые мы, дети, выдавливали, чтобы делать чернила. Достаточно было положить их на палочки, вставленные в петли, и оба лучка были загружены.
Теперь нужно было расставить их. Мы вышли на закате. Отец направился в Кампини, местность позади дома, на границе усадьбы, где заканчивались поля и начиналась, уже в долине, роща акаций. Оттуда были видны темные от олив, окрашенные солнцем в красный цвет холмы Бути, голубой массив горы Сера и горбатая каменистая вершина Веррука. Живая изгородь ежевики и густых зарослей кустарника отделяла обработанную землю от дикой. Один лучок расположили на ежевичнике, другой – в нижних ветвях акации.
На следующее утро я встал раньше обычного. Уже готовый к школе, в черном фартуке, с белым воротничком и завязанным под подбородком небесно-голубым бантом, я помчался, дрожа, через влажные от утренней росы поля. Возвращался я, громко крича и крепко стиснув в кулаке трепещущую жертву.
У нас был охотничий пес, рыжеватый бастард, с купированным хвостом и раздвоенным от укуса барсука носом. Днем, перед чуланом, отец вскинул на плечо палку, как будто это было ружье, и собака начала бегать вокруг него, высоко прыгать и возбужденно лаять. Она знала этот жест, потому что сосед брал ее на охоту. Сразу за домом отец крикнул ей: «Ищи, ищи!», – а мы с братом бежали следом. В Кампини у зарослей ежевики и кустарника собака взяла след, принюхиваясь и бегая зигзагами, беспокойно помахивая обрубком хвоста среди высокой травы. Вдруг пронзительный крик, потом другой, еще один: как будто в кота вонзились зубы, и не было спасения. Собака суетилась, засунув морду в кусты, рычала, бросалась и отступала. Наконец мы видим: два маленьких ежика перевернуты в крови, разорваны; а третий, побольше, наверное, их мать, свернулся клубком: стал взъерошенным колючим серым мячом, который то появлялся, то исчезал в траве под ногами агрессора. Собака яростно лаяла, фыркала, кусала, делая резкие движения, и вдруг отскакивала назад, с залитой кровью мордой. На мгновение замирала, вся дрожа, потом снова бросалась, катала этот сверток иголок с мордочкой и лапками в поисках полоски живой плоти. Мы подстрекали ее возбужденными, дикими воплями. Собака остановилась, обессилев, содрогаясь всем телом, кровь и слюна стекали из открытой, оскаленной пасти. Тогда папа попытался подвинуть ежа ногой, не то отодвигая его от собаки, не то чтобы перевернуть его и помочь собаке вцепиться в него зубами. Но вдруг собака, боясь, что он отнимет добычу, прыгнула на него, рассвирепев, и ослепленная яростью больше нам не повиновалась. Это было уже не то послушное животное, которое мы знали, но дикий зверь, сухожилия, мускулы, клыки, жаждавшие только хватать мертвой хваткой, кусать, рвать на части. «Пойди возьми лопату, бегом!» – закричал мне отец. Я побежал и через минуту вернулся. Схватив лопату, папа просунул ее лезвие между собакой и ее добычей, откатывая подальше колючий мяч. Как будто молния ударила в землю: два коротких пронзительных крика разрезали внезапную тишину. Еж, поверив в свое спасение, открылся, и собака, крепко зажав его передними лапами, грызла его, жилы на ее шее напряглись и раздулись, морда утонула в жидкой кашице крови и колючек.
Через пятнадцать месяцев мы покинули дом на холме. Впереди была квартира в провинциальном городке, серая, тусклая жизнь. Отец снова заболел, несколько лет нас сжимала железными тисками нужда.
Я вырос, стал сопротивляться отцу. Когда он говорил о партизанской жизни, я был нетерпим, спорил: он казался мне излишне патетичным, даже смешным.
III. ЛЮЧЕРЕНА И ИЗАБЕЛЛА СТРИТ (1983–1992)
Глава первая
Он выбрал дом из-за названия места, оно ему понравилось, Лючерена, и еще потому, что это был крестьянский дом, похожий на дом на холме, в котором он прожил пятнадцать месяцев, когда был ребенком. Дом стоял в стороне, на горе Монтаньола, возвышающейся над тосканским городом, легкие готические постройки которого виднелись на соседнем холме. Здесь наверху было много воздуха и света, и прочного песчаника, послужившего материалом для строительства поместья, сто лет назад. И было неважно, что в доме нет телефона и питьевой воды в кухне. Чтобы покорить его, достаточно было большого приподнятого очага в кухне; и факта, что в комнате, выбранной для спальни, ласточки, влетевшие в окно, свили два гнезда, в выемке между основной балкой и стропилом. В день, когда он вступил во владение, ласточки бороздили воздух по всему дому: влетали через окно спальни, пролетали, слегка касаясь стен, по короткому коридору, с криками пересекали просторную кухню и взмывали в голубое сентябрьское небо, за зеленые ветви огромного ливанского кедра. Сопровождавший его владелец извинился, сказав, что в необитаемых домах лучше держать окна открытыми и что дом простаивал несколько месяцев; но он ответил, что ему даже нравятся ласточки в доме, и продолжал держать окно открытым до тех пор, пока в начале осени они не улетели совсем.
Вокруг не было сел, только леса. Дорога от города шла сначала по обработанным полям краснозема, потом, когда начинались более крутые повороты, по дубовым рощам, лесам черного дуба и каштана. Редкие дома, порой с колодцами и местами для стирки; часовни, древние романские церкви, виднеющиеся сквозь зелень; средневековый замок, с разделенными надвое окнами, шпилями, башнями и рядом церковь эпохи Возрождения. Иногда дорогу преграждали стада овец или больших бурых свиней. Ночью случалось останавливаться перед замирающими в свете фар семьями кабанов или видеть зигзагообразный бег зайцев, неуклюжих, идущих вразвалку косматых дикобразов, стремительно и внезапно стрелой перебегающих дорогу лисиц.
В этом уединенном доме он жил один. Он оставил Рим, жену и девушку. Закончил лечение, оставил политическую деятельность. По воскресеньям он проводил день с дочерью, ездил к матери, которая тоже осталась одна. В понедельник уезжал на машине. Ехал мимо полей и рощ акаций, по направлению к Вольтерре, где пейзаж менялся, становился более открытым и диким, ехал по вершине холмов к своему новому городу, по обширным, отлогим долинам и средневековым городкам; потом, у подножия Монтаньолы, сворачивал на узкую обрывистую дорогу с крутыми поворотами, посреди густого леса, и поднимался на вершину горы, к воздуху и свету Лючерены. Иногда он останавливался под Вольтеррой срезать складным ножом высокие бело-желтые ромашки или пучки душистого дрока и потом ставил букеты в вазы в новом доме.
Он купил кое-какую деревенскую мебель, ларь, старинный стол. На стене повесил эстампы с птицами.
Ему было хорошо одному, без женщины рядом. Ему исполнилось чуть больше сорока лет, и впереди его ожидала свободная жизнь. Впервые он сам занимался домом, наводил чистоту, решал, где какая будет комната, расставлял мебель. Для холодного времени он купил дровяную печь для кабинета и электрическую для спальни. Очаг он зажигал только по вечерам или в праздники; чтобы использовать его угли, он съездил в Лукку, где еще продавались грелки и подвески для них в постели. Так по ночам он мог переносить очаг в постель, расправлять тело, руки, ноги в тепле простыней и одеял, пока за окном порывы ветра налетали на каштаны, по крыше стучал дождь, снег бесшумно белил широкие ветви ливанского кедра.
Прошла зима, и наступила весна. Он работал, читал, писал. Одиночество пьянило его самодостаточностью. После обеда он гулял по плоскогорью позади дома, где открывался вид на волнующееся море холмов, белесые овраги Вольтерры, голубые морские дали Чечины, красные колокольни и желтые черепицы Сиены, зеленые холмы Кьянти, пояс башен Сан Джиминьяно, длинные равнины Мареммы. Он научился узнавать новых птиц: розовый порхающий полет удода, прямую линию полета летящей стрелой дерябы, смех сойки. Он собирал еловые шишки, чтобы разжечь очаг, собирал сушняк, вязал его в связки и нес домой, готовясь к новой зиме.
Ночью ему снился покойный отец, который шел рядом с ним, плечом к плечу, по узкой дороге, засохшей грязи. «Мне можно приехать, – говорил он, – жить с тобой?»
В городе он избегал встреч со своими сверстниками. Они стали скептиками или циниками, каждый выкопал себе нишу в профессии, общественной иерархии, личной жизни. Он предпочитал стариков или молодежь. Иногда он приглашал их к себе на ужин в Лючерену. Долго слушал стариков, много переживших и рассказывавших о войне, Сопротивлении, борьбе пятидесятых годов; понимал разочарование молодежи в тусклой жизни, которая их ожидала. Он рассуждал с ними, создавал исследовательские группы, они стремились расшифровать мир, который их окружал. Они собирались вокруг большого кухонного стола, перед зажженным камином, с красным вином, мерцающим в бутылках и бокалах, и жаренным на углях мясом. Иногда, когда пыл спора иссякал, они неожиданно ощущали полную тишину вокруг и отчетливо чувствовали в теплом кругу очага тепло своей солидарности, жизнь, казалось, вдруг приобретала смысл, направление и цель.
Ясным июльским утром, на площади Сиены, его взгляд задержала девушка. Ярко светило солнце. Она стояла прямо, как на пуантах. Казалось, она кружилась, взлетала в воздух. Через несколько мгновений он заметил, что она была не одна: перед ней, в двух метрах, стоял юноша; он смотрел на нее. Она кружилась вокруг него, легкими движениями, как будто танцуя, показывая ему что-то на себе, может быть, яркий комбинезон, оранжевым пятном выделявшийся на фоне белой площади. Спереди яркая блуза смешно топорщилась под напором молодой груди. При каждом движении темная волна волос падала ей на грудь, и она резким движением головы откидывала их назад, за сильную спину. Вот она являет себя солнцу и мужчине: показывает ему спину, комбинезон изгибается дугой, очерчивает полукруг, четко выделяется мягкая двойная складка бедер. Юноша прижимает ее к себе, не снимая солнечных очков, целует ее. Теперь их головы совсем рядом, сблизившиеся тела отбрасывают короткие тени. Девушка отрывается первой, смеясь, отступает на шаг назад. Она скрещивает руки и ноги в наклоне, кивает головой, сопровождая жест ухода жестом приглашения. Когда она повернулась к нему спиной, собираясь уйти, юноша смог только протянуть руку к яркому круглому комбинезону, вдруг превратив ласку в шутливый подзатыльник. Сделав несколько шагов, она села на мотоцикл, заключив живую массу волос в обруч шлема из пластика и металла, наклоняясь вперед и помогая себе ногой, опущенной на землю, она замедлила перед ним ход, посадила его на заднее сиденье, и они исчезли в дорожном потоке транспорта.
Он смотрел, смотрел, снова втянувшись в игру приглашения и завоевания, лист, вновь упавший в бурный поток жизни. В нем снова дрожал голос Шехеразады и увлекал его.
Он стал приглашать девушек в дом в Лючерене. Ему нравилось зимой подавать орехи, сушеные фиги, овечий сыр из Пиенцы, нравился красный цвет вина в бокале, место рядом с очагом на низких плетеных скамеечках из камыша. Складным ножом он надрезал посередине сушеные фиги, раскалывал скорлупу грецких орехов, сжав два ореха в кулаке, вынимал из створок ядра, дробил их, вкладывал кусочки в раскрытую мякоть фиги. Потом соединял две половинки, придавал форму вкусной пухлой фиге и наполнял бокалы сладким вином.
Некоторые оставались ночевать у него. Тогда он ставил подвеску с грелкой под одеяло, они раздевались на козьей шкуре рядом с кроватью, потом забирались в теплые простыни и одеяла. Тепло, ощущаемое телами, усиливалось жаром крови и объятий.
Одна, очень юная, принесла с собой гитару, в ее дыхании слышался запах сигарет и моря. Она пела под гитару у камина, ее лицо освещалось пламенем. Когда она пела, раскачиваясь в такт на сильных ногах, наклонив лицо в бликах пламени, огонь освещал круглый изгиб спины, трепещущие ноздри. Ночью она прижималась к нему, ища не любви, а защиты.
Несколько месяцев он любил девушку с шероховатой кожей. Она приносила сумку, полную продуктов, домашней утвари, полотенцев; хлопотала около него, как терпеливый муравей. Она была аккуратной, упорной, организованной. Она не захотела сразу заняться любовью – потому что она еще ни с кем не занималась любовью и – как она говорила – была еще не готова. Она спала с ним несколько раз, ограничиваясь нежными объятиями. Потом сходила к гинекологу, приобрела средство контрацепции, выбрала день.
Они расстались, так как она была скорее женщиной верности, чем страсти, окружала его не любовью, а заботой. Это произошло еще и потому, что он познакомился с девушкой, наполовину арабкой, наполовину англичанкой, с пунцовыми губами, черными волосами до талии, с молочной кожей. Она была беспокойной, высокомерной, одевалась всегда в черное, как в трауре, и гордилась только собственной красотой. Она раздевалась рядом с кроватью и стояла обнаженной, предоставляя ему возможность любоваться собой, ступни ног утопали в козьей шкуре, волна волос в беспорядке спадала на белоснежную спину и розоватую высокую и полную грудь. Она была недоверчивой, грустной, в плену дурных воспоминаний и несчастливых предчувствий. Она верила в передачу мыслей на расстоянии, в то, что мертвецы могут вернуться, чтобы отомстить; с ужасом вспоминала сестер, которые воспитали ее, умершего жениха, который являлся ей по ночам.
Сначала его притягивало отсутствие в ней материнского отношения к нему, ее нежелание организовывать его жизнь; ее мрачная, опасная женственность, связанная с корнями жизни и смерти. Но страхи внезапно нападали на нее, выливались в тревоги, необъяснимое раздражение, упрямое молчание. Она не понимала, что мир, смерть, мрак, люди, предметы существуют самостоятельно, независимо от нее. Она боялась ночи и покойников, но еще и пыли и птиц. Всего того, что могло случиться неожиданно и не поддавалось контролю, в том числе и любви. Тень беды, болезни, смерти простиралась на вещи и людей, к которым она приближалась. Она боялась, что тот, кого она любит, подвергается смертельной опасности, как это произошло с ее женихом. Ее красота сопровождалась мрачностью траура.
А какой одинокой и несчастной была маленькая розовощекая девушка из Квебека! У нее были мелкие жесты, простая, беззащитная прелесть. В первый раз она пришла к нему, чтобы помочь с переводом на французский язык. Они прервали работу ужином. Пока ели, разразилась буря. Град хлестал по стеклам, пропало электричество, неверный свет свечей колебался на стенах, озаряемых извивающимся блеском молний, сотрясаемых грохотом грома. Когда он выразил намерение проводить ее домой, она умоляюще прошептала: «Не уводи меня». У нее был такой вид, как будто она подверглась какому-то ужасному насилию и снова боится его. Во время любви она просила шепотом: «Нежнее».
Во второй раз он встретил ее на улице. Она шла и плакала. Рейган подверг бомбардировке Ливию, она не понимала причину всех этих смертей. «Еще и дети», – говорила она. «Причем же дети?» Она с трудом держалась на ногах. Наверное, выпила слишком много пива. «Почему люди продолжают идти так, как будто ничего не случилось?» – спрашивала она. Он отвел ее домой, положил в кровать, остался у изголовья, гладя ее по лицу, пока она не уснула.
Следующие несколько недель он пытался защитить ее от самой себя, излечить от смутной боли, делавшей ее такой чувствительной к насилию в мире и такой несчастной.