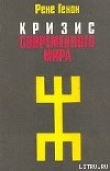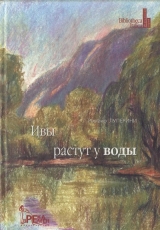
Текст книги "Ивы растут у воды"
Автор книги: Романо Луперини
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
II. ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ (1930–1950)
Глава первая
В первый раз я увидел отца в конце длинного коридора. Мать, вскрикнув, побежала по коридору, а я бежал за ней, ошеломленный, не понимая, что происходит. В коридоре царил полумрак. В проеме открытой двери на свету стоял незнакомец. Он приподнял меня вверх, к потолку, и переступил порог комнаты как победитель, держа меня в руках. Мне было чуть больше четырех лет, только что закончилась война.
Коридор тянулся, как темная кишка. Он соединял входную дверь с пустой просторной квадратной комнатой, слабо освещенной верхним светом в центре потолка. В углу комнаты стояла зеленая ширма, за которой среди чемоданов и старых вещей бодрствовала мышеловка – маленький деревянный ящичек с приоткрытым отверстием – которая была готова мгновенно захлопнуться от прикосновения к наживке – кусочку пармезана.
Некоторые комнаты выходили в коридор, в другие можно было попасть из центральной просторной комнаты. Из нее выходили в кухню, туалетную комнату, гостиную, и, за розовой, слегка украшенной арабесками дверью, была еще маленькая гостиная, куда меня отправили спать после приезда отца. В коридор выходили спальни мамы (и папы, после его приезда), сводной сестры и старых тети и дяди (хотя они были тетей и дядей матери, я называл их, как мама). Выходила в коридор и последняя комната, кабинет. Здесь была библиотека дяди, в большой полутемной комнате остекленные шкафы закрывались на ключ, на письменном столе стоял бронзовый бюст Кардуччи[10]10
Кардуччи Джозуэ (1835–1907) – итальянский поэт, писатель, критик, лауреат Нобелевской премии (1906). В начале 1860-х активно участвовал в республиканском движении. В истории литературы его имя и творчество тесно связано с Рисорджименто – движением за политическое объединение Италии в XIX веке.
[Закрыть], на стене напротив висел портрет Мадзини[11]11
Мадзини Джузеппе (1805–1872) – итальянский патриот и писатель, сыгравший важную роль в ходе движения за национальное освобождение и либеральные реформы в XIX веке. В 1831 г. Мадзини основал в Марселе тайную организацию «Молодая Италия». Ее целью было превратить Италию в единую, независимую и свободную страну с республиканским строем.
[Закрыть], серьезного и темного, с белыми пятнами усов. В конце коридора находилась прихожая, с подставкой для зонтиков, вешалкой, у стен – гигантские подставки для ваз и в глубине – входная дверь, на которой с внешней стороны висела веревка колокольчика, посетитель дергал за нее, чтобы его впустили.
Дом принадлежал монастырю, которому каждый месяц мы выплачивали аренду. Иногда тетя и мама вели меня в приемную или церковь к настоятельнице. Кроме денег за аренду, они передавали ей пачку газет, с которых тетя заранее срезала название, чтобы не заметили, что это была опасная антиклерикальная газета «Воче Реппубликана»[12]12
Официальный орган Итальянской Республиканской партии – старейшей политической либеральной партии, основанной в 1895 г. и существующей до сих пор.
[Закрыть], на которую подписывался дядя. Другая часть этих газет терпеливо разрезалась на одинаковые квадратики, которые складывались на табуретке в уборной. Я не знал, что делали сестры с этими газетами, но взамен они вели меня в просторные сырые комнаты, пахнущие ладаном, плесенью и нафталином, и, убедившись после многочисленных расспросов в моем хорошем поведении за прошедший месяц, хвалили и ласкали меня, дарили совсем новенькие образки, приятно пахнущие типографской краской, и печенья, завернутые в серебряную фольгу.
Мои дни были наполнены печальной нежностью мамы, непрерывно страдающей как бы от несправедливости, с которой всегда надо было мириться, и рекомендациями, советами и просьбами, которые мне тихо нашептывала старая тетка. Собственное пространство, недоступное и таинственное, было у дяди, высокого, мощного, с громким голосом и шумной отрыжкой, сопровождавшейся после каждого приема пищи восклицанием «К папе!» (тогда тетка осеняла себя крестным знамением и делала мне большие глаза). Он допускал меня, робкого и почтительного, раз в день в определенный послеполуденный час к церемонии пасьянса в гостиной. Дядя вставал во главе большого стола, на котором были разложены карты, справа чашка кофе с ликером, трубка или полупогасшая тосканская сигара; слева я, ребенок, с восхищением следящий за перемещением карт и редкими пояснениями, которыми меня снисходительно удостаивал дядя. Чтобы не докучать ему, я сидел неподвижно, как парализованный. Действительно, дядя был самым страшным и уважаемым человеком в доме. Его властность, умение настоять на своем и неожиданные вспышки гнева терроризировали жену и маму. Несдобровать было тому, кто в его отсутствие трогал колоду карт. Он начинал ругаться, как извозчик, и громким голосом призывал к ответу тетку, виновную в том, что не обеспечила неприкосновенность. Он сразу замечал непорядок по тому, как колода лежала в шкатулке – она должна была лежать рубашкой кверху, чтобы карты, перевернутые и брошенные одним жестом, располагались перед ним так, чтобы верх и низ не менялись местами – не дай бог, если не только карта с фигурой, но и просто тройка или пятерка, положенные в шкатулку недостаточно аккуратно, выпадали обратной стороной! Когда дядя был дома, нельзя было играть и бегать, не допускалось ни малейшего шума, когда каждый день он дремал перед пасьянсом и когда он читал вслух всей семье стихи Кардуччи или рассказы Фучини[13]13
Фучини Ренато (1843–1921) – флорентийский писатель-новеллист, связан с веризмом (от итал. vero – истинное, правдивое) (сб. «Бессонные ночи Нери», 1883; «На открытом воздухе», 1897; «В тосканской деревне», 1908), описывает повседневную жизнь тосканских крестьян, воспроизводит образную народную речь.
[Закрыть]. Да и книги, которые иногда перед ужином ему нравилось декламировать мне, сильно отличались от тех – «Без семьи»[14]14
Повесть для детей французского романиста Гектора Мало (1830–1907), ставшая достоянием европейской литературы; переведена на русский язык. Для нее характерны идеализация и сентиментальность, свойственные детской литературе тех лет. Сюжеты увлекательны и мастерски разработаны, повышение интереса юного читателя достигается техникой тайн, – подлинное имя и положение героев раскрываются лишь в конце романов.
[Закрыть], «Сердце»[15]15
Повесть для детей итальянского писателя Эдмондо Де Амичиса (1846–1908), завоевавшая мировую известность (1886). Написана в форме дневника школьника. Де Амичис внушает уважение к людям труда, любовь к родине, чувство товарищества, затрагивает тему социального неравенства (повесть «Роман учителя», 1890; сб. рассказов «Между школой и домом», 1892; повесть «Учительница рабочих», по которой В. В. Маяковский написал сценарий фильма «Барышня и хулиган», 1918).
[Закрыть], «Щенок»[16]16
Повесть для детей американской писательницы Марджори Киннан Роллингс (1896–1953), получившая в 1938 году Пулитцеровскую премию, имела в момент публикации огромный успех и принесла автору мировую известность.
[Закрыть],– что читали мне мама и тетя в постели перед сном и которые волновали меня до слез. Взрываясь смехом, поднимая к небу глаза и комично жестикулируя, как в театре, он читал наизусть сонеты Фучини на пизанском диалекте или сцены из «Дневника Джана Бурраска»[17]17
Повесть о жизни в Тоскане итальянского писателя Луиджи Бертелли (1858–1920), писавшего под псевдонимом Вамба.
[Закрыть], заключая каждый раз декламацию одним и тем же советом «Развлекайся, спи, испражняйся и не думай о своем ближнем», – так противоречащим тем урокам милосердия и жертвенности, которые его жена не без успеха ежедневно преподавала мне.
Дом выходил на крепостные укрепления, заросшие деревьями. Мы жили на третьем этаже, и ветви деревьев крепостной стены смотрели в окна кухни и гостиной. В окна спален и маленькой гостиной смотрели верхушки магнолий городского сада, расположенного внизу. Днем хорошо было видно птичек, прыгающих с веточки на веточку; вечерами я следил за зигзагами полета летучих мышей. Мне нравилось соскальзывать и скатываться с земляной насыпи крепости, крутой склон которой спускался к дому, я падал в высокую траву, от земли шел влажный запах, в траве кишели сотни белых улиток. Я их приручал, вместе с божьими коровками и большими бронзовыми жуками, привязанными ниткой за лапку, чтобы они не улетели. Для них и для зяблика, которого держали в клетке, подвешенной перед окном гостиной, я носил домой листья и полевую траву. В больших стеклянных банках я разводил серых мышат, которых вынимал из мышеловки за ширмой, потом мама и тетя незаметно забирали их у меня, опасаясь какой-нибудь заразы. Но больше всего меня изумляли улитки: я следил за их медленными передвижениями по листьям салата-латука, по картонным стенкам коробок, в которых я их держал, и даже по стенам комнаты, где они оставляли еле заметные белесые полосы. И утром их никогда не было там, где я оставил их вечером: я разгадывал их таинственные ночные маршруты, иногда очень длинные, между шкафом и раковиной, искал их тайники в складках листьев салата или в углах мебели, под консолями, к внутренней стороне которых они так крепко приклеивались, что иногда мне не удавалось их отлепить, чтобы отнести снова в коробки.
В городском саду между деревьев магнолии были заросли кустарника смолосемянника. В одном из них было полое пространство, и я мог пролезать туда, оставаясь невидимым снаружи. Мне нравилось подолгу сидеть на корточках в этом укрытии под защитой душистых листьев. Но однажды утром – пришли американские танки, и чернокожие большерукие солдаты бросали мне леденцы и плитки шоколада – подбегая к своему тайному убежищу, я неожиданно поскользнулся, попав ногой в странную жидкую грязь. Я упал ничком перед кустом, растянувшись на куче мусора среди пустых консервных банок, грязной бумаги и гнусного желтоватого дерьма.
Другим убежищем в долгие зимние дни была туалетная комната. В доме для отопления обычно использовались грелки, наполненные мелким углем, слегка припорошенным пеплом. Широкая круглая медная жаровня применялась редко, только когда вся семья собиралась на кухне. Дровяная печь в гостиной разжигалась на Рождество и по большим праздникам. Грелки прикреплялись к круглым подставкам из фанерных полос и отапливали также кровать. Подставка для грелки ставилась под одеяло и образовывала купол в середине кровати, приятный навес укромного тепла; не обходилось и без сюрпризов, когда кошка залезала внутрь навеса и, свернувшись клубком, украдкой наслаждалась теплом. Пробравшись в кровать, я ставил замерзшие и опухшие от холода ноги на грелку, и ноги начинало пощипывать. Постепенно приятная теплая волна разливалась по всему телу, а холод комнаты продолжал выходить изо рта белым облачком моего дыхания. Если мне надо было в туалет, тетя и мама заботились о том, чтобы я не простудился. Это была привилегия, предоставлявшаяся только мне и дяде. Каждое утро за пятнадцать минут до того, как дядя пользовался «удобствами» (только он во всем доме называл так нужник, с комической и слегка насмешливой интонацией, как бы произнося скверное слово, чтобы обидеть жену), тетя бежала устанавливать в туалетной комнате хорошо нагретую грелку. Мое расписание было более непредсказуемым: пока я сидел на толчке с книгой в руках, мои ноги закутывались в плед, под который на пол ставилась грелка. Ласковое тепло постепенно поднималось снизу, выше, выше по голым ногам под горячим колоколом пледа. Теплый воздух смешивался со странным и сильным запахом испражнений, отбеливателя и табака (его оставляли дядина трубка или сигара), туалетная комната со временем стала теплым местечком, где я мог, не спеша, предаваться двойному удовольствию – опорожнять внутренности и вдобавок рассматривать картинки в книге о животных, которую я держал на коленях. И я подолгу оставался там, вдали от семейных тревог, от которых меня отделяла закрытая дверь комнаты; рассматривая в книге приключения из жизни животных, я часто поднимал голову от книги и продолжал их в воображении, фантазируя.
Весной на валу крепости было очень красиво, по вечерам благоухали липы, разносился аромат магнолий и еще один аромат – живой изгороди лавра и смолосемянника. Наигравшись, я возвращался усталый, вспотевший, за руку с мамой, сопровождавшей меня на вал, а потом в кухне мы сидели рядом перед большим открытым окном и следили за легким снегопадом летающих зигзагами ласточек. На столе стояла большая чашка, полная кусочков хлеба, размоченного в чуть теплом молоке и залитого слоем белоснежных сливок, снятых сразу после кипячения. Мы молча ели, глядя на деревья на валу, путаное воздухоплавание ласточек, первые вылеты летучих мышей, а сумерки постепенно заполняли комнату, и тетя, наконец, зажигала свет, дожидаясь до последнего «ради экономии». Чайной ложкой я начинал копать в глубине чашки, все время в одном месте, медленно выкапывая маленькую пещеру в стене из хлеба и молока, внимательно следя за тем, чтобы последними на поверхности сливок оставались самые вкусные кусочки. Это было трудное дело, которое надо было выполнять с тщательностью заклинания от дурного глаза: рано или поздно поверхность, лишенная опоры, опадала на дно чашки. К удовольствию отсрочки, продлевавшей и обострявшей желание, прибавлялось удовольствие от игры, тренировки ловкости. Сначала каждый кусок имел вкус хлеба, потом уже, когда хлеб таял во рту, вкус хлеба сменялся вкусом молока, в котором был размочен хлеб, и которое теплыми струйками текло в горло. Прекрасно было сосать хлеб и выжимать из него молоко, а в это время крики последних ласточек и сумерки заполняли комнату.
Это удовольствие было сродни тому, что я испытывал, укладываясь спать рядом с мамой, когда я мог нежно гладить ее волосы, накручивая их между большим и средним пальцами и постукивая по ним сверху указательным пальцем. Но этому пришел конец, когда приезд отца вытеснил меня из маминой комнаты и маминой кровати.
Глава вторая
Моему отцу в то время было немногим более тридцати лет, и он был не похож на свою фотографию, которую иногда мне показывала мама и на которой у него были заостренные черты лица и сияющие из-под фуражки военного офицера глаза. Сейчас из-за болезни его лицо опухло, движения стали неловкими и вялыми, взгляд потух. Должно быть, его утомило изнурительное возвращение домой на случайном транспорте из англо-американского госпиталя в Пулии, куда его перевезли на военном самолете из Словении англичане. Впрочем, с тех пор даже после выздоровления он часто казался странным, неуклюжим и нерешительным, но зато иногда, особенно в чрезвычайных обстоятельствах, он вдруг становился подтянутым и жестким, с резкими движениями и острым взглядом.
Я помню сапоги, пистолет, желтые гильзы от пуль. Иногда в маленькой гостиной, которой он завладел после своего приезда, он развлекался тем, что разбирал и чистил свое оружие, большой, черный, тяжелый пистолет, разбросав в беспорядке на столике перед собой пули. Потом, несколькими быстрыми движениями он собирал его и прицеливался, как бы метя в цель. Мама боялась пистолета и настаивала, чтобы он сдал оружие, я тоже пугался. Это был немецкий маузер, изъятый вместе с сапогами у пленного эсэсовского офицера. «Но он стреляет на близкую дистанцию, всего лишь на 20–30 метров. На таком расстоянии лучше пользоваться автоматом», – говорил отец и, делая шаг назад, выбрасывал вперед руки со сжатыми кулаками и кричал «Та-та-та-та». Я бледнел от ужаса, меня смущало мамино отвращение, но в то же время я был в восторге. В моей жизни до сих пор не происходило ничего подобного.
Пара высоких черных сапог каждое утро стояла у закрытой двери в спальню матери. Они были негнущимися, как доска, и доходили до колен. Должно быть, для важности отец носил их и дома. Но мама и тетя, хотя и начищали их каждое утро, не испытывали к отцу такого уважения, такой настоящей зависимости и подчинения, какие они выказывали дяде; на их отношении к нему лежала тень страха и беспокойства. Казалось, они не во всем одобряли его, ощущали в нем что-то острое, проникающее, потенциально опасное и зловещее.
Июньская буря принесла в дом птенца воробышка. Он влетел в открытое окно комнаты, испуганно ударился о стекло и соскользнул на пол. Я взял его, теплого, в руку и покормил. Он скакал из комнаты в комнату, выпятив грудку, на прямых ногах, перелетая с одной мебели на другую и оставляя то тут, то там, под скандальные крики тети, белые пятнышки. Во время обеда он перелетал с плеча на плечо своих сотрапезников, пытаясь унести кусочек макарон и риса; или же, под столом, клевал крошки и яростно сражался со шнурками ботинок сидящих вокруг. Ночью он спал в моей комнате, на рассвете порхал над моей подушкой и клевал меня в ухо. По вечерам, лежа один в кровати, я не мог уснуть, скрип и странные звуки улицы заставляли меня вздрагивать, шум крови в ухе, прижатом к подушке, казался шумом стаи бегущих волков – на противоположной стене мелькали черные тени, пугающие отражения от света уличного фонаря – мне хотелось плакать и звать маму, но я различал в темноте взъерошенный круглый мячик из перьев, спокойный, нахохлившийся, на подлокотнике креслица у окна и утешался. Потихоньку я сворачивался комочком, как он, поджимал ноги, сбивал из одеяла теплое гнездышко и засыпал.
Каждое утро папа натягивал сапоги, подвешивал зеркальце на крючок на кухонное окно, вставал перед ним, в майке, с длинной бритвой в руке, на подоконнике лежало мыло для бритья и кастрюлька с горячей водой, в которой он размачивал белую от пены кисточку. «Должен быть кипяток, как когда отмачивают свиную кожу», – говорил он. Я наблюдал эту процедуру, доселе мне незнакомую, на некотором расстоянии (дядя «был господином», как он сам говорил, и ходил к цирюльнику); кривые рожи, которые корчил перед зеркалом отец, маска намыленного лица, поднятая бритва служили мне новыми поводами для изумления и страха. Я не заметил, как воробьишка оказался внизу у сапог. От двери в кухню я увидел, как вдруг яростно затрепетали крылья, голова сплющилась, и тельце вздрагивало все реже и реже, прежде чем замереть навсегда. На плитках пола осталась только серая жидкая кашица из перьев, сгусток крови и широко раскрытый клюв.
Однажды, когда дядя, тетя и сестра ушли, и дом затих и опустел, между родителями вдруг вспыхнула ужасная ссора. Я слышал их голоса из маленькой гостиной, сидя на креслице у дивана и не осмеливаясь бежать посмотреть. В то время я стремился сохранить нейтралитет, не видеть и не слышать, чтобы не вставать перед выбором, я уже знал, что мог принять только сторону матери. Причины ссоры ускользали от меня; мне показалось, что мама упрекала отца за что-то, что происходило в настоящем, а отец в ответ осуждал ее за какой-то проступок в прошлом. Вдруг от одного ругательства отца у меня кровь прилила к лицу, и к горлу поднялся комок: «Шлюха! – кричал он. – Шлюха!». Я услышал стук передвигаемой мебели, неровные шаги и душераздирающий вопль матери, и потом ее слова: «Зубы, ты нарочно ударил меня по зубам», – и я с тревогой представил себе ее передние зубы, чересчур длинные, расшатанные пародонтозом, качающиеся. Через мгновение она появилась надо мной, с широко раскрытым кровоточащим ртом, который казался больше прикрывавшей его сверху ладони; а я, неподвижно сидевший все это время на креслице, бросился лицом вниз на диван, чтобы не видеть ее рот с распухшими деснами и неприкрытыми зубами и кровь, которая текла между пальцами на подбородок.
Я начал думать, что над прошлым матери нависает какой-то позор, который скрывали от меня, и догадывался, что он связан со сводной сестрой, звавшей моего отца не «папой», а по имени. Позор падал на отца, делая его нерадивым, нелюдимым, лишая его друзей, заставляя с опаской относиться к новым знакомствам, «медведем», как говорила тетя. Но еще сильнее, чем прошлый позор, был страх нового стыда, грозящего дому, я ощущал это во внезапном понижении голоса родителей и дяди с тетей при моем приближении, хотя и не понимал причины, но чувствовал, она снова связана с сестрой.
Дядя был единственным, кто пытался еще защищать отца, говорить, что в глубине души папа хороший человек. И позволял себе приправить ужины, проходившие в напряженном молчании, какой-нибудь шуткой. В эти моменты, когда все сидели за столом, в тишине можно было слышать стук приборов о тарелки. Отец ни на кого не смотрел, сосредоточенно и торопливо проглатывал пищу, не замечая, что ест, чтобы как можно скорее встать из-за стола и скрыться в маленькой гостиной. На миг он поднимал на меня холодный взгляд, как бы парализующий меня, так, что я переставал есть из своей чашки молоко с хлебом.
Но однажды даже дядя, в порыве дикого гнева, с горящим лицом, крепко схватил моего отца и приподнял его над землей, грозя выбросить из окна. Они стояли лицом к лицу, запыхавшись, двое мужчин, готовых покалечить друг друга, среди взволнованных домочадцев, перед окном гостиной, на котором мирно висела клетка с зябликом.
Сначала отец игнорировал меня. Когда он стал немного мною заниматься, от случая к случаю и всегда для меня неожиданно и непредсказуемо, казалось, его не интересовало, чтобы я был хорошим и любящим, чтобы читал нужные для обучения книги. Он предпочитал рассказывать мне о том, как играл в футбол и ездил на велосипеде, о жизни в деревне, где он провел детство, или о партизанских подвигах. Однажды он освободил место за зеленой ширмой и подвесил к потолку на веревке мешок с песком, получилась груша для бокса. Мне он сказал: «Давай потренируемся, ты же мужчина, я научу тебя драться». Голый по пояс, он стал яростно колотить по мешку, при каждом ударе испуская короткий истошный крик, что-то вроде глухого дикого воя. Только потому, что он приказал мне, я тоже начал, сжав кулаки, колотить по тяжелой груше, еле стронув ее с места, но делал это с отвращением и почти с ужасом.
Мало-помалу я привык смотреть на отца со страхом и подозрением. Решающим был момент, когда постоянное тревожное ожидание заставило меня ощутить связь его поведения с жизнью моей сводной сестры. Она была намного старше меня, собирала фотографии актеров и актрис кино, вырезая их из иллюстрированных газет и журналов и вклеивая в большие альбомы. Тревога, обострив мое внимание, побуждала замечать некоторые странности в поведении отца, о которых я говорил маме, вызывая бурную реакцию против мужа. Что именно? Трудно вспомнить точно. Моя мать рассказывала, что, когда она спросила у меня, почему я трогаю себя впереди, я ответил, что папа тоже так делает, когда видит сестру. Мне смутно, как в галлюцинации, помнятся некоторые его поступки: кажется, я видел, как он поднял с пола в ванной ее трусики и поднес их к лицу, в другой раз он уронил коробку спичек на пол, чтобы иметь предлог нагнуться и снизу посмотреть на сестру, когда она сидела в кухне, подняв ноги на верхнюю перекладину стула. Более четко я помню, как однажды обидел сестру, крикнув ей: «Кокетка!»; слово, значения которого я не знал, прозвучало странно и предосудительно. Оно повисло в воздухе, заставив всех присутствующих обернуться ко мне, застыв от изумления: сестру с ложкой во рту над чашкой кофе с молоком, тетю, склонившуюся над угольной печью, раздувая огонь, с опахалом в руке, маму, выпрямившуюся у раковины, отца, стоящего перед окном с кисточкой для бритья в руке. «От кого ты научился этому слову?» – спросила в возникшей тишине мама. Потом, не дожидаясь ответа: «От тебя, он научился от тебя!» – в бешенстве набросилась она на папу. Я был ошеломлен и испуган: снова я оказался причиной ссоры и предателем своего отца.
Однажды в душный летний день я остался дома один с отцом, он отдыхал в своей комнате, а я дремал на диване в маленькой гостиной через стенку. Вдруг послышался странный шум, как будто что-то грызли или пилили. На цыпочках я подошел к комнате родителей, чтобы подсмотреть в их дверь. В трусах и майке папа стоял у двери напротив, ведущей из его комнаты в комнату сестры. Я заметил, что с некоторого времени эта дверь всегда была закрыта на ключ. Он стоял не прямо, а согнувшись, и возился у двери с чем-то острым в рукам, вроде ножа. Вот оно что, он старался сделать дырку в дереве двери, прямо над замком. Время от времени он наклонялся и смотрел в отверстие, которое пробивал. Услышав, как в глубине коридора хлопнула входная дверь, я побежал прочь на цыпочках и снова бросился на диван, ожидая катастрофы. Когда мама вошла, она увидела на полу деревянную крошку и кусочки дерева, которые папа не успел убрать. Их голоса звучали так близко, что я мог слышать каждое слово. Она его обвиняла, что он положил глаз на девчушку, ее дочь, а он отвечал, что они – мать, тетя с дядей – ничего не замечают, а девчонка становится распутной, и они должны следить за ней, потому что она будет хуже мамы. Он видел ее на валу с товарищем по школе, а она сказала, что идет заниматься к подруге. «Ревнуешь, вот оно что, ты ревнуешь!» – кричала мама, бросаясь ему на грудь с кулаками.
Эти ссоры всегда кончались тем, что папа в бешенстве уходил из дома и пропадал по целым дням, уезжая на своем черном велосипеде. Иногда, уходя так, он брал с собой меня, посадив на раму велосипеда. Я не мог отказаться, но чувствовал себя похищенным от матери, невольным предателем. Крутя педали, он все время говорил сам с собой в мрачном исступлении. «Они думают, я дурак, – говорил он. – Но я все вижу. Я привык быть начеку, я знаю мужчин и женщин. Она станет распутницей, она из „таковских“». Теперь уже он не звал ее по имени, даже когда говорил о ней дома, только «из этих самых», «та еще». Он шпионил за ней на велосипеде, со мной на раме, чтобы застать ее, когда она выходила из школы или на прогулке по городу с подругами или товарищем по классу. «Смотри, как она вертит задом», – говорил он; и я, сам того не желая, смотрел, как маленькие круглые ягодицы шестнадцатилетней девушки качаются под одеждой туда-сюда, и дрожал при мысли, что она обернется и заметит отца, со мной на раме, следящего за ней тайком на велосипеде. Иногда он говорил: «Сколько раз на войне я думал пустить себе пулю в лоб. Почему я этого не сделал?». И так мы ездили до ночи, мое тело немело от однообразной позы, мне было холодно, голые ноги болтались в воздухе, но я не осмеливался попросить его остановиться и дать мне размяться.
Иногда после ссор он брал меня с собою в кино. Как-то раз, когда мы вернулись, мама, грустно глядя на меня, сказала: «Эх ты! Дал себя купить за кино».