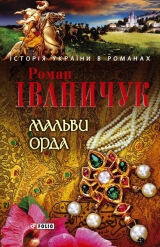
Текст книги "Мальви (Яничари)"
Автор книги: Роман Іваничук
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Мария с тревогой взглянула на дочь, бросилась к ней, чтобы увести ее прочь из этого содома, и сердце ее дрогнуло: она увидела в сумраке мечети, как горят глаза девочки, как шевелятся ее губы. Сложив молитвенно руки, Мальва повторяла: <Аллах, аллах, аллах…>
Это ошеломило Марию. Она поняла: дочь не испугали вопли дервишей, а заворожили. Ребенок уверовал в того аллаха, которого они прославляли, и, возможно, ничего уже не захочет знать о вере родителей, да и вообще не поверит, что есть на свете бог, кроме аллаха. Когда шла сюда, знала, что это может случиться, а сейчас испугалась. Схватила за руку дочь и побежала по ступенькам вниз. Но у выхода галереи ее остановил Мурах-баба.
– Ты куда? – прохрипел он, схватив за руки Марию и Мальву, и поднял их вверх. – Повторяйте обе за мной… Во имя бога милосердного, милостивого. Слава аллаху, владыке мира…
Рука Марии безвольно опустилась, а дочь… дочь набожно держала поднятые вверх два пальца и шепотом повторяла за монахом:
– Слава аллаху… царю дня судного… Воистину мы поклоняемся тебе… веди нас по прямому пути…
Мурах-баба сорвал с шеи Марии крестик и властно повелел:
– Топчи ногами!
Мария, всхлипнув, отпрянула. Дервиш бросил крестик под ноги девочки, и та начала топтать его.
– Теперь идите, – сказал Мурах-баба. – Если же ты не придешь сюда на утреннее и вечернее богослужение, наречем тебя безумной и свой век ты скоротаешь в тимархане*. Ибо безумен тот, кто не верит в единственную правду на земле.
_______________
* Т и м а р х а н – дом для сумасшедших (татар.).
Словно из угара вырвалась Мария из мечети и уже на безлюдной улице, оглянувшись, вздохнула:
– Прости меня, мой боже… Мы не топтали твой крест, это нам снилось. Прости…
И окаменела – Мальва, подняв руки к небу, молилась:
– Воистину мы поклоняемся тебе… веди нас по прямому пути…
Шепот ребенка, набожный, страстный, так естественно сливался с шумом города, выкриками муэдзина на минарете мечети Муфтиджами, с клекотом рынка, куда прибывали все новые и новые невольники умирать за веру, страдать за нее, осквернять ее и давать врагу рыцарей здоровой крови.
Так естественно…
У Марии вспыхнула мысль – бежать! Прочь отсюда, за пределы Кафы, тут страшно, тут неволя для тела и духа, этот город проникает в души людей, поглощает их, еще день, еще час, минута – и уже не в силах будешь вырваться отсюда до конца своих дней.
День клонился к закату, багровое, закопченное сухой пылью солнце опускалось за хребет Тепе-оба. Мария спешила к северным воротам, шаль сползла на плечо, ее глаза испуганно бегали под черными бровями, растрепались преждевременно поседевшие волосы:
– Куда ты так быстро тянешь меня, мама? – спотыкаясь, бежала за матерью Мальва. – Я хочу есть, хочу домой. – Слезы стекали по запыленным смуглым щекам, оставляя грязные следы.
Мария вспомнила о дукате, который дал ей на дорогу татарин. На него можно будет кое-что купить в магазине за стенами Кафы, где живут евреи и караимы. Только ведь уже вечереет.
– Пойдем, доченька, быстро, сейчас купим что-нибудь поесть.
Они уже приближались к воротам, как вдруг из переулка выбежала стайка загорелых мальчишек. С криком, хохотом они окружили их и стали забрасывать комьями земли, камнями.
– Джавры, джавры, джавры!* – визжали они.
_______________
* Д ж а в р ы – пренебрежительное название христиан.
Бросилась Мария, чтобы вырваться из окружения обидчиков, прикрыла Мальву грудью своей, но мальчишки стали дергать ее за кафтан, за волосы, не унимаясь кричали <джавры!>.
Испуганная Мальва плакала, прижимаясь к матери. Мария оторвала от своих волос цепкую руку маленького наглеца, наотмашь ударила по бритой голове одного, другого. Они оторопели на миг, а потом подняли еще больший крик, из калиток стали высовываться закрытые яшмаками* головы татарок, те тоже стали угрожающе размахивать руками и кричать и успокоились только тогда, когда Мария с Мальвой скрылись в глухом переулке.
_______________
* Я ш м а к – шарф, которым прикрывают лицо мусульманки.
Лучше, чем за два года неволи, Мария поняла, что такое <гяур>. Надо было закрыть лицо, чтобы хоть так замаскироваться, но разве это спасет? Первый азан, и не стань на колени посреди улицы – снова презрение; первое слово ребенка, произнесенное не по-татарски, – снова камни и глумление. Что делать?
Тревожные мысли прерывали такие знакомые, давно не слышанные звуки: на колокольне армянской церкви тихо, вкрадчиво зазвучал колокол. Она остановилась слушая. Повеяло далеким и нежным, как детство, воспоминанием: вечерний звон на Украине, степь покрывается росой, мягче становится ковыль, и подсолнечники опускают головы – словно для молитвы…
Мальва все еще не могла прийти в себя, всхлипывала и, оглядываясь назад, лепетала сквозь слезы:
– Почему мы джавры, мама? Я не хочу, не хочу…
Мария не слышала лепета дочери, медленно шла на звуки прерывистого колокольного звона, с завистью, удивлением и боязнью глядя на людей, которые не боялись идти на его призыв.
Сколько их живет в Кафе? Есть ли у них дети? Что едят? Как живут среди вечного унижения и оскорблений, которые она только что испытала на себе? На что надеются эти люди, во имя чего они жертвуют собой, ведь день их спасения никогда не наступит. Ведь они никогда не выйдут за ворота Ор-капу, потому что христиане. А все-таки идут на призыв совести, за совестью, чтобы умереть такими, какие есть.
И Мария идет. Идет, как старуха, вспоминает о своих девичьих годах. Но к ним никогда не дойдет.
– Я не хочу быть джавром, мама…
– Не плачь, доченька, ты не джавр. Ты… мусульманка.
– Какая мусульманка?
– Узнаешь… Научишься… Ох, научишься, на горе моей седой головушке!
– Ну, какая, скажи, какая мусульманка? А за это не бьют, не забрасывают камнями?
– Нет, дитя мое, за это дают хлеб, чтобы человек жил. Ты будешь расти, а я возьму грех на свою душу, чтобы вывести тебя когда-нибудь из этой страшной земли.
Подошли к самой церкви. Возле паперти стояли поникшие старики. Какая-то женщина приветливо улыбнулась Марии. Был один миг, когда Мария хотела ринуться к входу и пластом упасть на цементный пол церкви. Но только один миг. Не ответив на приветливую улыбку женщины, смущенно отвернулась от нее. И вспомнила малоставских реестровых казаков с переяславским полковником Илляшем Караимовичем, которые приняли шляхетские бунчуки вопреки совести и вере лишь для того, чтобы сохранить жизнь. Самойло называл их предателями-янычарами. Может быть, они и дождутся лучших времен? А чего добился полковник Самойло своей гордыней, какая судьба постигла его за то, что не склонил головы перед польскими бунчуками? Сам погиб, а семья – в неволе.
– Гляди, Мальва, – сказала Мария, подняв голову. – Гляди и запоминай: это божья церковь. В такой, как эта, тебя крестили. Когда-нибудь, когда вырастешь, ты должна вспомнить о ней. А нынче мы мусульмане и будем разговаривать с тобой по-басурмански.
Мальва, утомленная и голодная, спала, склонив головку на плечо матери.
– Теперь пойдем к Мурах-бабе на вечернее богослужение, доченька. Пойдем служить иному богу, если наш забыл о нас.
Шла Мария, смиренная, покорная, с надломленной совестью. Закрыла лицо шалью и не обращала внимания на людей, которые выходили на улицу и о чем-то громко разговаривали, на янычар, собравшихся на площади у мечети с криками:
– Слава султану султанов Ибрагиму!
Марию ничего на свете не трогало. С сонной Мальвой поднялась она на хоры монастыря и только теперь поняла, что, очевидно, у мусульман произошло какое-то важное событие. Дервиши вели богослужение так, как и тогда, только после каждого выкрика <аллах> срывались с мест и вопили: <Свет очей наших султан Ибрагим>, – а после богослужения ударили в барабаны, заиграли на флейтах.
<Избрали себе нового идола и радуются>, – подумала и спустилась вниз, равнодушная, уставшая, измученная.
Во дворе стоял Мурах-баба. В его глазах светилось удовлетворение.
– Добрый вечер! – поздоровался он и повел Марию за собой.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Этот мир – огород, один
растет, другой дозревает, а третий
погибает.
Восточная поговорка
Год тому назад Османская империя снова встревожила мир. В этот раз страх охватил не только христианские, но и мусульманские государства. Имя тридцатилетнего султана Амурата IV прозвучало с такой силой, как когда-то имена его великих предшественников.
Магомет Завоеватель покорил Константинополь.
Сулейман Великолепный подчинил Сербию, Грузию, Алжир.
Амурат IV завоевал Багдад.
Десять лет турецкие войска осаждали жемчужину мира, десять лет уплывали деньги из государственной казны на безнадежную, казалось, войну, и наконец победа, багдадское золото перекочевало в кованые куфры стамбульского семибашенного замка Эдикуле.
Фанатический враг любителей табака и поклонник Бахуса, деспот, уничтоживший тысячи непокорных янычар, и в то же время властелин, к которому на улице подходили нищие, Амурат IV, потеряв терпение стратега, переоделся в мундир рядового воина и сам полез на стену Багдада. Разочарованные неудачами спахи* и янычары ринулись за своим свирепым полководцем – Багдад пал. Победители правили сорокадневную кровавую тризну на берегах Тигра, а на султанской чалме засиял еще один алмаз.
_______________
* С п а х и (сипахи) – воины султанского кавалерийского корпуса.
Персидский шах Сефи I согласился на все условия Амурата. В течение целого года прибывали в Золотой Рог галеры с трофеями, султан с войсками вернулся только весной. Более месяца готовился он в Скутари к вступлению в столицу. Стамбул томился в ожидании великого праздника.
Наконец полсотни галер пересекли Босфор под гром артиллерии. На белом персидском коне, в леопардовой шкуре, переброшенной через плечо, в белоснежной чалме в Золотые ворота вступал султан-победитель, за ним – двадцать вельмож в серебряных латах. Амурат ехал по главным улицам Стамбула, устланным коврами; толпился народ, гремела музыка, юные красавицы-цыганки извивались в безумных бешеных плясках, звенели лютни, цитры, заливались флейты, из сотен минаретов выкрикивали муэдзины хвалу султану, и даже звонили церковные колокола в Пере и Галате.
За Золотым Рогом, на холмах Касим-паши, откуда видно, словно на ладони, весь Стамбул, расставили столы. Амурат велел угощать всех – от великого визиря до простого кафеджи. А сам раз за разом поднимал бычий рог с вином, и каждый тост султана сопровождался орудийными залпами с анатолийского и румелийского берегов.
Возле султана стояли пятибунчужный великий визирь – седобородый Аззем-паша, ага янычар – мрачный Нур Али, шейх-уль-ислам Регель – глава духовенства.
– Я покорил жемчужину мира – Багдад! – громко произнес султан, и над шумящей толпой воцарилась тишина. – Цветущая и хлебородная Месопотамия навеки воссоединилась с единоверной империей Османов. Я поднимаю чашу за то, чтобы все народы стали под зеленое знамя пророка, которое будет держать Высокая Порта, за будущую победу над неверной Русью, ибо клянусь вам, что и Азов, и Астрахань, и Киев будут лежать у моих ног. Пусть поможет мне в этом аллах!
Загремели залпы, заиграла музыка, дервиши-трясуны срывали с себя одежду, кололи тело ножами, жгли раскаленными на кострах железными прутьями. Кричали <слава> спахи, но почему-то молчаливыми были янычары, словно мрачный вид Нур Али не разрешал им радоваться этой победе.
– Великий султан, – подошел янычар-ага к Амурату, – разреши хоть мне, коль забыли обо этом твои уста, прославить сегодня храброе янычарское войско, которое штурмовало стены Багдада и дралось, словно стая диких львов, за твою честь и славу.
Амурат не ждал таких дерзких слов от янычара-аги. С тех пор как он расправился со взбунтовавшимися янычарами в казармах Селямие на Скутари, Нур Али стал заискивать перед ним и самоотверженно дрался в боях, стараясь обратить на себя внимание султана.
Мгновение он грозно смотрел на агу, уже чувствовал, как клокочет в груди безумная ярость, но Нур Али был настолько спокоен, что Амурат смутился.
– Ты прав, Нур Али, – промолвил он, сдерживая раздражение. – За твоих рыцарей надо выпить, и я разрешаю. Однако, как велит закон предков, все предложения доводит до сведения султана диван*, а не один человек. И поэтому завтра я буду ждать решения дивана о том, нужен ли среди султанских слуг еще и провозглашатель тостов?
_______________
* Д и в а н – верховный совет при султане или хане.
– День только что закончился, великий падишах, пусть вечным будет имя твое, – поклонился Нур Али, показывая рукой в сторону залива, где зажигались факелы. – Солнце не скоро осенит Анатолию, а ночь долгая. – Он теперь с ненавистью смотрел в глаза Амурата, и его не тревожило то, что насторожились султанские сановники и ближе к султану подошли оруженосцы. Возле него стоял чорбаджи – полковник Алим, черноусый, богатырского сложения славянин, а позади – почетная стража. Янычар-ага выпрямился. – Ночь будет долгой для тебя, султан. А твои наследники, возможно, подумают о том, стоит ли рубить ветку, на которой сидишь, да и следует ли ремесленнику ломать станок, который дает ему средства на жизнь. Багдад, добытый ценой крови, лившейся годами, мог быть взят за месяц, если бы не совершенное тобой в Скутари преступление.
Амурат побледнел. Выхватил из ножен далматскую саблю, к Нур Али бросились султанские оруженосцы, но в этот момент султан, схватившись за живот, упал вниз лицом на землю.
Поднялся крик, забряцали сабли, но оружие не скрестилось. Янычары обезоружили султанскую охрану.
Великий визирь Аззем-паша стоял неподвижно. Глядя на мертвого султана, вполголоса произнес:
– Пришел конец династии Османов. У тебя, султан, нет сыновей, а твой слабоумный брат Ибрагим не способен править империей.
Повелел своей прислуге унести тело султана во дворец – готовить к вечному успокоению, а сам стоял в нерешительности, слушая, как вопит толпа, побежавшая по городу:
– Султан Амурат умер! Султан умер!
Но тут же тревожные возгласы заглушились иным призывом, который все нарастал, увеличивался и наконец явственно долетел до слуха визиря:
– Ибрагима! Ибрагима!
Встретились, словно на поединке, умные глаза Аззем-паши со злорадными, коварными глазами Нур Али.
– Рано тешишь себя, эфенди, – блеснул янычар-ага белыми зубами. – Слышишь, кого провозглашают янычары? Или, может быть, и ты посмеешь выступить против них?
Теперь Аззем-паша понял: янычары отравили султана, чтобы посадить на престол недалекого Ибрагима, которого Амурат упрятал на вечное заключение в дворцовую тюрьму. Не ярость, а страх перед неминуемым горем руководил им, и, забывая о своем положении, великий визирь закричал:
– Шайтан! Чужеземец, вероотступник! Что дорого тебе на этом свете, кроме собственной выгоды? Будь проклят ты, гад, вскормленный Урханом!..* О аллах, Ибрагим будет править империей!
_______________
* Имеется в виду султан У р х а н Г а з и, находившийся на
престоле в XIV веке. Ему приписывалось сформирование войска янычар
<йепи-чери> (новое войско) из воспитанных в специальных учреждениях
христианских мальчиков. Как предполагают ныне, это войско было
создано в XIV веке при султане Мураде I.
Нур Али спокойно выслушал взрыв бессильного гнева великого визиря. Возгласи: <Ибрагима, Ибрагима!> – раздавались уже по обе стороны Золотого Рога, янычар-ага мог не беспокоиться. Он поклонился визирю и промолвил, не скрывая насмешки победителя:
– Нерушимы устои Порты, эфенди. На янычарах выросла Османская империя, на янычарах держится и, если на то будет воля аллаха, погибнет вместе с ними. А та голова, – добавил он с угрозой, – которая не властна над своим языком, часто красуется на золотом подносе у ворот Баб-и-гамаюн* напротив Айя-Софии.
_______________
* Перед воротами султанского дворца выставляли головы казненных
представителей знати.
Он повернулся спиной к великому визирю, велел прислуге подать коня. Вскочив в седло, еще раз поклонился Аззем-паше.
– Сегодня брат покойного Амурата будет на свободе. А тогда, когда султан Ибрагим возвратится из мечети Эюба, опоясанный мечом халифа Османа, я надеюсь встретиться с тобой на совете дивана, где поговорим не об искусстве произносить тосты, а о важных государственных делах.
Аззем-паша ничего не ответил. Он смотрел на то место, где недавно лежал последний храбрый султан из рода Османов. Позади визиря находилась свита, по всему городу выкрикивали: <Ибрагима, Ибрагима!>
Тело Амурата приготовили к погребению в спальне султана, и тогда вошли туда шейх-уль-ислам, анатолийский и румелийский кадиаскеры*, командир спахиев – алайбег, последним вошел вспотевший от быстрой езды Нур Али.
_______________
* Верховные судьи Анатолии и Румелии.
– Пригласите валиде* Кёзем, – сказал шейх-уль-ислам, и в этот момент раздвинулась портьера, в спальню вошла женщина в черном. Кисейная чадра прикрывала ее суровое лицо.
_______________
* В а л и д е – мать султана.
Она приложила руку к груди, печально глядя на мертвого сына. Но материнская скорбь была недолгой. Валиде подняла голову, возвела руки к небу.
– О радость моего сердца Ибрагим, сын султана! – произнесла она торжественно, и радость вспыхнула в глазах янычар-аги. Властная мать султана, которая когда-то сама посоветовала Амурату заключить в тюрьму Ибрагима, теперь благословляла своего юродивого сына на трон.
Нур Али сделал шаг назад, и сановники посмотрели на него. Он молча указал рукой на выход, шейх-уль-ислам колебался только миг и направился первым, а следом за ним потянулись все члены дивана. Молчаливой процессией пересекли все подворье, миновали конюшню султана и остановились перед железной дверью дворцовой темницы. Часовые расступились, кастелян тюрьмы дрожащим голосом сказал:
– Только по разрешению великого визиря могу открыть ворота…
Нур Али огрел его нагайкой, сорвал с пояса кастеляна ключи, и дверь со скрежетом открылась.
Заросший, с воспаленными глазами мужчина в грязном халате робко приблизился к выходу, упал на колени и пролепетал:
– Только… только Амурат есть и будет повелителем правоверных, никто не смеет признавать другого… пощадите, пощадите меня…
Валиде Кёзем решительно вышла вперед и прервала Ибрагима:
– Сын мой, твоя любящая мать благословляет тебя на престол предков.
– Нет, нет! – завопил Ибрагим. – Я не уйду отсюда, не уйду!
– Принесите сюда тело Амурата! – повелела валиде.
И только тогда, когда Ибрагиму разрешили прикоснуться к трупу, он поверил.
– Тиран мертвый, мертвый! – закричал он, жадно хватая ртом воздух, и, потеряв сознание, упал на руки Нур Али.
Старик Хюсам, владелец ювелирной мастерской, которая ютилась на одной на темных улиц на окраине Скутари, долго не мог уснуть в эту страшную ночь. Его тревожили слезы верной жены Нафисы, донимали думы – неутешительные и беспокойные.
Он не знал, что творится на противоположной стороне Босфора, но, очевидно, там – оргии, банкеты, моления дервишей по случаю празднования победы Амурата. Но его это мало интересовало. За долгую жизнь Хюсама восемь султанов сменилось на престоле, он еще помнит Сулеймана Великолепного – Законодателя. Ни один из султанов не дорос до него, ни один не достиг славы великого властелина.
Много лет прожили вместе Хюсам с Нафисой – только вдвоем. У него не было других жен, хотя эта и не родила ему детей. Он любил Нафису. А им, бездетным, всегда давали на воспитание мальчиков, привезенных из чужих стран. Нафиса любила их, приемышей, как любят соседских детей бездетные женщины. Хюсам обучал их турецкому языку и корану, а сам не раз спрашивал себя: зачем это? Разве можно полюбить мачеху сильнее, чем родную мать? И они отдавали мальчиков в корпус янычар без боли в сердце и забывали о них, как забывают о детях соседей.
А одного вырастили, выпестовали – диковатого мальчика из приднепровских степей. Хюсам не хотел отдавать воспитанника, когда начальник янычарской казармы пришел забирать его. Пусть подарят им Алима в награду за то, что они воспитали много хороших воинов. Нафиса рыдала – своей долголетней бескорыстной работой она заслужила у султана право иметь сына. Ведь он единственный из всех называл ее матерью. Смягчилось сердце ода-баши при виде плачущей Нафисы, он велел позвать Алима – пусть сам скажет. Вошел Алим, высокий, сильный, широкие черные брови сомкнулись над орлиным носом; у юноши загорелись глаза, когда он увидел оружие, крепко сжал эфес ятагана, который подал ему ода-баша, и ушел с ним, не обняв на прощание названых родителей, исчез с их глаз навсегда.
Тогда Хюсам сказал: <У человека есть только одна мать или ни одной>. Но его слова не успокоили Нафису, она побежала проводить Алима. Потом каждый день ходила к казармам янычар, слонялась там напрасно: Алим не выходил к ней. А вчера, когда янычары с Амуратом переправлялись через Босфор, весь день простояла на берегу, но так и не увидела его. Рыдала, думая, что он погиб.
Растревожили Хюсама слезы Нафисы. Лишь к утру уснул он в своей мастерской, размещенной в подвале, не ведая о том, что творится по ту сторону Босфора. Нафиса разбудила старика под вечер. Она только что вернулась из города, была встревожена, настойчиво теребила Хюсама за плечо:
– Вставай, вставай, Хюсам! Ты спишь и ничего не знаешь. Этой ночью умер султан Амурат…
– Великий боже! – вскочил Хюсам. – Как, почему умер Амурат?
– Поговаривают, что отравили его янычары. На банкете.
– Проклятие… А кто же, кто… – Старик вдруг схватился за бороду, пальцем поманил к себе жену. – Слушай, я хорошо знаю… О, я знаю, что есть такой закон, принятый еще Магометом Завоевателем, когда он захватил Кафу… Слушай, Нафиса. Ядовитая кровь чужеземки Роксоланы пролилась в эту ночь! В том законе завещал Магомет: <Когда прекратится мой род, крымская династия Гиреев на престол Порты взойдет…>
– Тс-с-с! – Нафиса закрыла Хюсаму рот. – Сегодня я слышала, что какого-то Гирея задушили в Дарданелльской крепости Султании за такие слова… Ты же не знаешь, Ибрагима выпустили из тюрьмы и должны провозгласить его султаном.
Хюсам замахал руками:
– Шайтан плюнул тебе на язык! Так он же слабоумный…
– Опомнись! – воскликнула Нафиса. – Не вздумай на улице сказать это. Сорвется слово с языка, и пойдут тысячи повторять его. А янычары всюду шныряют и хватают тех, кто охаивает Ибрагима.
Хюсам долго не сводил глаз с перепуганной жены, словно ждал: может, она улыбнется и скажет, что пошутила? Но видел, что ей не до шуток.
Сидел теперь на миндере, склонив голову на руки, и думал о Веселой Русинке*, которую когда-то пленили и привезли в Турцию. Действительно ли была она невольницей, а потом изменила своему народу или, может быть, умышленно пришла сюда, чтобы отравить своей кровью османский род? То ли из дикой материнской ревности повелела убить умных сыновей Сулеймана, чтобы престол достался ее сыну Селиму, то ли, возможно, уже знала наперед, что продолжатель османского рода от ее плоти – выродок? Кто об этом знает?..
_______________
* Имеется в виду Роксолана (Настя Лисовская из украинского
города Рогатина), жена султана Сулеймана II Великолепного. Она играла
заметную роль в политической жизни Османской империи в 20 – 50-х
годах XVI века.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Два бедняка уместятся на одной
подстилке. Двоим же падишахам весь
мир тесен.
Восточная поговорка
Идешь ли с ногайской стороны, от Альма-реки, где ранней весной буйно растет густая трава, а летом трескается от жары земля и свистит ветер над унылой степью, спускаешься ли от татов* с голубых лесистых гор на плато, что за рекой Качей, – ни оттуда, ни отсюда не увидишь сердца крымской земли – Бахчисарая, пока не станешь у самого края ущелья. Две головоподобные причудливые скалы – с юга Гала-асты, с севера – Топкая, – будто встретившись, остановились над кручей. С высоты одной из них открывается панорама раскинувшегося города, притаившегося, словно сколопендра, между скалами. Бахчисарай простирается от пышного с зеленой крышей ханского дворца и устремляющихся в заоблачную высь минаретов вниз, к гнилой реке Чурук-су. Крохотные, отгороженные каменными стенами сакли жмутся, наталкиваясь одна на другую, теснятся возле невольничьего и соляного рынков, у подножия Топ-кая, и, словно напуганные шумом и криком, расползаются по ровной степи, набожно склоняясь перед величественными ротондами ханских усыпальниц в Эскиюрте. Вверх, по берегу реки Чурук-су, городу подниматься труднее. Скалы сходятся все ближе, сближаются, давят одна другую, загораживая вход в караимскую крепость Чуфут-кале; саклей становится все меньше, они совсем исчезают, город зарывается в пещеры, но упорно тянется по ущельям Мариам и Ашлама-дере до тех пор наконец, пока его не остановят горы.
_______________
* Т а т ы – вероотступники (татар.). Так степные татары называли
татар горных.
Бахчисарая не видно и не слышно, его видят разве только орлы, которые парят под задымленным небом. Да еще всадник, стоящий на скале Топ-кая.
На скале Топ-кая стоит всадник в белой чалме и в ярко-желтом плаще, освещенный золотистыми лучами заходящего солнца. Остроконечная раздвоенная борода и нос с горбинкой вытянуты вперед, орлиные глаза всматриваются в сумрачные горы. Темно-буланый аргамак замер под ним, готовый к безумному прыжку в пропасть.
Это младший брат хана, военный министр Ислам-Гирей. Он вернулся сегодня из Перекопа в свой дворец в Ак-мечети* и теперь едет к старшему брату Бегадыр-Гирей-хану доложить о том, что восстановление крепости Ор-капу закончено. Едет один, без охраны. Он многие месяцы был оторван от политической жизни страны и не знал, какие за это время произошли изменения.
_______________
* А к – м е ч е т ь – нынешний Симферополь.
Ислам-Гирей донесет хану, что укрепления на перешейке надежные, и промолчит, что для этих укреплений необходимы новые и надежные войска и храбрый хан, который, кроме пера, умел бы крепко держать в руках булатный меч. Подумает, но не скажет и о том, что, кроме Перекопа, который преграждает путь неверным, пора наконец позаботиться об укреплении и южного побережья, захваченного единоверными турками. Богобоязненный властелин Крыма, автор сентиментальных стихов Бегадыр-хан отличается еще и своей жестокостью. После того как султан Амурат IV задушил в Стамбуле непокорного Бегадырова предшественника Инает-хана, он поклялся <ни на шаг не сходить с пути беспрекословного послушания султану> и выдавать на расправу каждого, кто осмелится не подчиниться воле падишаха.
Ислам-Гирей повернул коня и медленно начал спускаться вдоль ущелья, похожий в лучах заходящего солнца на величественный монумент воина. Скользнул взглядом по долине – греки закрывали лавки, кричали армяне в своем квартале, татары застыли у своих саклей в молитве. Темнела зеленая крыша дворца, и тихо было в ханском дворе. Очевидно, хан молится или сочиняет стихи о соловье, влюбленном в розу: в такие минуты безмолвствует стража и, словно тени, бесшумно ходят по площади ханские гвардейские сеймены*.
_______________
* С е й м е н ы – ханские стрельцы, татарские янычары.
Ислам зловеще захохотал, даже конь шарахнулся в сторону. Он натянул поводья так, что конь встал на дыбы. Стоявшие внизу люди ахнули: что это за безумец, намеревающийся перескочить через пропасть на ханское подворье? Всадник повернул влево – нет, еще не время – и быстро скрылся за горой, спускаясь к цыганскому предместью Салачика.
От Салачика вдоль северных стен крепости Чуфут-кале узким коридором тянулось в горы ущелье Ашлама-дере. Вход в ущелье преградил летний дворец хана Ашлама-сарай, весь утопающий в зелени садов, а рядом будто вросшая в землю духовная школа Зинджирлы-медресе.
Здесь когда-то учился Ислам-Гирей…
Вай-вай, когда это было… Над воротами медресе, помнит, висела дугой цепь – зинджир: кто заходил в ворота, должен был наклониться, чтобы не удариться головой о нее, – склониться перед величием науки и религии. Эта цепь все время напоминала о том, что ты ничтожный червь в сравнении с мудростью твоих предков.
В Зинджирлы-медресе Ислама учили поклоняться аллаху и яростно ненавидеть неверных. И он горел желанием испытать сталь своей сабли на головах гяуров, насладиться в конце концов свободой…
Под Бурштином, на Покутском шляху, впервые с глазу на глаз встретился с казаками, скрестилась сабля ханского сына с саблей гетмана Григория Черного*. Ослабела рука, схватили чубатые казаки юного Ислам-Гирея.
_______________
* Г р и г о р и й Ч е р н ы й – гетман, под предводительством
которого казаки разгромили татар под Бурштином в 1629 году.
И тогда другую школу проходил Ислам. Казаки передали его полякам, у которых он целых семь лет, ожидая выкупа, изучал при варшавском дворе тонкости европейской дипломатии.
Стоит ли жалеть о тех годах? Бушевали, правда, войны над Европой, а окрепшие руки жаждали меча, по ночам снились оседланные кони, волнистая ковыльная степь, и шум боя будил его среди ночи. Не было коней, не было и оружия – остались лишь мечты и злость.
Вокруг ненавистные гяуры. Будь то казак, лях или француз. Все они заклятые враги мусульман, арабов. Если бы его воля и сила, рубил бы их всех подряд и оставлял бы после себя горы голов, как это делал Тимур.
Однажды зашла речь о том, что в Варшаве на рыночной площади будут четвертовать казацкого атамана Сулиму, вожака казаков, охранявших южные границы Речи Посполитой, – это они спасли Польшу от турок под Хотином. Шляхта будет четвертовать казацкого атамана? За что?
Ислам-Гирей видел эту казнь. Пятерых казаков и их гетмана, так похожего на Григория Черного, вывели на площадь, и палач отсек им головы. За Кодак, за крепость на Днепре, которую они разрушили. А потом шляхта глумилась над их телами, их четвертовали и выставили на шестах. И еще увидел ханский сын в глазах казаков страшную ненависть – о, это не та, что светилась в глазах, когда их сабли высекали искры в бою под Бурштином! Это был гнев, порожденный несправедливостью. И ни одного вопля, ни единого стона…
Долго думал после этого Ислам. Видимо, Ляхистан не монолитное государство, и Кодак, как нарыв, въелся в казацкое тело… Не так же, как и турецкий гарнизон в Кафе? Разве турецкий султан не казнит крымских ханов, не считаясь с тем, что они защищают мусульманские земли от неверных?
Зинджирлы-медресе… О, тогда Ислам был еще свободен от честолюбия, еще не терзала его душу жажда власти, и не было мыслей о том, кто он сам, что представляет собой его родина и какая она. Тогда рука тянулась к сабле, а голова склонялась перед величием науки и религии. Ныне же руки тянутся к бунчукам и трону. И взлетает над головой, как петля, другая зинджир – плеть Османов, которая напоминает будущему полководцу, чтобы не слишком расправлял свою спину. Как вырвать трон из крепкой железной петли? Кто отважится? Бегадыр – слюнявый стихоплет и трус? Нет, не он!..







