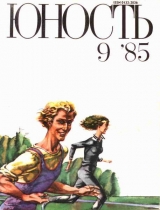
Текст книги "До и после «Чучела»"
Автор книги: Ролан Быков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
ЮРИЙ НИКУЛИН – ДЕДУШКА БЕССОЛЬЦЕВ
К кандидатуре Юрия Никулина мы тоже пришли не сразу. Сначала я долго уговаривал Оболенского, актера, известного еще в немом кино и «заново родившегося» за последнее десятилетие. Он представлялся мне наиболее подходящим для изображения «ушедших поколений». Но Оболенский был занят, он слезно просил меня не уговаривать его, да и я сам склонялся к более современной фигуре.
Решил попробовать себя. С большим удивлением увидел, что вовсе не подхожу к роли. Даже не поверил первой пробе, попробовался во второй раз, в третий – и решительным образом отверг свою кандидатуру. Да и сложность производства картины рождала сомнения…
Двадцать лет назад в поисках актера на роль Айболита я писал Юрию Владимировичу Никулину даже в Австралию, где он гастролировал с советским цирком. Я, как и многие, очень люблю этого актера. Не сразу я привык к мысли, что дед Бессольцев – Юрий Никулин. Мне все мешало представление о необходимости особо подчеркнутого внешнего благородства, седой шевелюры, строгого лица. Но интуитивное обращение к Никулину уже было моей внутренней борьбой с решением, лежавшим на поверхности. Хотя по-настоящему я смог понять ценность и точность приглашения Никулина на эту роль только когда начались съемки центральных сцен фильма – дуэта дедушки и внучки.
Умение молчать в кадре, умение слушать – это вообще редкий дар, дар души. Все мы больше любим говорить сами, а слушать почти разучились, С трудом слышим. Это часто и рождает глухоту взрослого мира к миру детства.
Юрий Владимирович сразу, с первой же репетиции, по-актерски стал «пристраиваться» к Кристине внутренне. Быстро помог ей преодолеть природную застенчивость, и я глазом не успел моргнуть, как они уже весело общались между собой. Опытный мастер понимал, как трудна роль «его внучки», и его желание помочь юной партнерше на глазах превращалось в самую искреннюю любовь старшего Бессольцева к Лене.
Я часто наблюдал за превращением человеческих категорий в глубоко художественные – в этом для меня особая магия искусства.
Умение молчать, воспитанное в цирке, умение слушать, рожденное чуткой душой, делают Никулина особым актером. Для картины же «Чучело» этот дар оказался бесценным – родилась важнейшая для всего идейно-художественного построения фильма духовная связь между Леной и дедом, между судьбами, разделенными временем, между поколениями замечательной русской фамилии, несущей в себе духовную традицию нравственности, милосердия и мужества.
Никулину свойственна глубокая, чисто национальная тема «чудака» – это и сделало его близким и родным зрителю… В картине Николай Николаевич Бессольцев, «чудак», отдающий остаток жизни последней страсти – восстановлению картин своего предку, и его внучка – близкие друзья. Как близкие друзья, они говорят друг с другом о самом главном и сокровенном, жалеют друг друга, спорят и ссорятся, ищут выход. Взрослый и ребенок, разделенные годами и конкретными жизненными интересами, теряющие между собой духовную связь, – острейшая проблема нашего мира.
Дуэт Юрия Никулина и Кристины Орбакайте выражает редкую сегодня гармонию человеческих отношений взрослых, и детей, такую необходимую – и такую важную.
Бессольцев душевно деликатен, он не ругает внучку, не читает ей нотаций, без чего, нам кажется, мы не выполняем своего, родительского долга, «не всыпает» девочке за ее грубость, проявленную сгоряча. Он прощает, хотя и очень расстроен. (Потом Лена так же будет прощать предавшего ее Сомова.)
Он старается понять, вникнуть, он слушает! Он слушает и молчит. Он. уважает ее и ее горе! Он относится к ребенку как к человеку!
Кто из нас это умеет? Кто из нас способен на искреннее уважение к ребенку как к личности? Не в этом ли неумении понимать, любить и уважать наших детей наши главные проблемы?
Образ Бессольцева несет в себе корни народной нравственности, это потомок целого рода прекрасных русских людей, тружеников и воинов – и это высокая инстанция Добра. На. хороших людях, как говорят, «мир держится», тем более на таких, кто умеет постоять за добро…
ЗАГАДКА ЗРИТЕЛЯ
…И все-таки актерам до войны было легче. Довоенный зритель верил на слово: сказал актер на экране хорошие слова, и зритель не сомневался, что это хороший человек, сказал плохие – зритель сразу понимал, что «это гад», он и в жизни такой же! А сейчас какие хочешь слова говори, зрителю даже в голову не придет, что он должен делать какие-то выводы: «мало ли кто что говорит, всем верить?»… Зритель и горящим глазам сегодня не очень-то верит. Это когда-то – поведет особым взглядом любимец зрителя, Николай Крючков, и сразу ясно: «Орел!» Или еще раньше, в немом кино: сверкнут во весь экран глаза, подведенные гримом, – зритель чуть не в обморок – какая страсть! До войны девчата говорили: «Глаза горят, значит, любит!» Сегодня и глаза горят – и врет. А бывает, что у обоих глаза горят, у него и у нее – и оба врут. Так удобнее…
Вся трудность современного актера в том, что зритель изменился как человек. Изменился его способ думать. Воспринимать. Он более культурен и менее доверчив. У него большой опыт общения Тем более, что он теперь ценитель искусств, или на худой конец, как говорил о себе Частный пристав в гоголевской повести «Нос», «большой поощритель всех искусств и мануфактурностей», словом, «дураков нет». Доверчивые люди не перевелись, и верить друг Другу тоже не разучились, и правду умеют говорить, но и неправду тоже, глядя по обстоятельствам. Я однажды спросил на съемке у молодого администратора:
– Зачем обманываешь?.. Ведь нет необходимости.
– Чтобы не разучиться! – не моргнув, ответил тот.
Люди иногда живут с какой-то двойной бухгалтерией: одна для окружающих, другая для себя. Ложь не новость на белом свете, но сегодня она в обиходе, как пятачок в метро. Мы даже не несем за нее перед собой ответственности, ее необходимость как бы подсказана «здравым смыслом». В небольшой лжи или полуправде сегодня стараются не уличать – неприлично. Если мы и боремся с ложью, то чаще с чужой. И никто себя не винит, мы говорим – «время такое». «Се ля ви» – наш обиходный французский. Все изменилось…
Вы заметили, что современные собаки не гоняют уже кошек, как прежде? Или нейтралитет, или дружат, или так: кинется пес за кошкой для острастки, та лениво изогнет спину, для приличия пошипит, и пес уже в сторону Весь ритуал для вида, формально. Я где-то даже читал, что одна современная лиса прижилась в курятнике и сторожила кур. А куда денешься? В лесу иногда как в городе: и машины ездят, и пешеходы ходят…
ЖИЗНЬ В ГОМОСФЕРЕ
Слово имеет наука: «Цивилизация, техническая цивилизация, НТР – все это хорошо усвоено людьми. А вот духовная культура, культура, духовное начало – понятия достаточно расплывчатые» (академик Д. С. Лихачев).
Действительно, мы легко произносим слово «бездуховность», оно вполне вошло в наш обиход, особенно когда мы говорим о проблемах современности или воспитания. Что это такое, мы можем объяснить, составив бесконечный список душевных изъянов и человеческих недостатков: безнравственность и низость помыслов, равнодушие и жестокость, вещизм и эмоциональная тупость, отсутствие высокой сознательности и развитого эстетического чувства, узость интересов и мелочность души – это очень много для четкого понятия, действительно оно становится расплывчато.
Но если понятие «бездуховности» осмыслено нами хоть так, то слово «духовность» мы произносим очень редко и с явной опаской. На каком-то этапе мы просто цепенеем перед этим словом; от него так близко до слова «дух», а это слово мы сегодня слышим чаще как понятие «запах» или в смысле гегелевского и прочего идеализма. «Духовность – дух – духовенство» – семья слов одна, но через корень этой семьи проходит граница времен, прошлого и настоящего, великих открытий и не менее великих заблуждений.
«Я давно уже остро ощущаю необходимость найти точный термин, который вмещал бы в себя комплекс понятий, связанных с внутренним миром человека, его развитием, с тончайшими и сложнейшими системами связей людей между собой, человечества со всей природой, планеты и с Вселенной. Нечто всеобъемлющее, как ноосфера Вернадского, как биосфера, но заключающее в себе иную основу – человечность, гуманность, одухотворенность», – говорит академик Д. С. Лихачев.
Мы давно ждем от науки нового обращения к человеческой душе, смелого вторжения в ту область, в которой ушедшие эпохи поиск истины связывали с именем Иисуса Христа. Мне всегда казалось, что давно пора создать «Историю человеческой духовности», «Фундаментальную теорию нравственности», «Теорию и историю великих заблуждений», «Феноменологию детства» и т. д. – все то, что принято называть познанием «жизни человеческого духа». Поэтому я с таким волнением читал слова Д. С. Лихачева:
«Вы понимаете, я веду сейчас речь об очень важной, четко просматриваемой области важнейших жизненных интересов, стремлений, нужд и надежд народа, людей, каждого человека. Именно человека, а не абстрактной усредненной статистической личности. Это огромная сфера, охватывающая гуманистическую сущность общества и, я даже сказал бы, всего живого, всего сущего на планете и даже во всей Вселенной. Человекосфера… или для подобия с принятыми уже понятиями этой категории – на международной латыни – гомосфера. Именно гомосфера! Термин найден…»
Открытие термина – это иногда определение целого направления усилий человеческой мысли. Есть ли у него будущее, покажет жизнь, но я всей душой уже сегодня приветствовал бы его. Великие достижения всех времен и народов в области художественного мышления могли бы быть рассмотрены заново с точки зрения критерия духовности, весь субъективизм творчества обрел бы, наконец, свою конечную объективность вполне реально, и открылся бы новый импульс борьбы с бездуховностью, с властью предмета и факта над человеческой душой. Критерий духовности мог бы указать ту границу нравственности, которую все более нарушает современная наука и цивилизация, он мог бы стать критерием оценки самых сложных современных явлений с новой стороны, он мог бы ответить на множество самых сложных вопросов и в особенности на проблему нашего отношения к будущему…
ТОСКА ПО БУДУЩЕМУ
Наши отношения с прошлыми веками не однозначны: с одной стороны, мы свысока смотрим на времена карет и парусников, но с другой – грустим по «прекрасным дамам», тоскуем по рыцарям и мушкетерам и испытываем нечто вроде упрека, когда думаем о тех, кого называли «невольниками чести». И нам вовсе нет дела до того, что во времена «плаща и шпаги» убийство становилось делом доблести, – нам важна сама доблесть, нам нет дела, что романтическая литература идеализировала своих героев, нам важен сам идеал, сам герой. Они стали той твердой и вполне конвертируемой валютой, по которой мы, наследники всего опыта и гуманизма прошлых веков, можем оценивать нашу духовную жизнь.
«Рыцари без страха и упрека» приходят к нам в ранней юности с первыми прочитанными книгами как наше личное открытие. И здесь, в столкновении с новыми временами и поколениями, ностальгия по ушедшему и как будто безвозвратно утерянному становится тоской по будущему, болевой точкой души, рождающей мечту о прекрасном, о благородстве и справедливости. У картины «Чучело» свои отношения с прошлым, имеющие для всего содержания огромное значение. В откликах зрителей, в письмах – а письма были и остаются бесценными документами истории человеческого духа, – есть замечательные «автопортреты» юношей наших дней, написанные совершенно непроизвольно, искренне и просто – в потоке размышлений и чувств. Меня не на шутку волнует, что фильм вызвал к жизни именно такие письма: в них все оценивается по критерию духовности – ив этом для меня что-то самое главное из всего, что произошло…
Письмо из Краснодара (отрывок):
«Здравствуй Кристина! Я не знаю твоего домашнего адреса, поэтому пишу на киностудию, чтобы переслали тебе. Сегодня я посмотрел фильм «Чучело», о котором уже много и противоречиво написано в газетах. Я потрясен твоей игрой, великой силой души и величайшим милосердием твоей Лены Бессольцевой. Ты прекрасна. Грация твоих жестов, трепетность прекрасных длинных рук, воздушная легкость твоей походки выдают твою хореографическую подготовку. Ты, наверно, занимаешься балетом? «Некрасивость» твоего лица прекраснее самых совершенных лиц. На нем отражается каждое движение твоей души, каждая мысль. В нем прелесть чистого юного существа и многострадальная терпеливость – милосердие русской женщины. И твой звенящий голос, его ирония, его нежность. Гениальное простодушие не от простоты, а от величайшего самопожертвования и милосердия. О, как милосердна ты и как недосягаемо велика в сравнении с ничтожным, предавшим тебя Сомовым! Я полюбил твою Лену Бессольцеву, образ которой неразделим с тобой, с твоим обликом.
Как ты умеешь смеяться! Даже в смятении, в горе – вдруг серебряный смех. Самая большая и бесспорная удача фильма – ты. Последние кадры: снимают головные уборы юные курсанты, отдавая честь твоему мужеству. Их головы обриты, как и твоя. Ты тоже воин, воин-победитель с обритой, но не склоненной головой.
Фильм не жесток. Я знаю – так не бывает, так могло быть, но не должно повториться! Фильм заставит многих задуматься над своим отношением к жизни, к себе, к друзьям и врагам. Пылает чучело, но не сгорает в огне твоя великая душа. Добро торжествует. Жестокость страшна в мире, ибо она порождает жестокость. Но жестокость не ожесточает твою Лену. Она не сломилась. Лишь захотела стать еще безобразнее для тех, кто ее считает такой, и обрилась наголо. Но от этого становится прекрасней, одухотворенней…»
Письмо с Дальнего Востока (отрывок):
«Пишет Вам курсант с Дальнего Востока… Вот уже третий раз смотрю фильм «Чучело». Да какой же Вы человек, если поставили такой фильм!!! За все свои 19 лет я посмотрел много фильмов. Пересмотреть все, конечно, не удастся. Это «Судьба человека», «Летят журавли», «Белорусский вокзал»… Фильмы замечательные, но то фильмы о том времени, которое мое поколение знает лишь из рассказов. А тут появился фильм о сегодня, о нашей жизни. Я не могу сказать, что Ваша кинокартина хороша. Просто, по-моему, нет слов, которыми можно выразить свои чувства. Фильм прекрасен, замечателен и даже более того! Это даже не фильм – это же вопль чистой человеческой души: «Люди, смотрите, оглянитесь! Что же мы делаем!» Он рассказывает о нашей жестокости, о мещанстве, о пошлости и, конечно, о той хрустальной чистоте, которую мы должны нести всю жизнь, крепко-крепко прижав к груди, чтобы не разбить ее и не потерять где-нибудь в суете…»
ЗАГАДКА ЗРИТЕЛЯ И МОДА
У современных проблем есть какая-то удивительная черта – они как бы стали живыми существами. Они имеют свои тенденции, оказывают влияние, прогрессируют и даже имеют свою психологию. События то и дело меняют характер, экономику лихорадит, финансы капризничают. Условные понятия и неживой мир как бы приобрели живую образную конкретность: города растут и хорошеют.
как красны девицы, всевозможные идеи оплодотворяют друг друга, будто они находятся в биологической связи, и распространяются, точно какие-то вирусы. А всякие тенденции приходится время от времени оздоравливать, как городских детей, страдающих малокровием. Вещи, окружающие нас, рождаются и умирают, совсем как люди, и кладбища паровозов или кораблей образно не менее содержательны, нежели человеческие погребения. Потрепанные автомобили вдруг ласково именуются «старушками», и между ними, как между ветеранами спорта, устраиваются соревнования, а в газетах потом сообщают, что первым пришел такой-то «Форд» образца бог весть какого года. При этом фамилия водителя приводится в скобках как некая подробность, не более того.
Я, как конкретный человек, с именем и фамилией, все больше и больше чувствую себя поставленным «за скобки». Наиболее значительную часть суток я не имею ни имени, ни фамилии, ни своих склонностей, ни своего лица. Я – все что угодно, только не конкретный человек, я существую как понятие, не больше: квартиросъемщик, жилец, сосед, прохожий, проезжий, человек, сидящий напротив. Я посетитель, покупатель, сослуживец, член кассы взаимопомощи. Я клиент, абитуриент, пациент, потребитель, провожающий, отъезжающий…
Ее Величество Регламентация разлиновала меня, как тетрадку в клеточку, на правила и параграфы, на права и обязанности. Но если раньше это касалось в основном внешних аспектов моей жизни, то сейчас я все более регламентируюсь внутренне, и «благодарить» за это я должен современную моду, как доминанту массовой культуры. Термин «массовая культура» получил в нашей социологии твердый эпитет – буржуазная. Наша социалистическая культура – это культура для широких масс, ее главная задача – сохранить духовное содержание культурного строительства, его общественно-политический потенциал. Однако, хотя я и не социолог и могу, конечно, ошибаться, я все больше вижу вокруг себя растущую тенденцию стихии «массовой культуры» в ее самых негативных проявлениях. Я не могу не видеть, что эпитет «талантливый» категорически заменен на деловое обозначение – «популярный», что понятие «достоинство» все чаще заменяется популярным ныне словом «престиж», что разница между возможным и невозможным в искусстве, между талантливым и бездарным, которая совсем недавно считалась очевидной, все чаще трактуется как (всего лишь) разница вкусов: «вам так нравится, а нам эдак!»
Появились ученые и бесчисленные научные труды без тени науки, есть искусство без самого искусства, культура без культуры, нравственность без всякой нравственности, оголтелая деятельность без всякой деятельности. Это как раз то, что и называется «массовой культурой», которая подменяет ценности их внешними признаками, рождая даже свой «стиль» современного искусства, который можно назвать стилем «дизайн».
Дизайн – это красиво, модно, лихо. Что? – неважно. Важно, что «фирма», отлично сработано, на уровне мировых именно стандартов, и при этом – «только у нас»! Дизайн – стиль, суть которого комфорт, в нем могут быть любые стили, на любой вкус: дизайн может быть в стиле модерн, в стиле барокко, в древнекитайском, староиндийском, в сочетании стилей, вплоть до знаменитого «китча» – безвкусицы, доведенной до совершенства эклектики. Все это сфера обслуживания современного мещанина, сфера обслуживания не просто «живота» – это примитивно, сфера обслуживания «бездуховной души», суррогата из моды и стяжательства. Мещанин «духовно» самоутверждается, его идеал бытового комфорта перенесен на требования к искусству, которое покупается и продается.
Мода как доминанта массовой культуры по нынешним временам сделала головокружительную карьеру. Из «отличной штучки» она вдруг на наших глазах стала особой солидной и уважаемой в самых широких демократических кругах. Вокруг нее вертится уже не одно поколение. Она явно освоила современные скорости и опережает время, как сверхзвуковые самолеты опережают рев собственных двигателей. Мы вынуждены гнаться за модой, как ее отзвук, будто за собственной тенью, которая впереди утром, и в полдень, и вечером.
Из привилегии избранных мода как подарок цивилизации стала всеобщим достоянием. Она соприкоснулась с огромными человеческими массами, и это решительно изменило ее характер. Знаменитая «капризность» моды, ее голос, так недавно срывавшийся на «крик» – все это теперь в прошлом. Капризность моды узаконена – это теперь ее «динамика», «последний крик моды» – формула недопустимо бестактная по отношению к новому кумиру. Мода более не кричит – она диктует! А кричать и нервничать теперь приходится тем, кто ей неугоден: например, формула «крик души» – вполне современна, а формула «крик моды» – звучит уже чуть ли не иронически. Душе есть от чего кричать, моде же более не от чего, она обрела «голос» в современном мире, ее слышно и так!
Мода пошла вширь, она стала контролировать не только пряжки и кружева, не только имена и прически, она сейчас контролирует науки и искусства, идеи и общественные проблемы – решительно все. И мы чаще слышим не «талантливая идея», а «идея, имеющая популярность», «модное направление науки», «престижная профессия». И будь ты хоть семи пядей во лбу, ты ничего не сумеешь сделать без благословения «матушки моды». Даже если ты на любой из жизненных беговых дорожек финишируешь первым, этого никто не зачтет тебе, как рекордный результат. Только мода делает эти «соревнования» официальными и утверждает рекорды. Мода – королева «сферы обслуживания», и если основной стиль этой сферы «дизайн», то мода – его эстетическая платформа.
Но мода пошла и вглубь – она стала для многих миллионов людей системой ориентации в самых различных областях жизни. Она стала одним из новых средств связи между людьми. Связи закодированной и близкой к образной и поэтому более свободной от логики. Она, как печная труба, создает некую эмоциональную общественную тягу, которая организует движение интересов мельчайших частичек огромных человеческих масс и вследствие этого становится компромиссной связью между человеком и окружающим его миром…
Но из компромиссной связи мода становится новой властью над человеком. «Лихая мода, наш тиран, недуг новейших россиян» – какою она была еще при А. С. Пушкине, она становится настоящим диктатором. Эта власть не исходит от одного лица или группы лиц, она становится особой властью многих над одним. И эта власть незаметна, она осуществляется как бы изнутри, через вкусы и привязанности самого человека, которые на самом деле продиктованы все той же модой. И тут она проникает во все: во взаимоотношения, в мир чувств, в самые сокровенные тайники интимной жизни. Так происходит чудовищное предательство моды – в ней обнаруживается механизм роботизации человека, самой его индивидуальности, как последней суверенности.
Социалистическая культура, обращенная к массам, призвана была с самых первых своих шагов обороняться от бездуховности, мещанства, от стихии буржуазной «массовой культуры». Наше искусство сумело воспитать читателя и зрителя, как ценителя искусств: успех поэтов 50—60-х годов, популярность выставок и вернисажей, книжный бум, глубокий и всевозрастающий интерес к памятникам национальной культуры, интерес к старине, к своим корням, к фольклору, увлечение всеми видами документалистики – все это не случайно в нашей культурной жизни.
Но везде к каждому проявлению духовной активности присоединяется обыватель и мещанин: интерес к творческой личности диктуется ее популярностью, взятие автографов чуть ли не на туалетной бумаге часто исчерпывает интерес и любопытство «к искусству», книги приобретаются как вещи, интерес к старине в этих случаях диктуется уже его престижностью. Так сбылись слова А. И. Герцена: «Снизу все естественно, как к благополучию, тянется в мещанство, сверху все само впадает в него по невозможности удержаться. В этой среде Альмавива равен Фигаро». И мещанин интеллигентствует и интеллигент впадает в мещанство «по невозможности удержаться». И где та грань, которая разделяет одно от другого?
Я бы не рискнул сегодня показать пальцем на мещанина, я бы испугался, не укажу ли я на близкого и любимого человека. Понятие «мещанин» потеряло свои социальные признаки, я встречал мещан в среде и академиков, и рабочих. Понятие провинции тоже исчезло, как география мещанства: я видел поразительно духовных ребят в Чимкенте, я вижу совершенно бездуховных в любой из столиц. Мещанство сейчас представляется мне духовной болезнью современного человека, как любая порча, как перхоть, как трахома. Поэтому черта отчуждения может лежать и между людьми и внутри самой личности, как ее борьба с собой.
Здесь, в этой борьбе, в столкновении рожденной советским искусством традиции зрителя – ценителя искусств со стихией мещанской психологии и массовой культуры происходит основной бой за духовное, человеческое, одухотворенное. И все своеобразие этой борьбы в выяснении подлинных позиций, в столкновении с демагогией, болтовней, пустотой, прикрытой громкой фразой, и беспринципностью, прикрытой симуляцией принципиальности. И тогда загадка зрителя – различить в духовном смысле величины мнимые и подлинные. Как преодолеть субъективный фактор оценки, как освободиться от давления стереотипа, как преодолеть современное «клиширование» нашего восприятия? Особенно, когда слух и сплетня все более претендуют на «подлинные сведенья», они даже могут противопоставить себя науке, как точке зрения «слишком уж официальной» и даже «ограниченной», тут старые предрассудки начинают претендовать на высокое звание «твердых убеждений» и в этом качестве становятся особенно «краеугольными», читать никто не хочет – все писатели, процветают «точки зрения» без всякого зрения или знаний, когда, минуя доводы, сразу приходят к выводам и тут… однако, терпение…







