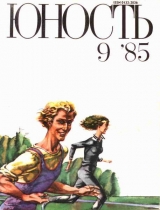
Текст книги "До и после «Чучела»"
Автор книги: Ролан Быков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Ролан Быков
До и после «Чучела»


Письмо пришло из Кишинева, когда со дня премьеры фильма прошел ровно год…
«Пишу Вам потому, что не нахожу себе места. А все из-за фильма «Чучело». Ведь все так и было! И было у нас, в нашем классе! Может, не было картин, и жила Лорка у родителей, но мы лупили ее беспощадно. За что? За веснушки, за широкую улыбку, за то, что не носит модных тряпок, не боится сказать правду про нас. А вообще-то и за то, что самый лучший мальчишка в классе предложил ей дружбу. И он точно так же струсил, а мы… мы радовались, когда видели в ее глазах слезы. Она никогда не жаловалась на нас. И в школе ничего не знали.
А потом она уехала в деревню к бабушке. А мы радовались. И вот этот фильм.
Мы только сейчас поняли, что мы такое натворили. Я себе говорю: «Забудь все, ведь ничего не было, ведь ничего не вернешь!» Но я не могу забыть ни Лору, ни Лену Бессольцеву. Ленка навсегда укор мне. Я знаю, что во всем виноваты мы, я.
Вверху – кадр из фильма. Справа – Р. Быков на съемках.
И Вы ничем не сможете помочь ни мне, ни Лоре. Но у меня к Вам огромная просьба: дайте, пожалуйста, адрес Кристины Орбакайте и ее фотографию. Чтобы со стены на меня смотрели глаза Ленки, чтобы я никогда не смогла сделать кому-нибудь больно…
18 апреля 1985 г.
Л. Н.».
Первая встреча со зрителем. Аплодируют долго. Смотрят из зала особыми, «зрительскими» глазами, ни на какие другие не похожими… Кто-то вытирает слезы…
В горле ком – едва сдерживаюсь. Санаева молодец – не сдерживается, ревет вовсю, даже не замечает этого. И шепчет: «Смотри, плачут, плачут!». Никулин улыбается – у него отношения со зрителем особые. Кристина тоже пытается улыбнуться. Взрослое платье выглядит на ней чужим – совсем девочка. Дрожат руки, плечи, ее знобит… Железников бледен…
Крики: «Браво!», «Спасибо!»… Дрогнула душа. Неужели?
Я часто очень сожалею, что зритель не видит самого замечательного – своего лица в такой момент, своих глаз – не знаю ничего прекраснее, какая духовная высота! Стоять на сцене «над» этими глазами и смотреть «сверху» неестественно и неловко – вот отчего актеры кланяются зрителю! В этом, наверное, не столько традиция уважения, сколько желание уравновеситься, преодолеть барьер рампы, черту отчуждения. Но она существует, сколько ни кланяйся. Неожиданно чувствуешь свое одиночество, самое странное и самое отчетливое. Все ждешь чего-то и вдруг понимаешь, что ждать больше нечего: все… картина кончилась.
Приносят микрофон… С волнением читаю первые записки, не могу разобрать, что написано, вспоминаю, что без очков уже плохо вижу, к счастью, очки на месте… Пытаюсь сориентироваться, что интересует больше всего. С чего начать?.. Вижу, что чаще всего повторяется вопрос, который я не люблю, но у которого, как все привыкли, больше всего «прав» на начало. С него и начну.
«ПОЧЕМУ ВЫ ПОСТАВИЛИ ЭТОТ ФИЛЬМ!»
Это король вопросов, вопрос-старейшина. Он распространен, как фамилия Иванов, как школьное «Катерина – луч света в темном царстве» или «В Платоне Каратаеве Лев Толстой изобразил нечто круглое». Мы, может, и «Грозу» забыли и «Войну и мир» не читали, а про «луч света» и «нечто круглое» все равно знаем – это уже как и та знаменитая фраза: «Для детей надо творить так же, как и для взрослых, только немножко лучше!» – что она означает, не знает ни один человек на свете, но я почему-то думаю, что для детей творят гораздо хуже тогда, когда ссылаются именно на нее, на эту фразу.
«Почему вы поставили этот фильм?» звучит как «Почему вы не поставили совсем другой фильм?» – можно только пожать плечами. Этот вопрос очень любят корреспонденты и дети. Корреспонденты – потому, что он сразу дает им преимущество перед создателями фильма: те решительно не знают, что отвечать, а дети понятия не имеют, о чем спрашивать, а спросить очень хочется.
Сколько себя помню, я всегда мучился от таких вопросов… Я тогда первый сезон работал в Московском ТЮЗе. В те годы существовала традиция «театральных поклонниц». Толпы неистовствовали вокруг наших великих оперных теноров – С. Я. Лемешева и И. С. Козловского. «Лемешистки» и «коз-листки» не уступали по фанатизму сегодняшним «динамовцам» или «спартаковцам», разве что их было меньше. Игра в «свою симпатию» бывала и скромнее: наши юные зрительницы «выбирали» себе кумира и чинно ходили за ним после спектакля небольшой толпой. Появилась поклонница и у меня. Однажды она решилась подойти: «Скажите, трудно выучить роль наизусть?» И пока, задохнувшись от унижения, я искал, как ей ответить: мягко, умно или уничтожающе, она заговорила сама: дескать, она первая начала за мной ходить и не хочет, чтобы за мной ходила другая, та, которая вон сзади, что она первая меня выбрала, потому что я в спектакле «Суворовцы» самый маленький и всегда с краю… Я сам во втором классе влюбился в девочку, которая была косая на один глаз, но зато быстрее всех бегала. То, что она быстрее всех бегала, вызывало восхищение, и я бывал счастлив, когда удавалось ее догнать, а то, что она была косая, заставляло трепетать от сочувствия и желания доказать ей, что она лучше всех. Но она стала бегать еще быстрее, так что догнать ее случалось все реже, и я ее разлюбил.
Есть еще один любимый вопрос зрителя: «Какая ваша роль самая лучшая?» В ответ считается приличным задуматься, посмотреть вверх, потом внутрь себя и со скромностью требовательного к себе художника ответить: «Та, что еще не сыграна!» Но после этого почему-то тут же задают вопрос: «Почему вы поставили этот фильм?» – и вы снова в тупике. Если после просмотра фильма не ясно, почему он поставлен, говорить не о чем – остается только признать его неудачу. Если же на самом деле попытаться найти «причину» того, что фильм поставлен, это все равно что попытка приблизиться к горизонту – сколько ни движешься к нему, расстояние не уменьшается… Потому что каждый фильм – итог всей жизни, истоки его часто лежат в далеком детстве, а побудительные мотивы творчества – одна из загадок за семью печатями. Попытки же ответить «почему» чаще всего превращаются в пошлость. Конечно, хотелось бы и самому найти ответ, «проследить» за собой, «выведать» у самого себя, да вот ни у кого не получается. Хотя попробовать хотелось бы! Я люблю сказку о Турандот, которая рубила женихам головы, если они не могли ответить на ее коварные вопросы. Иногда хочется быть Калафом, отгадать все загадки и оказаться мужем прекрасной Турандот, Риск – благородное дело!
Действительно, почему я взялся за «Чучело», когда самым серьезным образом готовился к совершенно другим работам? Меня, положительно захватила работа над сказочной трилогией «Русь Былинная», построенной как триптих: детство, отрочество, юность. Чудо свершения человеческой души на всех ее этапах – обретение богатырства. Фольклорный материал – моя давняя мечта. Параллельно писал сценарий автобиографического фильма «Мама, война!» о своем поколении (мальчишек войны) – это я обязательно должен когда-нибудь сделать. Лет пятнадцать я пишу смешную и грустную комедию «Соблазнитель» с игрой жанров, с переходом из одного жанра в другой, как в античной мениппее. У меня уже был готов сценарий «музыкально? го криминального приключенческого» фильма с главной комедийной ролью для себя… Отчего же я все это бросил и стал снимать. «Чучело»?..
Есть такое понятие – социальный заказ. О. нем можно спорить, но он существует в душе художника независимо от споров – это чувство времени, чувство кровной связи с жизнью твоих соотечественников, с проблемами, которые решает сегодня твоя страна.
В «Чучеле» В. Железникова я сразу ощутил социальный заказ и даже более – я воспринял повесть как «социальный приказ». Я был захвачен ею> ее героями, драматургией, остротой конфликта между высокой нравственностью» имеющей глубокие корни, духовностью, добротой и стихией мещанского равнодушия, жестокости. Я увидел в героине и себя и многих, кого люблю, потому что каждый из нас так или иначе находится или находился в положении «чучела».
Не скрою, что в одно мгновение увидел весь тяжкий путь, по которому придется пройти, пожалел свои выношенные замыслы, которые опять приходилось откладывать, но вспомнил слова Е. Б. Вахтангова, которого считаю своим учителем: «С художника спросится».
Кому-нибудь может показаться, что я ответил, на вопрос «Почему я поставил «Чучело»?», но. это не так. Далеко не так! Я только еще «назвался груздем», а теперь надо «лезть в кузов». Декларации и общие слова сегодня пустой звук, пока не становится ясно, что они означают конкретно, на деле. В том-то и сложность, что сегодня решительно все, чуть ли не от мала до велика, владеют искусством говорить одни и те же слова и при этом идти в совершенно разные стороны, кому куда выгодно. Все за детей! Все за высокий художественный уровень кинематографа, все за его воспитательную силу! Но это на словах, а на деле; один – «за», а другие – «против». В этом все дело.
Эта публикация, построенная на письмах зрителя, рабочих дневниках, фактах и осмыслении всей полемики вокруг фильма, должна помочь мне разобраться «кто есть кто».
Фильм «Чучело» для меня сегодня лучший тест, по которому я определяю подлинное лицо воспитателя и педагога, независимо от их деклараций. Особенно, когда читаю письма зрителей, четко разделившихся в оценке фильма…
О ПИСЬМАХ ВООБЩЕ И В ЧАСТНОСТИ
«Мосфильм». Ролану Быкову. Не можете ставить фильмы, лучше не беритесь. За «Чучелу» вас надо за решетку посадить. Чему учите детей? Как можно в наше время, в нашем Советском государстве показать безнаказанных недорослей-преступников? Бить беззащитного ребенка, девочку, пинать, издеваться. И после этого носить красный галстук как ни в чем не бывало. А учительница у Вас – бездарная баба. А при чем Вы со своей дирижерской палочкой? Как говорится, играть «отходной» обиженному старику. Даже в Ваших глазах слеза заблестела, уж больно жалко старика. А Кристина далеко пойдет, молодец девочка!!»
Быкова Т. Т. (г. Ставрополь).
Студия «Мосфильм» [1] 1
Орфография письма полностью сохранена.
[Закрыть] . «Пишут Вам Одесситы. По смотрели мы фильм «Чучело». Во первых разболелась голова, во вторых кто только создал этот фильм? Но мы знаем кто. Как могли выпустить его на экран, не дай бог попал этот фильм за границу они бы сказали вот пожалуйста советская школа чему их учит где учителя. В этом фильме две серии не показали ничиво хорошего, одни гадости, только одно хорошее, что дедушка отдал картины для музея. Вот чему научатся наши ученики как посмотрят этот фильм. Они обязательно в своей школе найдут «Чучело». Это же только подумать довели до такой степени девочку, что решила в костер прыгнуть. Неужели не было ни одного учителя или ученика, чтоб заступиться за нее, а дедушка Майор не мог пойти в школу и заступиться за свою внучку. Да этот фильм современный, но нет сейчас таких детей чтоб она допустила чтоб ее звали Чучело. Она с первого слова нестала бы ходить в школу ее задело самолюбие что ее обозвали. Так что снимать с экрана этот фильм и больше не выпускайте таких фильмов. Вы даете повод ученикам, чтобы они также вели себя в школе как эти ученики. Когда вышли из кинотеатра все пожилые люди возмущались этому фильму. И никто не одобрил. А думаю к вам на Мосфильм придут только плохие письма хорошие не придут».
Одесситы, 10 человек (без обратного адреса).
«Ролану Быкову, режиссеру. Мы знаем, что к Вам идут гневные письма по поводу Вашего кинофильма «Чучело». Мы слышим, что мамы возмущаются, говоря: наши дети не такие, а, отцы недоумевают: зачем показывать детям жестокость. А их дети говорят о героине фильма: «Ну и дура…» Люди, боящиеся посмотреть правде в глаза, обвиняют Вас в смертном грехе.
Но вы думайте о другом:
В опасные для страны времена колокол бил в набат. Его назначение было одно – привлечь внимание людей. Дальнейшее его не касалось; колокол не отвечал ни за победу, ни за поражение. Ответственность несли люди, разбуженные им. Дело колокола было – предупредить. Пока не поздно. Вы – тот же колокол. Честный художник кино».
Федорина Лидия Ильинична, хирург (Московская обл.).
«Глубокоуважаемый Ролан Быков!
Вот уже которую неделю потрясена, ошеломлена Вашим фильмом «Чучело». Люди уходили после этого просмотра молча, сосредоточенные, заплаканные, Высокая художественная правда, боль за человеческое достоинство, сила настоящего примера – все это в Вашем фильме присутствует в таком страстном, яростном ключе, что лента эта тревожит самое главное в нас самих. Это не фильм, это жизнь, это правда, сказанная в глаза, это чистое, высокое пламя. После этого фильма хочется быть лучше, чище, порядочнее духовно и эмоционально богаче. Спасибо Вам, спасибо всем, кто работал над фильмом, и, конечно же, удивительной Кристине Орбакайте, блистательно сыгравшей, нет, прожившей жизнью своей героини, своей прекрасной сверстницы».
Ник Б. О., пенсионерка, жена старого коммуниста (г. Одесса).
…Как писал сатирик Михаил Жванецкий: «А ваши письма мы пишем сами и сами отвечаем». Думая об этом, я вспоминал Александра Сергеевича Пушкина: «Но мне порукой ваша честь и смело ей себя вверяю»… Писем я храню около тысячи. Из них «ругательных» всего 49 – процент небольшой. Однако именно ругательные письма интересны – в них довольно распространенные, я бы даже сказал, обиходные точки зрения по многим сложным вопросам нашей жизни. Иногда человеку важно самому услышать, что он говорит, самому прочесть, что он пишет. Почитать – сопоставить, подумать. Я, может быть, даю этим письмам неправомерно большое место, но иначе не получится диалога. К тому же и мои «ругатели» не смогут упрекнуть меня в необъективности…
Надо договориться сразу, что никакой фальсификации писем тут быть не может. И хоть, конечно, мучает вполне понятная боязнь саморекламы, но выхода все равно нет – не подправлять же соответственно критические письма. В интересах общей драматургии буду печатать письма поровну – хорошие и плохие – и общий баланс скромности надеюсь сохранить…
«Р. Быков! С гневом и отвращением посмотрели мы фильм «Чучело». Как вам не стыдно, гнусный пасквиль, насквозь фальшивый вестерн выдавать за «произведение искусства». Я 47 лет проработала в школе, стыдно мне, что неискренний, малоодаренный человек (а я вас именно таким и считаю) взялся не за свое дело. Пошло, неестественно. Откуда этот «суд Линча»? Откуда избиение детьми друг друга! И еще: как могли вы вместе с «заботливой» экстравагантной мамашей А. Пугачевой (ей важна реклама) позволить играть такую роль маленькой, хрупкой девочке, связанную с тяжелейшими душевными переживаниями?
Не скрою, что мотивированное и исчерпывающее письмо мы (4 педагога-ветерана, из которых двое б. директора московских школ) направили в вышестоящие организации, где должны понять нас – коммунистов – ветеранов партии и труда.
И еще! Вспоминаю все Ваши выступления в кино, в частности в пошлой кинокартине с Софией Ротару, нечто «любовное», когда вы на коленях, перебирая интимные части ее туалета, умоляете петь. К счастью, фильм этот получил заслуженную оценку и в прессе и в общественном мнении.
Стыдно, отвратительно! А эта вереница мерзких типов из актерских династий (Санаевы и пр.)!
Постыдитесь. Признайтесь публично, что к/ф омерзительный, пошлый, никому не нужный! Эх вы!» Соловьева Л. В. и другие (без обратного адреса).
«Здравствуйте, уважаемый мастер!
Большое, огромное Вам спасибо за умный, благородный, мужественный фильм.
Так получилось, что сначала мне пришлось прочитать одну отнюдь не положительную рецензию на Ваш фильм. И уже затем посмотреть картину. И если Вы сомневаетесь или если Вас хотят заставить сомневаться в правильности того, что Вы сделали, пошлите всех к черту! Сначала снимают волосы, а затем голову… Лысым терять нечего. Поэтому будем, надо обязательно бороться! Бороться за нас, за наше будущее, за наших детей. Вы сделали большую, тяжелую работу. Вы поставили, нет, Вы показали нам нас самих. Спасибо Вам! Огромное спасибо Юрию Никулину. Очень радостно, что он полон сил и энергии. Спасибо ребятам за отличную игру. Впрочем, они-то как раз не играли. Они жили. Хочется верить, что в их жизни подобного уже не произойдет.
Еще раз благодарю Вас за все! От всей души желаю Вам дальнейших творческих успехов. Вы делаете огромное, доброе дело! Спасибо Вам!»
Денисов Петр, военнослужащий (г. Хабаровск).
С тех времен, когда писались изящные письма, рассылаемые в надушенных конвертах, прошли века. С той поры, когда разгневанный Иван Грозный писал свои послания предавшему его князю Курбскому, полные, как пишет академик Д. С. Лихачев, особого средневекового русского юмора, лет прошло и поболе. Но во все времена вельможи и думные дьяки, челядины и просто умеющие писать сочиняли хитроумные послания, рассылая их по множеству важных адресов. В Венеции, в знаменитом Дворце дожей, до сих пор сохранились специальные «щели» для таких писем. Они есть и со стороны улицы и в стенах между залами, внутри самого дворца. Каждый мог написать письмо и улучить момент, чтобы опустить его в щель незаметно. Но при этом существовал закон: если письмо оказалось анонимным и удавалось отыскать автора, его казнили. Эти времена ушли, но одно ясно: доносов всегда было немало – просто грамотных стало больше.
Меня поражает, отчего письма, критикующие картину, большей частью анонимные? Правда, есть письма развязные, я бы даже сказал, беспардонные – в таких случаях подписываться, может быть, и совестно. К сожалению, требование вежливости иногда происходит в форме махрового «трамвайного хамства», а призыв к доброте делается с такой злобой, что остается только настаивать на «недоброте», как на своем последнем достоинстве. Но одна подпись на подобном письме оказалась весьма интересной: «Кто писал? Неважно!.. Ивановы, Петровы, Сидоровы!» В этой надписи разгадка, тут образ: Ивановы, Петровы, Сидоровы – это уже все! Весь народ! Самая характерная черта анонима – он смело берет слово от имени всего народа, при этом трусливо скрывает свое имя, страшась ответственности.
…Сколько ни думаю о зрителе как о точке отсчета, сколько ни удивляюсь его тонкой прозорливости или, подчас, абсолютному непониманию, – все больше вижу, что он для меня загадка, головоломка, разгадать которую не легче, чем ответить на вопрос: «Почему вы поставили этот фильм?»…
ЗАГАДКА ЗРИТЕЛЯ
Так случилось, что я знал зрителя еще с довоенного времени. Довоенный зритель был совсем иным, нежели сегодняшний. Вспоминая его, старые актеры шутили: «Это был зритель, который не был еще ударен телевизионным ящиком по голове».
Не было телевизора. Если бы нам, московским мальчишкам, рассказали бы, что это такое, мы бы не поверили, решили бы, что это фантастика, как «Гулливер у лилипутов». Потому что не было не только телевизора, не было всего того, что ему соответствует. По Москве еще ходили лошади с телегами, которые грохотали железными ободьями по булыжной мостовой. И если мы, мальчишки, видели колосса на дутых шинах, которые бесшумно катили по асфальту, мы гордились страной: «Вот как быстро меняется у нас жизнь!» И мы на самом деле чувствовали, что «жить стало лучше – стало веселей».
Тогда не было еще электропроигрывателей, не было магнитофонов. Перед самой войной на улице Горького, где сейчас магазин «Подарки», появилась вывеска: «Говорящее письмо». Там можно было записать маленькую мягкую пластинку и отправить по почте в любой город. И несмотря на то, что это было почти что чудо, в ателье записи не ходили, «фирма лопнула», вывеску пришлось снять, «говорящее письмо» умолкло. Да и немудрено, в такое даже не верили. У нас на кухне говорили, смеясь, как над абсурдом: «Ой! Чего врут! Говорят, туда приходишь, у тебя берут голос и отправляют, куда хочешь!» А особенно доверчивые старушки переспрашивали: «Это, конечно, все под наркозом?»
Радиоприемники были ламповыми, громоздкими, они были редкостью. У нас в доме, например, ни у кого не было радиоприемника. На улице Горького прямо напротив телеграфа жил мой дядя, о котором мама говорила почему-то шепотом: «У них отдельная квартира», – вот у «них» был радиоприемник, и мы с братом специально ездили на него смотреть.
Новостью тех лет был патефон. Встречался он нередко, но при этом твердо считался роскошью. Сейчас большой набор благополучия – квартира, машина, дача. А в те годы это были шифоньер, швейная машинка, патефон.
Действительно! Люди брали патефон, выезжали всей семьей за город, куда-нибудь на Воробьевы горы, в Коломенское. Стелили на земле чистые скатерти, ставили самовары, пили чай и… заводили патефон. И сами слушали и другим вокруг, у кого не было патефона, давали слушать. Пластинки – это было главное! Утесов, Русланова, Шульженко, Ляля Черная, Вадим Козин. Патефон – это к тому же танцы. Танцы входили в моду – фокстрот, танго. Девочки по секрету учили мальчиков. Кто учил девочек, для меня до сих пор остается тайной, тем более, что эти танцы считались не вполне разрешенными, и не было полной ясности, можно их танцевать или нет. Танцплощадки еще только начинали разворачивать свои возможности, и практически их не существовало. Танцевали дома, в комнатках (отдельная квартира была большой редкостью).
Вот у нас было 13 кв. метров жилой площади – папа с мамой, я с братом, вся наша мебель – и гостей набивалось человек 20–25. Как помещались? Сейчас не знаю, но было весело, и были танцы, и танцевали даже вальс, и были «танцы до упаду». Но самым любимым для всех было тогда кино! Достать билеты, особенно в выходные и праздничные дни, было трудно. Если мужчина в выходной день доставал билеты в кино для всей семьи, он неделю ходил в героях. За билетами отправлялись компаниями, брали двоих-троих покрепче, а то к кассе подойдешь, да тут-то тебя и вытолкнут.
И надо себе представить, что было со мной, когда прибежала ко мне моя четырехлетняя подруга, которая имела на мою жизнь решающее влияние (потому что мне было тогда тоже около четырех), и сказала:
– Бежим! Там записывают всех, кто хочет смотреть кино бесплатно и сколько угодно!
Я так кинулся бежать, что она меня и догнать-то не могла, она бежала сзади и только всхлипывала:
– Подожди! Ну подожди!
Только в четыре года можно вот так верить в счастье, достаточно вовремя добежать, тебя за-
пишут и все твои желания исполнятся. Важно только, чтобы записали! Но, увы, когда мы прибежали, оказалось, что записывают в самодеятельность, выступать на детских утренниках в выходные дни. Никаких шансов у нас, маленьких, попасть в этот список не было. Подруга моя откровенно, в голос, рыдала, утирая слезы подолом, Я, как мужчина, естественно, едва сдерживался. И тогда женщина, которая записывала, чтобы показать нам всю несостоятельность наших претензий, строго спросила меня:
– А что ты умеешь делать?
– Я ничего не умею делать! – закричал я, ничуть не смутившись. – Я хочу кино смотреть бесплатно, сколько угодно!.. – И с ходу добавил: – с Ней!
Подруга тут же поддала реву, чтобы сразу стало ясно, что без нее никак нельзя. Женщина, поняв всю сложность моего положения, спросила:
– А ты стихи знаешь?
– Знаю! – ответил я, став вдруг въедливым и непреклонным. – Мама учит.
– А не испугаешься стихи со сцены рассказать? У нас как раз сейчас концерт идет.
Ах, этот знаменитый вопрос взрослых: «А не испугаешься?» Довольно подлый вопрос! Потому что, во-первых, сразу пугаешься, оттого что даже не знаешь, чего надо бояться, а во-вторых, понимаешь, что ты теперь непременно должен ответить, что нет, не испугаюсь. Я и сказал:
– Нет, не испугаюсь!..
Женщина взяла меня на руки, понесла по каким-то коридорам, лестницам и вынесла на сцену. Она поставила меня на стул, чтобы меня было видно, и громким голосом объявила мое имя.
Как только зритель услышал мое имя, все стали хохотать. Из зала переспрашивали:
– Как? Орлан?
– Рларлан?
– Тарларлан?
Зритель тогда не считал, что актер на сцене должен говорить, а он, зритель, молчать. Почему? На сцене могли говорить свое, в зрительном зале – свое, могли обмениваться мнениями, поговорить «на любую тему». И если актер что-либо спрашивал у своего партнера на сцене, ему вполне могли ответить из зала. Надо мной хохотали. Я обиделся, но сдержался. У меня все-таки был шанс – меня могли записать кино посмотреть бесплатно и сколько угодно. Я даже помню, что я читал:
Ходят волны кругом – вот такие!
Вот такие большие, как дом.
Мы, бесстрашные волки морские,
Смело в бурное море идем!
Я очень старался и поэтому споткнулся о первые же слова: «Ходят волны кругом – вот такие!» И вдруг подумал: «А какие они – такие»? Ведь если я говорю «такие», я же должен показать – «какие»!» А волн к тому времени я еще не видел… «Большие, как дом» я показал легко, просто встал на цыпочки и потянулся руками вверх, как делают зарядку. Но как, думаю, волков-то показать? Я даже не знал, что «волки морские» – это имелись в виду матросы. Я думал, что это настоящие волки, только какие-то такие – «морские». Я сделал зверское лицо, ощерил зубы и всем телом стал изгибаться, как червяк.
– Мы, бесстрашные волки морские! – зарычал и запел я одновременно.
Зрители стали умирать со смеху! Тут я не выдержал, слез со стула и, обращаясь к женщине, которая записывала и которую поэтому я считал главной, стал показывать пальцем на зрителей и кричать:
– Я не буду говорить стихов! Они надо мной смеются! Нельзя смеяться над человеком! – Я где-то слышал эти слова, и они мне очень нравились.
Как только зритель из моих уст услышал: «Нельзя смеяться над человеком!» – все стали хохотать до слез… Женщина снова взяла меня на руки, снова поставила на стул и успела шепнуть добрым голосом:
– Продолжай, у тебя хорошо получается.
Когда человеку в четыре года говорят добрым голосом, он же верит! Я смотрел на зрителя и думал: «Они с ума сошли – они так хохочут, что могут не услышать, как у меня замечательно получается». И тогда я принялся орать стихи дурным голосом.
Зрители стали хохотать еще громче. Тогда я стал орать благим матом. В зале засмеялись еще пуще, это уже был не смех, а стон… Несмотря на это, я доорал стихотворение до конца, слез со стула и ушел за кулисы. Мне аплодировали. Женщина сказала:
– А теперь надо идти кланяться…
Тут я обиделся окончательно, даже слезы на глазах выступили, и сказал: «Не пойду кланяться!» Я знал, что кланяться – унизительно, что это стыдно. У нас во дворе, когда ругались, часто говорили:
– Что я тебе буду кланяться, что ли!
И поэтому я, готовый заплакать, почти кричал:
– Не пойду кланяться!
И вот тут моя подруга четырехлетняя, имевшая на меня все-таки решающее влияние, своим противным голосом, которого я не выдерживал и готов был сделать все, что угодно, лишь бы она перестала, заныла:
– Ну, иди-и-и-и-и-и-и!.. Тебе же говоря-а-а-а-а-а-а-т!
И я пошел кланяться!.. Но, к сожалению, забыл спросить, как это делается. А когда вышел на сцену, вдруг вспомнил, как кланялась бабушка, когда молилась. Стал я на колени – и давай кланяться.
Зал положительно рухнул от хохота. А я кланяюсь и думаю: «Чего же я не спросил, долго нужно кланяться или нет?» Посмотрю в кулису – они смеются, и женщина, которая записывала, и моя подруга. Думаю: раз смеются – нужно еще кланяться… Зритель уже плачет от смеха, люди не выдерживают, на пол садятся, а я все кланяюсь, и кланяюсь, и кланяюсь… Так я кланялся, пока не стукнулся лбом об пол. Гулко прозвучал удар – все даже ахнули. Тогда я встал на ноги и сказал:
– Все! Хватит! – и ушел со сцены.
После этого я получил прозвище «Ромка-артист». А прозвище для человека в четыре года – это уже должность! Тут никуда не денешься, артист – и все! Я вырос в большой московской коммунальной квартире, такой большой, что сейчас самому даже не верится, что когда-то такие квартиры были. У нас было 43 (!) комнаты при одной кухне. Как говорится: есть что вспомнить! И эти 43 комнаты стали моими 43 театрами, потому что не было дня, чтобы не открылась какая-нибудь из дверей и кто-то не говорил бы «по-свойски»:
– Ну-ка, артист, заходи! Давай! Чего-нибудь изобрази, расскажи, спляши, спой!..
И я пел, плясал, рассказывал. Меня гладили по голове, говорили, что я молодец, иногда за работу давали даже поесть. Вот так, можно сказать, и по сей день. Так что я рано стал «профессионалом». Но если всерьез, то слово «артист», которое с того времени прилипло ко мне, стало проклятием всего моего детства и даже отрочества, оно преследовало меня повсюду, ранило меня, настигало неожиданно, иногда превращая все радости детства в ад. Когда жаловались на меня маме, обязательно говорили:
– Твой арти-и-ист-то! – и почему-то всегда прибавляли: – С погорелого театра!
Когда я встречался со сверстниками в глухих углах нашего двора, то всегда, еще до выяснения отношений, слышал:
– Ну ты, артист!
Душа леденела, столько это слово вмещало презрения и ненависти, и я бросался на обидчиков.
А уж когда подрос, как досадно было в ответ на искренность услышать от сверстниц полное игривого девичьего недоверия:
– Ой-ой-ой!.. Ну ты и артист!..
Родственники приезжали, дяди, тети, что-нибудь рассказываешь, доказываешь, даже плачешь, а в ответ над тобой смеются:
– Вылитый артист! Вылитый! Ох, артист!..
Это было мукой… Я был «чучелом»! Если бы я тогда знал, что пройдут годы, и я пойму, что, может быть, я никогда не бываю так искренен, как именно в тот момент, когда я артист. Прикрытый ролью, как маской на маскараде, я могу пойти на такую искренность, какая, может быть, и непозволительна в жизни. Я могу рассказать все самое сокровенное о своих любимых, и никто не скажет мне, что это нескромно. Я могу с беспощадностью все поведать о своем враге, и никто не упрекнет меня в том, что я неблагороден.
Однако думаю, что если бы тогда, в детстве, я так не настрадался от этого слова «артист», я бы, может быть, никогда так остро не чувствовал внутренней необходимости полного доверия ко мне зрителя. И сегодня я даже думаю, что без той детской муки не пришел бы ко мне фильм «Чучело» с его взрослой болью и детской правдой…







