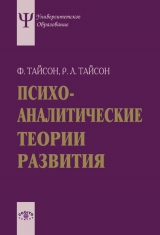
Текст книги "ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ"
Автор книги: Роберт Тайсон
Соавторы: Филлис Тайсон
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Блос (1967) описал основные задачи объектных отношений в отрочестве как процесс «вторичной индивидуации», который включает в себя два взаимопереплетенных процесса – отделение и отказ от родителей как главных объектов любви и нахождение заместителей вне семьи. Катан (1951) называет это высвобождением и «перемещением объектов». «Отказ» также требует, чтобы подросток отказался от родителей (прошлого и настоящего) как от властных фигур. Хотя два эти процесса отчетливо переплетены, мы будем обсуждать здесь первый из них и отложим полное обсуждение второго до тех пор, пока не дойдем до развития Суперэго.
Важнейшим аспектом процесса вторичной индивидуации является деидеализация репрезентаций родительских объектов, сформированных в более ранние годы детства, возможно, десять или более лет тому назад. В то время мыслительные процессы ребенка были эгоцентрическими, и он воспринимал родителей как чудесных и идеальных фигур вследствие той центральной позиции, которую они занимали в его жизни. Даже когда он держится за идеальный образ этих всецело любящих, все исполняющих идеальных инфантильных объектных репрезентаций, подросток резко критикует своих родителей, которых он склонен рассматривать теперь как неадекватных, приносящих разочарование и несправедливых людей. Возникающий в результате внутриличностный раздор заставляет подростка ощущать потерю внутренней поддержки и чувство опустошенности, сопровождаемые ощущением болезненного отчуждения и объектного голода.
Подросток поворачивается к своим сверстникам вследствие своей потребности во взаимоотношениях для удовлетворения влечения, для освобождения от чувства опустошенности и для укрепления чувства собственного достоинства, по мере его продвижения вперед к психической независимости. Группа сверстников обеспечивает неосуждающую поддержку, когда подросток пытается разрешить внутренние конфликты, связанные с ранними инфантильными объектными связями. Нюансы в отношениях сверстников и в групповых взаимоотношениях обладают «тренировочным» качеством, так как близкие отношения, устанавливаемые в это время, не требуют постоянной связанности; подросток свободен поэтому экспериментировать с другими людьми и с самим собой в новых ситуациях с возрастающим чувством независимости. Эта независимость сохраняет «условность» до тех пор, пока подросток не сможет прийти к согласию с идеализациями своих родителей. Взаимоотношения с группой ровесников также могут быть изменены, когда чувства романтической любви приводят пару, которая сохраняет это взаимоотношение, к смещению части своей агрессии на эту группу (Kernberg, 1980b, стр. 33).
В виде некоего вторичного сближения подросток пытается разрешить ранние инфантильные связи. Служа прогрессивным целям, регрессивное возрождение инфантильных объектных взаимоотношений может возбудить напряженность амбивалентности, напоминающую первоначальную фазу воссоединения. Блос (1967) отмечает, что возрожденная амбивалентность характерным образом создает у подростка массу лабильных противоречий в аффектах, импульсах, мыслях и поведении. Колебания между крайностями любви и ненависти, активностью и пассивностью, мужественностью и женственностью, очарованностью и отсутствием интереса, регрессивным стремлением к зависимости и стремлением к независимости целиком соответствуют данному возрасту. Поэтому следует понимать характерный негативизм подростка не только как выражение враждебности, но и как необходимое средство защиты Эго от «пассивной капитуляции» (A. Freud, 1958), давая ему возможность сделать необходимый шаг в процессе индивидуации.
В пятнадцатилетнем возрасте Жан вызывал озабоченность своих родителей вследствие явно выраженного интереса к наркотикам, открытого неповиновения их власти и все ухудшающейся успеваемости, несмотря на присущий ему высокий уровень интеллекта. Когда они условились с психиатром о встрече для обследования, он убежал из дома, и его не могли разыскать в течение нескольких дней. Отец Жана, наконец, обнаружил его спящим на дереве в глубине двора. К удивлению родителей, он позволил им сопроводить себя к психиатру. Он приходил на последующие сессии и по мере развертывания аналитической работы уяснил, что хотел самостоятельно решать, когда приходить и по каким причинам. Он не рассказал своим родителям о своих все более тяжелых ночных кошмарах и о приступах тревожности, по поводу которых он искал помощи, но относительно которых также полагал, что должен быть в состоянии справиться с ними самостоятельно.
Подросток также воспринимает себя как несовершенного, что приводит его к переоценке собственного идеального образа себя. Часто возникает болезненная внутрипсихическая борьба между соревнованием с идеализированным образом родителя и не столь совершенным образом себя в ходе процесса деидеализации. Один семнадцатилетний подросток рассказал о том, как он писал сочинение. «Вначале слова приходили легко, но затем вошел отец (профессор колледжа); он может писать так чудесно! Затем я начал злиться все сильнее и сильнее; я ненавидел его! С сочинением ничего не получалось – я не мог его закончить!» Относительно данного процесса Блос пишет: «Действительно, я склонен полагать, что процесс деидеализации объекта и себя представляет собой крайне тяжелый и мучительный аспект взросления» (1979, стр. 486).
В той мере, в какой подросток способен отличать всемогущие идеализированные объектные репрезентации своего младенчества от своих реальных родителей, он будет также способен устанавливать «дружеские» уважительные отношения со своими родителями и все же ощущать себя независимым от них. Ранние идентификации с родителями, которые формируют основу Суперэго, утрачивают затем часть своей значимости и влияния, и подросток теперь может отождествлять себя с отдельными аспектами своих родителей, и, делая это, он видоизменяет идеальный образ себя в нечто более реалистичное. Однако, эти идентификации связаны в большей мере с Эго, чем с Суперэго. Действительно, как заметил Фрейд: «К тому времени, когда Эдипов комплекс уступает место Суперэго, они (родители) являются чем-то очень величественным; но, впоследствии, они утрачивают большую часть этого великолепия. Затем также происходит идентификация с родителями в более поздний период, и, действительно, они постоянно вносят важный вклад в формирование характера; но в этом случае они воздействуют лишь на Эго, не оказывая более влияния на Суперэго, которое было определено самыми ранними родительскими образами» (1933, стр. 64).
Нам кажется, что часто недооценивается важное значение процесса вторичной индивидуации. Жалоба взрослого человека на то, что его родители были не отвечающими требованиям и неэмпатическими людьми, когда он был ребенком, часто отражает его неудачу деидеализировать инфантильные объекты, и, таким образом, завершить подростковую индивидуацию. Как только этот процесс завершен, обычным путем или с помощью психотерапевтического вмешательства, человек часто начинает воспринимать своих родителей как «достаточно хороших», или, по крайней мере, начинает проявлять некоторую терпимость к их недостаткам.
Процесс индивидуации или освобождения от инфантильных объектов может растянуться до конца отрочества и до ранней стадии зрелых лет. Если этот внутренний процесс успешен, он постепенно уменьшает болезненную амбивалентность предэдипальных и эдипальных объектных связей, и возникает прогрессирующее, более зрелое, взаимоудовлетворяющее отношение со своими родителями. В то же самое время человек устанавливает новые, более удовлетворительные и стабильные внесемейные любовные взаимоотношения, и, так как развивается его способность к зрелой любви и близости, он может разделять глубоко прочувствованную эмпатию с друзьями и любимыми. В лучшем случае, любовные взаимоотношения, в конечном счете, обеспечивают контекст, в рамках которого человек может ощущать независимость и взаимность, а также глубокое сексуальное удовольствие (Erikson, 1959; Kernberg, 1974a, 1974b, 1977, 1980b, 1980с; Person, 1988). Хотя другие факторы также играют свою роль, окончание отрочества в значительной мере зависит от той степени, в которой можно примирить и интегрировать с требованиями реальности конфликты, несовместимость и привязанность объектных отношений человека. Блос называет этот период «закрытием отрочества».
РезюмеХод развитие объектных отношений является полезным и обогащающим, хотя временами и болезненным. Самые ранние фазы этого процесса все еще недостаточно изучены, так как, несмотря на обширные исследовательские усилия, мы все еще можем лишь догадываться о том, что происходит в голове младенца. Однако, принимая во внимание открытия эволюционного исследования, мы обозначили первую фазу как «первичное взаимодействие», а вторую – как «начало диалога». Затем мы описали подфазы разделения – индивидуации, движущие силы, приводящие к эдиповыми триадическим объектным отношениям, и их причастность к развитию Эго и Суперэго. При обсуждении превратностей объектных отношений в течение латентного периода и отрочества мы описали обязательные чередования, модификации и пересмотры объектных отношениях, которые являются неотъемлемой частью подросткового развития.
Глава 7
Развитие чувства собственного «я»
Как обсуждалось ранее, начинающиеся при рождении взаимодействия с окружающими ведут к формированию и дальнейшему развитию внутрипсихических структур. При этих же взаимодействиях возникает и субъективное чувство собственного «я». В этой главе мы будем говорить о последовательных шагах в эволюции субъективного чувства собственного «я».
Исторические предпосылкиКонцепции таких понятий как непосредственый смысл «я», самопредставление и «я» как структура, соотносятся с частями структурной модели сознания (Ид, Эго, Суперэго) были объектами психоаналитического интереса и обсуждения. Кохут (1971, 1977), концептуализировавший развитие в терминах структуры «я», утверждает, что «я» окружает составные части структурной модели и является их суперординатой. Сходное мнение и у Штерна (1985), считавшего, что центром психоанализа, независимо от изучения Эго, следовало бы считать изучение развития субъективного восприятия собственного «я». Он утверждает, что чувство собственного «я» – главный организующий фактор развития.
Напротив, некоторые авторы доказывают, что отдельная теория для развития «я» неоправданна, поскольку появление чувства собственного «я» – это часть разделительно-индипидуационного процесса и вполне адекватно отражена в теории объектных отношений (например Loewald, 1973; Mahler и MacDevitt, 1980; MavDevitt & Mahler, 1980). Другие добавляют, что и само эмпирическое чувство собственного «я» и не основанная на опыте психическая структура, содержатся в концепции Эго, и что существенно интегрированное чувство собственного «я» развивается вместе с развитием Эго.
Исторически этот спор возник из попыток понять нарциссизм в рамках структурной теории (Hartmann, 1950). Главным стимулом была необходимость объяснить страдания пациентов с такими отклонениями, которые сейчас называют нарциссическими и пограничными расстройствами организации личности. Основополагающее утверждение Фрейда о нарциссизме не вполне устраивало его самого. «Мне оно не особенно нравится, но в данный момент это лучшее из того, что я могу предложить» (Abrahan & Freud, 1965, стр. 167). «Я чувствую, что оно не вполне адекватно» (стр. 170-171). Эта неудовлетворенность, по-видимому, была основана на том, что существовало два уровня абстракции в использовании этого термина. Первый лежал в основе метапсихического интереса и относился к энергетическому размещению «я». Второй относился к множеству психологических явлений и способов поведения. Пулвер указывает, что энергетического аспекта в психоаналитической концепции касались тогда, когда затрагивалась область специфических явлений – сексуальные извращения как главный источник сексуального удовлетворения, стадия развития, тип изменений объекта (так, например, основанный на некотором аспекте или желанном аспекте «я»), способа отношения к окружающему миру и аспектов самоуважения – к чему-то более общему, например, любви к самому себе. Другими словами, «чувственная любовь к самому себе существует как основополагающая мотивация определенного поведения, которое не является открыто чувственным» (1970 стр. 321).
В топографической теории (как обсуждалось в пятой главе) термин Фрейда das Ich, переведенный как Эго, скорее относится ко всей персоне в смысле переживавмого субъективного чувства собственного «я», а не как к исключительно психологической системе, как это будет подразумеваться позднее. Связь между акцентом на нарциссизме и современным психоаналитическим интересом к «я» была установлена Хартманном (1950), который, попытавшись понять патологию нарциссизма согласно структурной модели, определил различия между Эго и «я». Он уточнил, что ссылку Фрейда на нарциссическое размещение Эго, следовало бы понимать как размещение воспринимаемого «я», а не размещение невоспринимаемого Эго как системы. Это разделение привело к сдвигу акцента с Эго в структурной теории к сознанию, и, в конечном итоге, к структуре «я».
Несмотря на семантические и концептуальные трудности, вопросы о природе бытового осознания себя остается жизненно важным. В истории психоаналитической мысли существовали различные концепции «я». В теориях «альтернативных школ психоанализа», включая Адлера, Юнга, Хорни и Салливана, они играли центральную роль. Используемые этими теоретиками определения «я» или «самости» имеют много общего с «субъективными, творческими, эмпирическими аспектами души». (Ticho, 1962). Эти субъективные, эмпирические аспекты пробуждают все больший интерес в связи с недавними исследованиями наблюдаемых стадий у детей.
Основные элементы понятия «я»Для концептуализации появления понятия «я» существует несколько приемлемых схем, каждая из которых подходит к этой проблеме со своей стороны. Лихтенберг, например, утверждает, что развитие осознания собственного «я» происходит в четыре этапа. На первом, до самодифференциации, формируются «острова бытового опыта». На втором, более упорядоченные группы представлений о себе срастаются. На третьем этапе эти телесные представления о себе (представления о себе относительно отдаленных объектов) и грандиозные «я»-образы постепенно интегрируются в связанное «я», которое на четвертой, финальной фазе развития, упорядочивается и фокусируется на психической жизни, что отражается в функционировании Эго (1975). Штерн намечает четыре последовательно появляющихся «осознания „я“», каждое из которых соответствует «области» межличностных отношений (1985). Малер и МакДевитт проследили появление осознания личности и ее постоянства относительно практики диады мать – дитя и процесса разделения – индивидуации (1980). Кохут сосредоточил внимание на способе, с помощью которого Я-объект через интернализации кристаллизуется в содержащее ядро структуру «я» (1971, 1977). Кернберг также рассматривал «я» как структуру; он в деталях описал пять стадий развития структуры «я», включая стадии интеграции «хорошего» и «плохого» «я» и объектных представлений (1976).
Мы полагаем, что детское формирование интегрированного или взаимосогласованного чувства собственного «я» – процесс длительный, последовательный в своем развитии и отражает синтезирующие и интегрирующие функции Эго. Поэтому мы сосредоточимся на субъективном чувстве «я», а не на «я» как структуре. Соответственно наше объяснение развития чувства «я» организовано в рамках постепенной интеграции различных видов бессознательного, предсознательного и сознательного практического переживания «я» и связанного с ней самопредставления. Для эвристических целей мы классифицируем эти опыты в терминах развития телесных ощущений, опытов восприятия себя и других и спектра эмоциональных переживаний.
Ощущение тела в первую очередь связано с биологическими потребностями и поддержанием состояния. Такие действия как сосание, голод, насыщение и чувства, связанные с ними, а также циклы сна – бодрствования формируют основной пласт жизненного опыта «я». Одновременно расширяется область ментальных впечатлений ребенка о собственном теле, у него появляется примитивное сознание о границах собственного тела и большая легкость в управлении им (координация глаз – рука – рот, переворачивание, ковыляние и т. п.). Фрейд считал, что появление способности различать границы тела вследствие синтеза различных телесных переживаний было результатом раннего функционирования Эго и означает одну из ранних стадий в осознании «я»; следовательно, он ссылается на телесное Эго[8]8
Возможно, более удачным переводом было бы «телесное „я“», поскольку Фрейд, очевидно, ссылался на часть аспекта das Ich, а не на Эго, как психологическую структуру.
[Закрыть]. Представления о теле и интерес к нему остаются центральными аспектами переживаний «я» на всю жизнь. Болезни, медицинское или хирургическое вмешательство, рост тела, его изменение – все это вызывает ряд сознательных и бессознательных фантазий, волнений о проблемах тела и может играть центральную роль в патологии. К тому же самооценка часто частично зависит от того, соответствует или нет осознаваемый образ тела желаемому образу тела: «собственное тело личности, и, прежде всего, его внешний вид, является тем местом, откуда могут вытекать и экстернальные и интернальные восприятия» (1923а, стр. 25).
Переживания «я» в отношении постепенно отделяемого объекта также вносит вклад в субъективное чувство «я». В своих ранних работах Шпитц подчеркивал, что каждый ребенок может существовать только в контексте взаимоотношений с матерью или няней. Винникотт писал: «Не существует такой вещи как ребенок» (1952). Более тридцати лет назад Малер начала изучение способов взаимодействий ребенка с матерью и вклада, который они вносят в появление чувства собственного «я». Результатами этой работы стали концепции «вылупления» (Mahler & Gosliner, 1955), диалог «взаимными намеками» и детская потребность в «подзаправке» (Mahler, 1975), «социальные отношения» и чувство «мы» (Emde, 1983), межсубъектные связи или «постепенное, шаг за шагом, разделение распознавания событий и вещей» (Stern, 1985, стр. 128). Все эти концепции подтверждают важность эмоционального окружения взаимодействия матери и ребенка для появления детского чувства собственного «я». В современных исследованиях детально изучена тщательная разработка детской предадаптации для последующего участия в человеческих взаимоотношениях. Поэтому телесная практика напрямую зависит от действий ухаживающего за ребенком лица. Через реальную, познанную на собственном опыте практику физических контактов в период взаимодействия матери и ребенка, ребенок быстро выучивает, что при взаимодействии с матерью он ощущает удовольствие и безопасность. Познания на опыте границы собственного тела – в данном случае, их ментальное представление – способствуют тому, что у ребенка появляется более упорядоченное представление об окружающих его объектах и о себе, взаимодействующим с объектами. Эти, установленные во время взаимодействия, паттерны вносят вклад в чувство неразрывности на протяжении всего развития, так как они реактивируются в личностном контексте на протяжении всей жизни.
Аффективно-значимые переживания, первые удовольствия и неудовольствия и затем последовательно-дифференцированные раздельные эмоции вносят следующие изменения в чувство «я». Аффективные переживания являются центральными в практике взаимодействий и телесной практике. Они помогают при ухаживании за младенцем – например, плач ребенка сигнализирует матери, что он нуждается во внимании. На основе приятных и неприятных переживаний ребенок изучает свое тело и со временем учится контролировать свои ощущения. На основе межличностных взаимодействий медленно формируется область таких положительных эмоций как радость или интерес. Они в свою очередь, помогают создавать стимулы для социального взаимодействия, исследования и обучения, а также способствуют появлению представления об идеальном состоянии эмоционального существования (Joffe и Sandier, 1967). Соответственно, это желательное состояние зависит от наличия объекта, который рассматривается как идеал. Желание поддерживать такие идеальные взаимоотношения постеленно приводит ребенка к интернализации или к построению значимых внутренних правил и стандартов. Это обуславливается тем, что для ребенка становится значимым, что одобряется и что не одобряется.
Со временем это идеальное эмоциональное состояние начинает зависеть от внутреннего идеала (Эго—идеал, часть Суперэго). Поддерживание самооценки зависит от функционирования Суперэго, так как уровень самооценки отражает степень приближения «я» к идеалу.
Важность аспекта аффективных переживаний «я» подчеркивалась у Шпруэлла (1975) и Эмди (1983, 1984), которые описали биологически обоснованное «аффективное „я“» или «аффективное ядро». Это эмоциональное ядро обеспечивает непрерывность в нашем развитии, несмотря на различные изменения. Это также усиливает межличностные взаимодействия, ибо это «гарантирует, что мы в состоянии понимать других людей» (Emde 1983, стр. 180).








