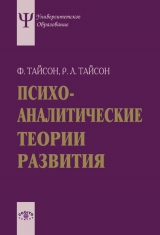
Текст книги "ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ"
Автор книги: Роберт Тайсон
Соавторы: Филлис Тайсон
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
В той степени, в которой ребенок формирует объединенное в единое целое представление о матери, которое может функционировать для обеспечения комфорта и поддержки в отсутствие матери, позволяя ребенку быть менее зависимым и функционировать отдельно от матери, мы можем говорить о том, что ребенок достиг некоторой степени либидного постоянства объекта. Для достижения этой степени внутренней безопасности ребенок должен разрешить конфликты между своими желаниями и запретами со стороны матери и уметь терпеть амбивалентность. Тогда его любовные и сердитые чувства на ее счет становятся надежно контролируемыми ее целостной репрезентацией (McDevitt, 1975). Теперь он может лучше смягчать и выносить разочарование и ярость, так как его фрустрирующие переживания нейтрализуются воспоминаниями о матери, приносящей удовлетворение, любовь и поддержку.
Если это представление можно удержать, даже когда ребенок сердит или фрустрирован, оно начинает приобретать новую функцию. То есть, позитивное качество образов, вызываемых психической репрезентаций матери, берет на себя функцию успокоения, и ребенок, идентифицирующийся с оказывающей поддержку матерью, лучше способен успокоить себя (Furer, 1967). Функционирование Эго прогрессирует, потому что ребенок, вместо того, чтобы подпадать под интенсивность своих аффектов, теперь обретает способность регулировать себя, вне зависимости от того, появится мать немедленно или нет. Это происходит потому, что часть интегрированного образа матери включает в себя ожидания относительно ее поведения – такие как ее регулирующие и успокаивающие отклики на его расстройство. При внутренней доступности такого представления, ребенок не столь зависим от физического присутствия матери и может стабилизировать свое функционирование (Pine, 1971). Малер обнаруживает начала такого свершения на третьем году жизни, но подчеркивает, что оно простирается за пределы этого возраста; оно никогда не быть полностью завершено.
Именно в этой области применима идея Кохута о я-объектах: мы на протяжении всей своей жизни доверяем другим людям, чтобы обеспечить себе покой и любовь и, таким образом, сохранить внутреннее ощущение благополучия. Мы не думаем, что Малер хотела выдвинуть предположение о том, что достижение либидного постоянства объекта означает, что человек может уютно жить в полной изоляции от других людей. Скорее, наши отношения с важными для нас людьми становятся более терпимыми и зрелыми. Действительно, Пайн (1974) отмечает, что люди на протяжении всей своей жизни претерпевают изменение в способности получать успокоение от внутреннего воспоминания или образа объекта, заменяющего потребность в контакте с реальным объектом ради успокоения и удовольствия. Пайн добавляет, однако, что данная репрезентация может отражать одновременно желание и реальность. Таким образом, внутренний объект может быть потенциально лучше, чем реальный объект, и поэтому может функционировать в качестве важного внутреннего регулятора сильных страстей и ярости, а также чувства собственного достоинства.
Эволюционная значимость постоянства либидного объекта заключается не только в том, что ребенок сможет интегрировать свои любящие и обожающие суждения о матери со злыми и враждебными суждениями о ней; она заключается также и в том, что ребенок вновь обретает уверенность в том, что их любящее взаимоотношение будет продолжаться, несмотря на краткие разлуки или временные вспышки гнева или негодования. Другими словами, ребенок может поддерживать константное взаимоотношение с матерью, несмотря на превратности фрустрации и удовлетворения, которые возникают в ходе развития (Burger and Edgaimbe, 1972). Теперь ребенок переходит от почти исключительно сосредоточенного на самом себе, требовательного, цепляющегося поведения к способности участвовать в более зрелых, взаимоотношениях, которые определяет Эго и для которых характерны привязанность, доверием и некоторое (хотя и ограниченное познавательной незрелостью) уважение к интересам и чувствам других людей.
Развитие либидного постоянства объекта обычно сопровождается достижением некоторой степени постоянства собственного «я» – то есть, способностью поддерживать объединенную в единое целое репрезентацию собственного «я», охватывающую все аффективно окрашенные представления о собственном «я». Этот шаг усиливается и упрочивается посредством возрастания способностей Эго к контролю над импульсами и к саморефлексии, которые дают ребенку большую степень самоконтроля и удовольствия от него.
Этот шаг обычно также вызывает гордость и подкрепление со стороны матери, усиливая у ребенка ощущение, что его любят.
Ранняя роль отцаХотя наша дискуссия до сих пор сосредоточивалась на взаимоотношениях ребенка и матери, мы не имели при этом в виду, что отец и другие члены семьи не играют важной роли. Различные исследователи описывают, каким образом отец содействует процессу я-объектной дифференциации в первый год жизни (Loewald, 1951; Mahler and Gosliner, 1955; Авеlin 1971, 1975). Педерсон и Робсон (1969) открыли, что младенец различает отца и мать, и различимая привязанность к отцу явно заметна, по крайней мере, к восьмимесячному возрасту. Бурлингем (1973) и Йогман (1982) заметили определенные отличия в том, как отцы и матери играют со своими младенцами, а также в том, как они держат на руках мальчиков и девочек. Отцы в целом склонны более активно играть со своими младенцами. Крамер и Актар (1988) подчеркивали позитивную выгоду, которую это имеет для начинающего ходить ребенка; в определенных пределах, стимулирующее воздействие физической удали дает начинающему ходить ребенку возможность большего осознавания частей тела и телесного «я». Херцог (1980, 1982) полагает, что другая важная роль отца заключается в том, что он помогает младенцу развить способность модулировать агрессию. Отсутствие или потеря отца во время первых восемнадцати месяцев жизни может содействовать поведенческим и аффективным расстройствам, которые не сразу можно распознать. Отец также играет важную роль, помогая начинающему ходить ребенку разрешать конфликты фазы практики. В качестве менее «заряженного» объекта, отец может стать посредником между начинающим ходить ребенком и матерью, обеспечивая дополнительную «дозаправку» в периоды разочарования, а также может служить в качестве дополнительного объекта для идентификации. Действительно, ранние признаки идентификации с отцовскими моделями поведения явно проявляются в возрасте около восемнадцати месяцев (Mahler и др., 1975). В ходе продолжения развития ребенок отождествляется как с матерью, так и с отцом.
Лишь сравнительно недавно были предприняты прямые, являющиеся результатом наблюдения, исследования отец – ребенок (например, Gunsberg, 1982), и было исследовано влияние отсутствия отца (например, Neubauer, 1960; Herzog and Sudia, 1973; Herzog, 1980; Wallenstein and Kelly, 1980; Burger, 1985; Wallenstein and Blakeslee, 1989). Пруэ (1984, 1985, 1987) сосредоточил свое внимание на целых семьях с воспитывающим отцом и работающей матерью; он обнаружил, что в стрессовых обстоятельствах дети склонны вначале обращаться к своим отцам, что указывает на то, что «главным объектом репрезентации» (Maler, 1961, стр. 334) в этих семьях был скорее отец, чем мать. Даже хотя основным присматривающим за ребенком лицом был мужчина, по всей видимости, у исследуемых детей не было каких-либо затруднений в родовой идентичности или в роли полов. Признаки эдиповой вовлеченности типично появлялись у этих детей во всех отношениях достаточно поздно; расстройства в развитии или психопатология были мягкими или отсутствовали. Ламб (1981, 1984) сообщил о социальных изменениях в образцах семьи и о тех многочисленных возможностях, которые они обеспечивают для сдвигов в традиционных контактах детей с родителями в процессе своего воспитания; мы только начинаем узнавать внутрипсихические последствия.
Стадия триадных объектных отношенийДо этого момента мы рассматривали диадные объектные отношения. Теперь, когда исследователи стали уделять больше внимания ранним взаимоотношениям отца с младенцем, мы пришли к более ясному пониманию того, что младенец способен одновременно устанавливать связь с разными людьми. Однако, когда маленький ребенок достигает инфантильной генитальной фазы и озабочен генитальными импульсами, объектные отношения становятся более сложными.
Во время ранней части инфантильной генитальной фазы, объектные отношения остаются диадными, и внимание ребенка в связанных с объектами взаимодействиях сосредоточено на нарциссических источниках. Ребенок идеализирует родителя своего пола и ищет близкой, любовной привязанности к этому родителю; эта привязанность превосходно содействует формированию у ребенка тех идентификаций, которые способствуют усилению чувства мужественности или женственности. Теперь ребенок ищет особого отношения с каждым родителем; то есть, он пытается быть центром внимания, чтобы получать похвалу и восхищение за свои появляющиеся мужские или женские характерные черты. И поэтому он путается под ногами и соревнуется с тем или другим родителем или членом семьи, чтобы заслужить этот статус и восхищение.
Прогресс в родовой идентичности включает в себя установление половой идентификации, в соответствии с которой ребенок обычно желает иной роли в отношении с родителем противоположного пола; вместе с давлением от влечений инфантильной генитальной фазы, этот шаг обычно ведет к сдвигу в объектной соотнесенности. От диадной соотнесенности ребенок переходит к триадическим объектным отношениям, так как становится вовлечен в Эдипов комплекс. (Движущие силы эдипальной фазы более полно описаны в седьмой части). Что касается объектных отношений, следует отметить три аспекта эдипальной фазы: треугольная природа объектных отношений, влияние на психическую структурализацию и влияние на нарциссический баланс.
Достижение триадических объектных отношений Эдипова комплекса подразумевает изменение в природе фантазии ребенка; от простого желания особого взаимоотношения с тем или другим родителем в попытках быть центром внимания фантазия ребенка должна смениться к стремлению играть роль одного родителя по отношению к другому. Конфликты преданности, либидные желания и страхи наказания ребенка изменяют свой характер, когда фантазии становятся насыщены эдиповыми желаниями. Более ранние конфликты между соревнованием и идентификацией и между либидными желаниями и запретами становятся сильнее, усиливая расстройство ребенка. Страх кастрации, телесного повреждения и потери родительской любви усиливается в ответ на фантазии ребенка, и он борется, чтобы разрешить эти многочисленные конфликты в своей жизни.
Некоторые примеры могут быть полезны. Одна пятилетняя девочка соревновалась со своей матерью. Она инсценировала конфликты через игру с куклами Барби, в которых она изображала конкурсы красоты между Барби и Скиппер, подростковой куклой. Кону, приятелю Барби, обычно отводилась роль судьи. Скиппер сочувствовала страданию Барби, однако хотела выиграть соревнование, потому что наградой было свидание с Коном. Она с гордостью заявляла, что является «папиной дочкой», и выражала желание иметь большие груди, подобно кукле Барби и своей матери. Хотя она воображала себя папиной принцессой, мать оставалась королевой, порождая у нее чувство собственного несоответствия, зависти и ревности к матери. Затем, когда мать купила ей модельную одежду, которую она хотела иметь, чувство вины подорвало ее самоуверенность, удовольствие от собственной женственности и от отделения от матери.
Пятилетний мальчик играл в ограбление домашнего очага с Поли и Олив. Поли был сильным и любил Олив, но грабители тоже хотели жениться на Олив. Поли застал их за попыткой украсть Олив и посадил их в тюрьму, где им отрубили головы.
На следующий день он представил, что супермен и прекрасная женщина вступили в брак и что у них родился супермальчик; супермальчик вырос и женился на суперженщине, и Спили был их сыном. «Нет! Никаких девочек! – внезапно потребовал он, защищаясь от растущего волнения и эдипального конфликта. – Потому что я могу себе представить глупости суперженщины! Отцы хотят быть со своими сыновьями». Затем его игра переключилась на проделки супермена и супермальчика.
Как иллюстрируют эти примеры, концепция триадических объектных связей имеет отношение к описанию наполненных конфликтами превратностей эдипального соперничества. Вовлеченность в Эдипов комплекс – характеризуемая любовью и генитальным возбуждением по отношению к одному из родителей, и ненавистью, желанием смерти, страхом возмездия и соперничеством по отношению к другому родителю, и, в то же самое время, любовью и обожанием соперника – указывает на установление полных триадических объектных отношений. Она также характеризует наивысший возможный уровень как либидной организации, так и доступных объектных взаимоотношений для ребенка (см., например, Lebovici, 1982). Треугольная природа эдипальной объектной связанности и эдипальных объектно-обусловленных конфликтов формирует психическую структурализацию и осложняет нарциссический баланс ребенка.
Хотя предэдипальные эволюционные конфликты потенциально могут стать невротическими конфликтами, когда интернализуются родительские запреты и указания, соперничество, неотъемлемо присутствующее в эдипальных взаимоотношениях, создает потенциал для детского невроза, в ходе которого ребенок отождествляет себя с родительскими указаниями и моральными стандартами, и, соответственно, происходят эволюционные продвижения в становлении Суперэго. Теперь в голове ребенка все больше можно обнаружить не только репрезентации наблюдающих, оценивающих, наказывающих и награждающих функций родителей, в каком бы искаженном виде они не были бы представлены, но идентификации с ними, которые делают эдипальные желания все более конфликтными. Боль, порождаемая детским неврозом, обеспечивает движущую силу для разрешения эдипальных конфликтов. Однако, утешение, а также укрепление функционирования Эго обнаруживаются в идеализациях и идентификациях с различными аспектами родителя своего пола. Затем возрастание силы эго-функционирования, которое возникает в результате консолидации Суперэго, содействует решению Эдипова комплекса, которое требует отказа от немедленного удовлетворения сексуальных целей и от замещения одного родителя по отношению к другому. После решения Эдипова комплекса ребенок все больше обретает способность направлять, защищать, корректировать и наказывать себя. Идеалы и стандарты его родителей, или те их версии, которые он интернализировал, становятся теперь его собственными.
Нарциссическая уязвимость ребенка в эдиповой фазе значительна, хотя декларации и проявления эдиповой любви не всегда могут быть заметны взрослому наблюдателю. Оптимальный баланс между нарциссическим угнетением и достаточным для развития нарциссическим удовлетворением находится где-то между полным эдиповым отпором и полной эдиповой победой. Даже самый любящий родитель должен разочаровывать ребенка, потому что желания ребенка намного превосходят реальные возможности. Раньше или позже, для того, чтобы сохранить чувство собственного достоинства, ребенок должен привести в согласие с реальностью взаимоотношения со своими родителями и со своей сексуальной незрелостью.
Те дети, которые вступают в Эдипову фазу с чувствами компетентности и позитивного уважения к себе, вытекающего из аффективных взаимоотношений с родителями, не опустошаются эдиповым разочарованием. Их способность защищаться и отказываться от инцестуозных желаний помогает им отсрочивать, задерживать и принимать то, что смещенные эдиповы желания могут быть удовлетворены в будущем. К тому же, опережающие идентификации ребенка с идеализируемым родителем своего пола являются источником чувства собственного достоинства.
Таким образом, в той мере, в какой это позволяют способности ребенка и окружающая среда, нарциссическое равновесие может быть сохранено путем замещения родителей другими объектами и сублимацией влечений ребенка. Этому процессу помогает растущее число внутренних запретов, большая способность к внутренней регуляции, более обширный репертуар доступных защит и сопутствующее вытеснение эдиповой сексуальности. Растущие интеллектуальные способности также позволяют ребенку находить удовлетворение в сублимациях, так что дети могут наслаждаться и гордиться как своими познавательными, так и своими физическими действиями. Расширение ими социальных взаимоотношений обеспечивает дополнительные пути для приятного общения, а также больший размах смещения и замещения удовлетворений. Поэтому, несмотря на свою болезненность, обычно эдипова неудача не бывает травматической. Она ускоряет эволюционный процесс, так как факторы взросления подталкивают ребенка к латентному периоду.
Объектные отношения в латентном периодеОтказываясь от сознательных попыток достичь инцестуозной связи с одним или с другим родителем, ребенок вызывает изменение во взаимоотношениях с ними. Теперь отношения с каждым из родителей могут быть нежными, даже если со стороны ребенка на них оказывают непрерывное воздействие природа вытесненных желаний и конфликтов, природа родительских репрезентаций, установленных в течение более ранних стадий развития объектных отношений и по-новому могущественное Суперэго. В самом деле, в ходе латентного периода ребенок заметно меньше зависит от родителей, особенно в вопросах правоты и неправоты, потому что Суперэго все больше воспринимается как внутренняя инстанция. Эти внутрипсихические силы становятся решающими и постоянными бессознательными ингредиентами его объектных отношений, оказывающими глубокое воздействие на поведение и на отношения с другими людьми.
Фантазии «семейного романа» (Freud, 1908) типичны для раннего латентного периода. Эти фантазии проистекают от разочарований в эдиповой любви, а также служат зашитой от инцестуозных фантазий; таким образом, они содействуют усилиям ребенка внутрипсихически дистанцироваться от родителей. Ощущая себя отвергнутым родителями, которые временами, как чувствует ребенок, предпочитают ему друг друга, он находит компенсацию своей нарциссической ране и разочарованию в фантазии. Соответственно, он воображает, что является приемным ребенком или пасынком, и полагает, что он благородного или сверхъестественного происхождения, и просто отдан в эту семью до тех пор, пока не появятся более высокие и лучшие возможности. Фантазии семейного романа выдают эдипальное разочарование и крушение иллюзий, так как ребенок видит, что его родители не являются, как он полагал, совершенными и всемогущими. Соответствующее этой фазе крушение иллюзий относительно основных объектов ребенка, продолжающее задачу развития (Winnicott, 1953), уравновешивается в фантазии ребенка величием его воображаемых «подлинных» родителей. Сходные функции и источники происхождения приписывались фантазиям о наличии близнеца (Burlingham, 1952), воображаемым животным или человеческим спутникам (Nagera, 1969; Myers, 1976, 1979), и интересу к супергероям комиксов и телевидения (Widzer, 1977). Многие из этих фантазий дополнительно разрабатываются в ходе латентного периода.
Ребенок, находящийся в стадии более позднего латентного периода, стремится уйти от поглощенности фантазированием к объектам в реальном мире. Важный аспект этого сдвига проявляется в социальных отношениях, которые становятся намного более важными в ходе латентного периода. «Мир игрового интереса наполняет ребенка новыми надеждами, новыми разочарованиями и удовлетворениями», – говорит Пеллер, который отмечает, что в этих обстоятельствах ребенок начинает отождествляться со своими ровесниками, вдобавок к родителям и учителям (1954, стр. 191).
Равные по положению однополые группы обеспечивают возможности для укрепления половой идентичности, для замещения связанных с эдипальным объектом конфликтов и для дистанцирования от эдипальных объектов. Буксбаум в поисках интрапсихического объяснения двух ясно различимых периодов группового формирования в детстве – в начале латентного периода и в подростковом периоде – пришел к выводу, что «по мере того, как маленький ребенок находит в группе поддержку для своей новооткрытой физической независимости от матери, подросток находит опору для своей моральной независимости от дома» (1945, стр. 363). Буксбаум отмечает, что ребенок, вступающий в латентный период, готов к формированию новых взаимоотношений, в особенности потому, что он нуждается в нахождении новых источников либидного удовлетворения. Групповые действия (как и школа) (Peller, 1956) делают это смещенным или сублимированным образом. Кроме того, группа часто может дозволять ослабление стандартов Суперэго; Сэр Уильям Голдинг драматически изображает принятие группой запрещенных действий, таких как явное выражение садистских импульсов, в своем романе «Повелитель мух» (1955). Социально приемлемой формой групповой формации латентного периода являются командные игры, часто с детальным вниманием к тому, кто в какой лиге играет.








