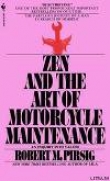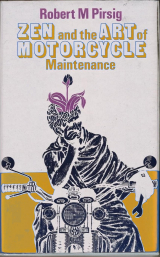
Текст книги "Дзен и искусство ухода за мотоциклом: исследование о ценностях"
Автор книги: Роберт М. Пирсиг
Соавторы: Роберт Пирсиг
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц)
Для антитехнарей, людей антисистемы, изобрели клише и стереотипы – например, «битник», «хиппи»; и они будут появляться и впредь. Но отдельных личностей не превратить в толпу простой чеканкой массового термина. Джон и Сильвия – не люди толпы, как и все остальные, кто идет своими путями. Как раз против того, чтобы быть массовым человеком, они, кажется, и восстают. И чувствуют, что техника очень сильно завязана с теми силами, которые пытаются обратить их в людей толпы; им это не нравится. Пока сопротивление, в основном, пассивно: побеги на природу, когда получается, и тому подобное, – но оно не обязательно должно быть пассивным.
Я не согласен с ними насчет ухода за мотоциклом, но не потому, что не сочувствую их отношению к технике. Просто я думаю, что их бегство и ненависть к ней их же самих разоружают. Будда, Верховное Божество, столь же удобно располагается в платах цифрового компьютера или в шестернях трансмиссии мотоцикла, как и на вершине горы или в цветочных лепестках. Думать иначе – унижать себя. Вот об этом я и хочу поговорить в своем Шатокуа.
Мы уже выехали из болот, но душно по-прежнему: можно не мигая смотреть на желтый круг солнца, будто небо затянуло дымом или смогом. Но теперь нас окружает зелень. Домики фермеров чисты, белы и свежи. И нет ни дыма, ни смога.
2
Дорога разворачивается дальше… Мы останавливаемся передохнуть и пообедать и, немного поболтав, пускаемся в долгий перегон. Возникшая полуденная усталость уравновешивает возбуждение первого дня пути, и мы продвигаемся вперед равномерно – не быстро и не медленно.
Мы попали в струю ветра с юго-запада, и мотоцикл как бы сам по себе кренится навстречу порывам, противодействуя им. Позже появится ощущение чего-то необычного на этой дороге: будто за нами наблюдали или следили. Но впереди – ни машины, а в зеркальце далеко позади видны только Джон и Сильвия.
Мы пока не в Дакотах, но просторные поля наводят на мысль, что мы приближаемся. Некоторые – сплошь голубые от цветущего льна: он колышется длинными волнами, словно поверхность океана. Изгибы холмов круче, чем прежде, теперь они высятся над всем остальным, кроме неба – оно кажется еще шире. Фермы вдали – такие маленькие, что их едва можно различить. Земля начинает раскрываться.
Не существует какого-то места или четкой линии, где Центральные Равнины заканчиваются, а Великие – начинаются. Хоть смена, как сейчас, и постепенная, но застает врасплох. Будто выходишь в открытое море из какой-нибудь щелистой гавани, замечаешь, что накат волн стал больше, оглядываешься – а земли уже не видать. Деревьев здесь меньше, и внезапно я понимаю: они уже не местные, их сюда привезли и высадили вокруг домов для защиты от ветра. Там же, где их не сажали, ни подлеска, ни неподросшего молодняка нет – одна трава, иногда дикие цветы и сорняки, но в основном – трава. Начинаются луга. Мы в прериях.
У меня предчувствие, что никто из нас полностью не представляет, какими будут четыре июльских дня в этих прериях. Когда вспоминаешь автомобильные поездки через них, то в памяти всплывают всегда одна плоскость и огромная пустота, насколько хватает глаз, крайняя монотонность и скука, – а ты все едешь, за часом час, никуда не приезжая и не зная, сколько это еще будет продолжаться: без единого поворота, безо всяких перемен на поверхности, простирающейся до самого горизонта.
Джона беспокоило, что Сильвия может быть не готова к таким неудобствам, и он сначала хотел, чтобы она добралась до Биллингса, Монтана, самолетом, но мы с Сильвией отговорили его. Я доказывал, что физический дискомфорт важен только когда не то настроение. Тогда только пристегиваешься к тому, что доставляет неудобство, и именно его называешь причиной. Но если настроение – в порядке, то физический дискомфорт почти ничего не означает. А раздумывая о настроениях и чувствах Сильвии, я не замечал, чтобы она жаловалась.
К тому же, добравшись до Скалистых Гор самолетом, видишь их только в одном контексте – как милый пейзаж. А провести много дней в трудном пути через прерии – значит увидеть их совершенно по-другому: как цель, как землю обетованную. Если бы Джон, я и Крис приехали с таким чувством, а Сильвия – считая их «миленькими» и «приятными», то между нами возникло бы больше дисгармонии, чем из-за жары и монотонности Дакот. И в любом случае мне нравится с нею болтать, поэтому я думаю и о себе тоже.
Когда я смотрю на эти поля, мысленно я говорю ей: «Видишь?.. Видишь?..» – и мне кажется, что она видит. Я надеюсь, что потом как-нибудь она увидит и почувствует в этих прериях что-то такое, о чем я уже перестал рассказывать другим: то, что здесь существует, поскольку нет чего-то другого, и что только благодаря этому можно заметить. Иногда, кажется, ее очень подавляет монотонность и скука городской жизни, так что я думаю: может быть, в этой бесконечной траве и ветре она увидит то, что иногда приходит, когда монотонность и скуку принимаешь. Это есть здесь, но у меня нет для него названия.
Вот на горизонте я вижу то, чего, наверное, пока не видят остальные. Далеко к юго-западу (можно разглядеть только с вершины этого холма) у неба появляется темный краешек. Идет гроза. Может, именно это и беспокоило меня. Намеренно выпихивалось из головы, но все время осознавалось: с такой духотой и ветром гроза более чем вероятна. Плохо, что в первый день, но, как я уже сказал, на мотоцикле ты – внутри самого действия, а не просто наблюдаешь за ним. А грозы – его часть вне всякого сомнения.
Если гроза заденет краешком или налетит прерывистыми шквалами, то можно попытаться проскочить. Однако сейчас все по-другому. Тот длинный темный мазок безо всяких перистых облаков перед ним – холодный фронт. Холодные фронты свирепы, а когда идут с юго-запада – свирепы вдвойне. Часто они несут с собой торнадо. Когда они приходят, лучше всего просто спрятаться и переждать. Они непродолжительны, а в послегрозовой прохладе ехать приятнее.
Хуже всего – фронты теплые. Дожди могут идти целыми днями. Помню, мы с Крисом ехали в Канаду несколько лет назад; проехали что-то около 130 миль и попали в теплый фронт, о котором нас многое предупреждало, но мы так ничего и не поняли. Все пережитое было каким-то тупым и грустным.
Мы ехали на маленьком мотоцикле в шесть с половиной лошадиных сил, перегруженные багажом и не слишком обремененные здравым смыслом. Он мог выдавать всего около 45 миль в час при умеренном встречном ветре. Отнюдь не для туризма. В первый вечер мы доехали до большого озера в Северных Лесах и разбили палатку под проливным дождем, шедшим всю ночь. Я забыл окопать палатку, и около двух ночи к нам ворвался поток воды и насквозь промочил оба спальника. Наутро мы встали мокрыми, подавленными и невыспавшимися, но я подумал, что если мы просто поедем дальше, дождь через некоторое время сдастся и перестанет. Дудки. К десяти утра небо потемнело так, что все машины зажгли фары. Тут-то все и началось.
На нас были пончо, служившие прошлой ночью палаткой. Теперь они распахнулись, как паруса, и тормозили нас до З0 миль в час. Вода заливала дорогу на два дюйма. Вокруг сверкали молнии. Я помню изумленное лицо женщины за стеклом встречной машины: что, ради всего святого, мы делаем на мотоцикле в такую погоду? Уверен, я не смог бы ей ответить.
Скорость упала до двадцати пяти, потом до двадцати. Затем мотоцикл стал давать осечки, кашлять, стрелять и дребезжать, пока, наконец, еле-еле тащась на 5–6 милях в час, мы не нашли старую полузабытую бензоколонку возле лесосеки и не встали на стоянку.
В то время я, как и Джон, не придавал особого значения уходу за мотоциклом. Помню, держа пончо над головой, чтобы прикрыть бензобак, я покачал мотоцикл между ног. Бензин, вроде, плескался. Я посмотрел на свечи и посмотрел на контакты, посмотрел на карбюратор и стал качать качать дрочило, пока не выдохся.
Мы зашли на бензоколонку, оказавшуюся, к тому же, гибридом пивной и ресторана, и съели по пережаренному бифштексу. Потом я снова вышел и попытался завести машину. Крис продолжал задавать дурацкие вопросы, что меня уже начинало злить, поскольку он не видел, насколько все серьезно. Наконец, я понял, что все бестолку, сдался, и моя злость на него прошла. Как можно бережнее я объяснил ему, что все кончилось. В этот отпуск мы никуда на мотоцикле не едем. Крис стал предлагать, например, проверить бензин, что я уже сделал, или поискать механика. Но механиков там никаких не было. Только обрубки сосен, кусты и дождь.
Я сидел с ним в траве на обочине дороги, разгромленный, уставившись в деревья и кустарник. Я терпеливо ответил на все его вопросы, и чем дальше, тем реже и реже он их задавал. И когда Крис, наконец, понял, что наше путешествие действительно завершилось, он заплакал. Ему было лет восемь тогда, наверное.
Мы добрались до нашего города автостопом, взяли напрокат трейлер, прицепили к машине, приехали и забрали мотоцикл, доставили его обратно и начали все снова – уже на машине. Но это было уже не то. Много радости нам это не принесло.
Через две недели после того, как отпуск закончился, как-то вечером после работы я снял карбюратор посмотреть, что же все-таки произошло, но найти ничего не смог. Чтобы снять грязь, прежде чем поставить его на место, я повернул вентиль бензобака, слить немного горючего. Ничего не вылилось. В баке было пусто. Я не верил своим глазам. Я до сих пор едва могу в это поверить.
Я сотни раз мысленно пинал себя за эту глупость и, наверное, никогда не оправлюсь от этого по-настоящему. Очевидно, плескалось горючее в запасном баке, который я так и не использовал. Я не проверил тщательно, поскольку допустил, что двигатель не работал из-за дождя. Тогда я не понимал еще, насколько глупы такие скороспелые допущения. Теперь мы сидим на машине в двадцать восемь лошадей, и к уходу за ней я отношусь очень серьезно.
Внезапно Джон обгоняет меня, ладонь повернута вниз, что означает остановку. Мы сбавляем скорость и ищем, где съехать на обочину. Край бетонки сильно выступает, гравий совсем не утрамбован, и мне такой маневр совершенно не нравится.
Крис спрашивает:
– Зачем мы остановились?
– Мне кажется, мы пропустили поворот, – говорит Джон.
Я оборачиваюсь и ничего не вижу:
– Я не видел никаких указателей.
Джон качает головой:
– Здоровый, как амбарные ворота.
– Да?
Они с Сильвией кивают.
Джон наклоняется, всматривается в мою карту и показывает, где был поворот, потом – на виадук после него.
– Мы уже проехали виадук.
Я вижу, что он прав. М-да.
– Вперед или назад? – спрашиваю я.
Он думает.
– Думаю, нет резона возвращаться. Хорошо, поехали вперед. Так или иначе, доедем.
И вот теперь, пристраиваясь им в хвост, я думаю: с чего бы это? Я едва заметил перекресток с трассой. А до этого забыл сказать им про грозу. Как-то выбивает из колеи.
Край грозового облака вырос, оно движется не так быстро, как я рассчитывал. Не очень хорошо. Когда тучи быстро надвигаются, они быстро и проходят. Когда они подкрадываются медленно – как сейчас, – можно прилично застрять.
Зубами стаскиваю перчатку, наклоняюсь и щупаю алюминиевый бок двигателя. С температурой все в порядке. Слишком тепло, чтоб держать руку долго, но не обожжешься. Ничего страшного.
У двигателей с воздушным охлаждением, как этот, от перегрева может случиться «припадок». У этой машины был один такой… нет, три. Время от времени я его проверяю, как проверял бы пациента с сердечным приступом, если даже он, кажется, уже поправился.
Во время припадка поршни расширяются от перегрева, становятся слишком велики для стенок цилиндров, застревают в них, иногда вплавляются, двигатель глохнет, заднее колесо замыкает, и мотоцикл бросает юзом. Когда так случилось в первый раз, голову мне закинуло дальше переднего колеса, а мой пассажир оказался почти верхом на мне. При тридцати двигатель опять расклинило, и он заработал нормально, но я съехал с дороги и остановился посмотреть, что произошло. Пассажир мой только и мог сказать: «А это ты для чего сделал?»
Я пожал плечами, поскольку недоумевал так же, как и он, и просто таращился на мотоцикл, а машины мчались мимо. Мотор так раскалился, что воздух вокруг него дрожал, и мы ощущали жар. Когда я коснулся его мокрым пальцем, он зашипел, как горячий утюг, и мы медленно поехали домой. Звук у мотора изменился: хлопки, означавшие, что поршни не соответствуют цилиндрам, и тут нужен буксир.
Я отвез его в мастерскую, ибо не думал, что с ним произошло что-то достаточно серьезное, чтобы оправдать меня, если я влезу туда самостоятельно: придется изучать все эти сложные детали, может даже заказывать запчасти и специальные инструменты, все это займет кучу времени, хотя можно сделать так, чтобы мотоциклом занялся кто-то другой и сделал все побыстрее, – типа того, как к этому относился Джон.
Мастерская отличалась от тех, что я помнил. Если раньше все механики выглядели древними ветеранами, то теперь походили на простых пацанов. Радио орало во всю, а они болтали между собой, выпендривались и меня, кажется, совсем не замечали. Когда один из них, наконец, подошел, то, едва послушав хлопки поршней, сразу сказал: «Ах, да. Перепускные болты.»
Перепускные болты? Кабы знать тогда, во что это выльется.
Через две недели я заплатил им по счету 140 долларов и начал осторожненько ездить, переключая малые скорости, чтобы все в нем приработалось, а, проехав с тысячу миль, врубил полный газ. При семидесяти пяти его заело снова, а при тридцати опять отпустило, как и раньше. Когда я привез его обратно, они обвинили меня, в том, что я неправильно ввожу его в режим, но после долгих споров все-таки согласились заглянуть внутрь. Они снова его разобрали и сами вывели на скоростные испытания.
На этот раз он заглох у них.
После третьего капремонта два месяца спустя они заменили цилиндры, поставили новые жиклеры главного карбюратора, отрегулировали зажигание так, чтобы он работал как можно спокойнее, и сказали мне: «Только не гоняйте его чересчур».
Мотоцикл был весь в грязи и не заводился. Я обнаружил, что свечи отсоединены, ввернул их и завел; вот теперь в самом деле стучали перепускные болты. Они их не отрегулировали. Я сообщил им об этом, пришел пацан с неправильно установленным разводным ключом и быстренько срезал обе алюминиевые головки болтов, тем самым окончательно их загубив.
– Надеюсь, у нас на складе есть еще, – сказал он.
Я кивнул.
Он принес молоток с зубилом и начал их расклепывать. Зубило пробило алюминиевую головку, и я увидел, как пацан вгоняет его прямиком в головку двигателя. Со следующим ударом он промахнулся полностью и вместо зубила попал молотком по радиатору, отколов часть двух охлаждающих ребер.
– Ты погоди, – вежливо сказал я, как в кошмарном сне. – Ты мне только новые крышки дай, и я его заберу, как он есть.
Я выбрался оттуда как можно быстрее: стучащие болты, пробитые головки, грязная машина, все потом, потом – и почувствовал сильную вибрацию при скоростях выше двадцати. На обочине я обнаружил, что из четырех болтов, крепящих двигатель, недостает двух, а у третьего не хватает гайки. Весь мотор болтался на одном винтике. Болта верхнего кулачка натяжного устройства цепи тоже не было, а значит регулироватъ болты все равно было бы бесполезно. Ужас.
И Джон может отдавать свой БМВ в руки таким людям… Я никогда ему об этом не рассказывал. Наверное, следовало.
Причину «припадков» я нашел через несколько недель, ожидая, что это случится снова: маленький 25-центовый штифт во внутреннем маслопроводе, который срезало, и он не пропускал масло в головку при больших скоростях.
Вопрос почему приходит в голову снова и снова; именно из-за него мне и хочется сделать этот Шатокуа. Почему они его так искромсали? Они не бежали от техники, как Джон и Сильвия. Они сами были технарями. Перед ними стояла цель: сделать работу, – а делали они ее, как шимпанзе. Ничего личного. Никаких видимых причин. И я пытался мысленно вернуться в ту мастерскую, в то кошмарное место, и попробовать вспомнить, что могло бы оказаться такой причиной.
Радио – вот причина. Нельзя одновременно сосредотачиваться на том, что делаешь, и слушать радио. Может, они считали, что их работа не имеет отношения к сосредоточенной мыслительной деятельности, и думали, что это просто – как ключом гаечным ворочать: а ворочать ключом под музыку всяко приятнее.
Их торопливость – вот еще одна причина. Они ляпали все в спешке, даже не глядя, где лопухнулись. Так получается больше денег – если не останавливаешься подумать (что обычно занимает больше времени или же просто получается хуже).
Но самое главное, наверное, – выражения их лиц. Их трудно объяснить. Добродушные, дружелюбные, свойские – и непричастные. Как зрители. Такое чувство, что они сами туда только что забрели, а им сунули в руки по гаечному ключу. Нет причастности к работе. Нет такого, мол: «Я – механик». Знаешь, что в 17.00 или когда там у них заканчиваются их восемь часов, они отключаются, и больше ни единой мысли о работе. Они и так уже стараются, чтобы ни одной мысли о работе у них не было на самой работе. По-своему они достигают того же, что и Джон с Сильвией, живя бок о бок с техникой, но не имея с ней в действительности ничего общего. Или же у них что-то общее с ней-таки было, но их собственные «я» лежали где-то вне ее, отстраненно, удаленно. Они занимались работой, но не настолько, чтобы она их заботила.
Эти механики не только не нашли срезанный штифт; напротив, совершенно ясно, что именно механик и срезал его в самом начале, неправильно надевая боковую крышку. Я вспомнил, как бывший владелец говорил, что его механик жаловался, что крышка плохо садится. Вот и причина. Инструкция в мастерской предупреждала об этом, но, как и остальные, он наверное слишком торопился – или же ему было наплевать.
За работой я думал как раз об этом наплевательстве в инструкциях к цифровым компьютерам, которые я редактировал. Остальные одиннадцать месяцев в году я зарабатываю на жизнь тем, что пишу и редактирую технические инструкции, и знаю, что в них полно ошибок, двусмысленностей, упущений и информации, настолько исковерканной, что приходится перечитывать по шесть раз, чтобы хоть что-то в них понять. Но вот что поразило меня в самый первый раз – согласованность этих инструкций со зрительским отношением, с которым я столкнулся в той мастерской. Эти инструкции – для зрителей. Они подобраны под их формат. В каждой строчке сквозит идея: мол, «вот вам машина, изолированная во времени и пространстве от всего остального во вселенной; она не имеет отношения к тебе, ты не имеешь отношения к ней, если не считать верчения определенных ручек, поддержания уровней питания, проверки условий возникновения ошибки…» и так далее. Вот в чем дело. Механики по своему отношению к машине на самом деле ничем не отличались от отношения инструкции к машине или от меня, привезшего ее к ним. Мы все были зрителями. И меня осенило, что не существует инструкции по настоящему уходу за мотоциклом, то есть по самому важному аспекту. Забота о том, что делаешь, либо считается несущественной, либо принимается как должное.
Наверное, в нынешнем путешествии нам следует это замечать, самую малость любопытствовать: найдутся ли у нас в этом странном разграничении того, что человек есть, и того, что он делает, какие-то намеки на то, что же, к чертям собачьим, пошло не так в нашем двадцатом столетии. Я не хочу торопить события. Спешка сама по себе – отрава двадцатого века. Если хочешь что-то поторопить, значит, тебе больше нет до этого дела, и ты хочешь перейти к чему-то другому. Мне хочется приступить к этой задаче медленно, но осторожно и тщательно – с тем же отношением, которое появилось у меня перед тем, как я нашел срезанныи штифт. Не я, а то мое отношение нашло его – и ничто иное.
Я вдруг замечаю, что земля сплющилась в эвклидову плоскость. Ни холмика, ни бугорка. Значит, въехали в Долину Ред-Ривер. Скоро окажемся в Дакотах.
3
К тому времени, как мы выезжаем из Долины Ред-Ривер, грозовые тучи – повсюду; они чуть ли не накрывают нас.
Мы с Джоном обсудили ситуацию в Брекенридже и решили двигаться дальше, пока не придется остановиться совсем.
Осталось уже недолго. Солнце скрылось, ветер дует холодом, и нас окружает призрачная стена различных оттенков серого.
Она громадна и подавляет собой все остальное. Прерия здесь тоже огромна, но огромность этой серой массы, готовой опуститься сверху, пугает. Мы полностью в ее власти. Когда и где она обрушится на нас – не нам определять. Мы можем только наблюдать, как она придвигается все ближе и ближе.
Немного раньше – там, где самая темная часть серого сомкнулась с землей, – виднелся городок: какие-то домики, водокачка; теперь они исчезли. Скоро нас накроет. Я уже не вижу никаких населенных пунктов, и просто придется мчаться во всю прыть.
Я подтягиваюсь к Джону и выбрасываю вперед руку: полный вперед! Он кивает и рвет вперед. Я даю ему небольшую фору и приноравливаюсь к его скорости. Машина реагирует прекрасно – семьдесят… восемьдесят… восемьдесят пять… Вот теперь мы по-настоящему чувствуем ветер, и я опускаю голову, чтобы уменьшить сопротивление… Девяносто. Стрелка спидометра качается туда-сюда, но на тахометре – постоянные девять тысяч… под девяносто пять миль в час… а мы держим эту скорость… движемся. Уже не сосредоточишься на обочинах… Я протягиваю руку и щелкаю выключателем фары. Все равно нужно. Безопасности ради. Слишком темно.
Мы несемся по открытой плоской равнине: ни единой машины, лишь кое-где – деревья, но дорога – гладкая, чистая, и двигатель звучит плотно, как при высоком числе оборотов в минуту: с ним все в порядке. Становится все темнее и темнее.
Вспышка и «бу-буммм» грома: одно сразу за другим. Я вздрагиваю, голова Криса прижата к моей спине. Несколько предупредительных капель дождя… при такой скорости они – как иголки. Вторая вспышка – БАММ, и все вокруг – видно, как на ладони… а потом, в ясности следующей вспышки – та ферма… та мельница… о Господи, он был здесь!.. сбросить газ… это его дорога… забор и деревья… а скорость падает до семидесяти, потом – шестьдесят, пятьдесят пять, и я держу ее.
– Почему мы тормозим? – кричит Крис.
– Слишком быстро!
– Нет!
Я киваю, что да.
Домик и водокачка промелькнули мимо, и теперь появляются небольшая дренажная канава и перекресток с дорогой, уводящей к горизонту. Да… думаю, правильно. Так оно и есть.
– Они уже далеко! – вопит Крис. – Догоняй!
Я мотаю головой из стороны в сторону.
– Почему? – вопит он.
– Опасно!
– Они уехали!
– Подождут.
– Быстрее!
– Нет. – Я качаю головой. Просто смутное чувство. На мотоцикле таким чувствам начинаешь доверять, и мы остаемся на пятидесяти пяти.
Начинается дождь, но впереди я замечаю огоньки города… Я знал, что он здесь будет.
Когда мы подъезкаем, Джон и Сильвия уже ждут нас под первым деревом у дороги.
– Что с вами случилось?
– Сбросили скорость.
– Это мы поняли. Что-то не так?
– Нет. Давайте выбираться из-под дождя.
Джон говорит, что на противоположной окраине есть мотель, но я отвечаю, что есть мотель и получше, если повернуть направо по дороге, обсаженной тополями, через несколько кварталов отсюда.
Мы сворачиваем к тополям и проезжаем несколько кварталов – появляется небольшой мотель. Внутри, в конторе, Джон озирается и произносит:
– Это действительно хорошее место. Когда ты здесь был до этого?
– Не помню, – отвечаю я.
– Откуда ты тогда про него знаешь?
– Интуиция.
Он смотрит на Сильвию и качает головой.
Сильвия уже некоторое время наблюдает за мной. Она замечает, как слегка дрожат мои руки, когда я расписываюсь в книге регистрации.
– Ты ужасно бледный, – говорит она. – Это на тебя молния так подействовала?
– Нет.
– Ты как привидение увидел.
Джон и Крис смотрят на меня, и я отворачиваюсь от них к двери. Дождь по-прежнему как из ведра, но мы делаем рывок к своим комнатам. Все наши вещи на мотоциклах укрыты, и мы пережидаем грозу – потом заберем.
Дождь заканчивается, небо немножко светлеет. Но со двора мотеля я вижу, как за тополями почти совсем собралась другая тьма – ночная. Мы идем в город, ужинаем, а когда возвращаемся, я чувствую, как дневная усталость по-настоящему наваливается на меня.
Мы почти неподвижно отдыхаем в металлических шезлонгах во дворе мотеля, медленно допивая пинту виски, которую Джон принес из холодильника мотеля вместе с какими-то закусками. Виски проходит внутрь медленно и приятно. Прохладный ночной ветерок постукивает листочками тополей вдоль дороги.
Крис спрашивает, что мы будем делать дальше. Этого пацана ничего не утомляет. Новизна и странность обстановки возбуждают его, и он хочет, чтобы мы пели песни, как они это делали в лагере.
– Мы не очень хорошо поем песни, – говорит Джон.
– Тогда давайте рассказытать истории. – Крис задумывается. – А вы знаете что-нибудь интересное о привидениях? Все пацаны в нашем домике рассказывали по ночам о привидениях.
– Лучше ты нам расскажи, – просит Джон.
И он рассказывает. Слушать его истории довольно забавно. Некоторые я не слышал с тех пор, как сам был в его возрасте. Я говорю ему об этом, и он хочет послушать мои истории, но я ни одной не помню.
Немного погодя он спрашивает:
– Ты веришь в привидения?
– Нет, – отвечаю я.
– Почему?
– Потому что они не-на-уч-ны.
Мой тон заставляет Джона улыбнуться.
– В них не содержится материи, – продолжаю я, – и нет энергии – а, следовательно, согласно законам науки, они не существуют нигде, кроме как в умах людей.
Виски, усталость и ветер в деревьях начинают мешаться у меня в голове.
– Конечно, – прибавляю я, – законы науки тоже не содержат в себе материи и не имеют энергии, и, следовательно, не существуют нигде, кроме людских умов. Лучше всего сохранить целиком научный подход ко всему вместе и отказаться верить и в привидения, и в научные законы. Только так будешь в безопасности. Для веры во что-то остается очень немного места, но это – тоже научный подход.
– Я не понимаю, о чем ты говоришь, – отвечает Крис.
– Я просто развлекаюсь.
У Криса опускаются руки, когда я так разговариваю, но не думаю, что он обижается.
– Один пацан из Христианского союза молодежи говорит, что он верит.
– Он просто тебя дурачит.
– Ничего не дурачит. Он сказал, что если людей правильно не похоронили, их призраки возвращаются, чтобы преследовать других людей. Он правда в это верит.
– Он тебя просто дурачит, – повторяю я.
– Как его зовут? – спрашивает Сильвия.
– Том Белый Медведь.
Мы с Джоном переглядываемся, внезапно вспомнив одно и то же.
– А-а-а, индеец! – говорит он.
Я смеюсь.
– Наверное, придется кое-что пояснить, – говорю я. – Я думал о европейских привидениях.
– Какая разница?
Джон хохочет:
– Он тебя поймал.
Я на минуту задумываюсь:
– Ну, у индейцев иногда другой взгляд на вещи, и я не утверждаю, что он полностью неправилен. Наука не есть часть индейской традиции.
– Том Белый Медведь сказал, что папа и мама не велели ему верить во все это. Но бабушка шепнула ему, что это все равно правда, вот он в это и верит.
Крис умоляюще смотрит на меня. Ему на самом деле иногда хочется о чем-то узнать. Развлекаться – еще не значит быть хорошим отцом.
– Конечно, – отвечаю я, давая задний ход, – я тоже верю в привидения.
Теперь на меня странно смотрят Джон и Сильвия. Я вижу, что на этот раз мне легко не отделаться, и мысленно готовлю себя к долгому объяснению.
– Совершенно естественно, – говорю я, – считать невеждами европейцев или индейцев, веривших в привидения. Научная точка зрения низвела все остальные точки зрения до такого положения, когда все они кажутся примитивными. Поэтому если человек сегодня говорит о призраках или духах, он считается невеждой – или же чокнутым. Почти невозможно представить себе мир, где могут действительно существовать привидения.
Джон утвердительно кивает, и я продолжаю:
– Мое личное мнение: интеллект современного человека – не такое уж совершенство. Коэффициенты интеллекта не слишком отличаются. Те индейцы и средневековые люди были так же умны, как и мы, но контекст, в котором они мыслили, был совершенно иным. В том контексте мышления привидения и духи настолько же реальны, насколько для современного человека реальны атомы, частицы, протоны и кванты. В этом смысле в привидения я верю. Знаете, у современного человека ведь тоже есть свои призраки и духи.
– Что?
– О, законы физики и логики… система чисел… принцип алгебраической подстановки. Все это призраки. Просто мы верим в них так истово, что они кажутся реальными.
– Мне они кажутся реальными, – говорит Джон.
– Не улавливаю, – говорит Крис.
Поэтому я продолжаю.
– Например, кажется абсолютно естественным подразумевать, что гравитация и закон тяготения существовали до Исаака Ньютона. Только чокнутый, наверное, будет думать, что до семнадцатого века гравитации не было.
– Конечно.
– А значит, когда начался этот закон? Он существовал всегда?
Джон хмурится, пытаясь понять, к чему я клоню.
– А веду я вот к чему, – говорю я. – До начала земли, до того, как образовались солнце и звезды, до самого первоначального поколения всего закон тяготения существовал.
– Еще бы.
– Сидя в пустоте, не имея ни своей массы, ни собственной энергии, не находясь ни в чьем мозгу, потому что никого просто еще не было, ни в пространстве, потому что и пространства тоже не существовало, нигде – этот закон тяготения все-таки существовал?
Вот теперь Джон, кажется, уже не так уверен.
– Если этот закон тяготения существовал, – говорю я, – то, честное слово, я не знаю, что вещь должна сделать, чтобы не существовать. Мне кажется, закон тяготения прошел все испытания на несуществуемость, которые только есть. Вы не придумаете ни единого качества несуществования, которое бы не нашлось у закона тяготения. И ни одного-единственного научного определения существования, которым бы он обладал. И все-таки по-прежнему «здравый смысл» заставляет верить в то, что он существовал.
Джон говорит:
– Кажется, мне надо будет над этим подумать.
– Ну, тогда я предсказываю, что ты будешь думать над этим достаточно долго и в конце концов поймаешь себя на том, что снова и снова возвращаешься назад – пока не придешь к единственно возможному, рациональному, разумному заключению. Закона тяготения и самой гравитация не существовало до Исаака Ньютона. И ни одно другое заключение не имеет смысла.
А это означает, – продолжаю я, не дав ему перебить, – это означает, что закон тяготения не существует нигде, кроме как в головах людей! Это призрак! Мы все очень заносчивы и самонадеянны, третируя призраки других, но сами становимся столь же невежественными и суеверными варварами, когда дело доходит до наших собственных.