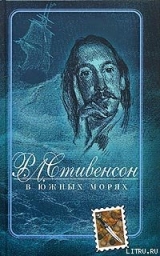
Текст книги "В южных морях"
Автор книги: Роберт Льюис Стивенсон
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
Глава пятая
КОРОЛЬ И ПРОСТОЙ НАРОД
На острове мы видели мало простых людей. Впервые мы встретились с ними у колодца, где они стирали белье, а мы брали воду для еды. Сочетание было несносным; имея влияние на тирана, мы обратились к нему, и он включил колодец в наше тапу. Это была одна из тех немногих любезностей, которые Тембинок делал явно неохотно, и можно представить, какими непопулярными она сделала чужеземцев. Мимо нас проходили в поле многие деревенские жители, но они описывали широкий круг возле нашего тапу и как будто отворачивались.
Иногда мы сами ходили в деревню – странное место, напоминавшее каналами Голландию, высокими покатыми крышами, похожими в сумерках на храмы, – Восток, но в какой-нибудь дом нас приглашали редко: не предлагали ни гостеприимства, ни дружбы; и домашнюю жизнь мы видели только с одной стороны: прощанье с покойником, леденящую, мучительную сцену – вдова держала на коленях холодное синеватое тело мужа и то ела с ходившего по кругу блюда, то плакала и целовала бледные губы. («Боюсь, вы глубоко ощущаете это несчастье», – сказал шотландский священник. «Да, сэр, ощущаю! – ответила вдова. – Я всю ночь плакала, сейчас немного поем и опять буду плакать».) В наших прогулках я всегда считал, что островитяне нас избегают, возможно, из неприязни, возможно, по приказу; и тех, кого мы встречали, обычно захватывали врасплох. Поверхность острова разнообразится пальмовыми рощами, зарослями и романтическими лесистыми долинами фута четыре в глубину, остатками плантаций таро, и вот тут можно наткнуться на людей, отдыхающих или прячущихся от работы. На расстоянии пистолетного выстрела от нашего города среди густых зарослей есть пруд, островные девушки ходили туда купаться и несколько раз были потревожены нашим появлением. Не для них светлые, прохладные реки Таити или Уполу, не для них плесканье и смех в сумерках с веселыми друзьями и подругами, им приходится красться сюда поодиночке, сидеть на корточках в месте, похожем на коровью лужу, и мыться (если это можно назвать мытьем) в теплой, коричневой, как их кожа, грязи. Мне приходят на память другие, более редкие встречи. Меня несколько раз привлекали нежные голоса в кустах, приятные, как музыка флейты, со спокойными интонациями. Воображение рисовало красивую сказку, я раздвинул листья – и на тебе! – вместо ожидаемых дриад там курили, сидя на корточках, две чрезмерно располневшие дамы в неизящных риди. Красота голосов и глаз – вот и все, что осталось расплывшимся дамам, но голоса были поистине необыкновенные. Странно, что я никогда не слышал более приятного звука речи, хотя островной диалект отличался резкими, неприятными, странными вокабулами, даже сам Тембинок заявил, что этот язык его утомляет, и признался, что находит отдых, говоря по-английски.
О положении народа, которого почти не видел, я могу лишь догадываться. Сам король объясняет его хитро. «Нет, я им не плачу, – сказал он однажды. – Я даю им табак. Они работают на меня совсем как братья». Правда, на Адене был некогда брат! Но мы предпочитаем употреблять другое слово. Они обладают всеми чертами рабов: детским легкомыслием, неисправимой ленью, равнодушным смирением. Наглость повара была его личной чертой; легкомыслие – нет, он делил его с наивным дядюшкой Паркером. С одинаковой беззаботностью оба резвились под сенью виселицы и позволяли себе вольности со смертью, которые могли бы удавить нерадивого ученого, изучавшего природу. Я писал о Паркере, что он вел себя как десятилетний мальчишка: кем еще мог быть этот шестидесятилетний раб? Он провел все свои годы в школе, его кормили, одевали, за него думали, им командовали; он свыкся со страхом наказания и заигрывал с ним. Гнать страхом людей можно долго, но не далеко. Здесь, на Апемаме, они работают под постоянной угрозой мгновенной гибели и погружены в какую-то летаргию лени. Обычное дело видеть человека, идущего без пояса в поле, поэтому он идет, прижимая локти к корпусу, будто связанная птица, и что бы он ни делал правой рукой, левая должна поддерживать одежду. Обычное дело видеть, как двое мужчин несут на шесте одно ведро воды. Вполне можно откусывать от вишни дважды, делать две ноши из солдатского ранца, но пройти с ними полфурлонга – это уж слишком. Женщины, будучи менее ребячливыми существами, меньше расслаблены рабским состоянием. Даже в отсутствии короля, даже когда они одни, я видел апемамских женщин, работавших непрерывно. Но самое большее, чего можно ждать от мужчины, – что он будет работать урывками, подолгу отдыхая. Я видел, что так работали и куривший трубку художник и его сидевший у камина друг. Можно предположить, что у этого народа нет никакой культуры, даже живости, пока не увидишь его в танцах. Из ночи в ночь, иногда день за днем они распевают хором песни в Доме Совета – торжественные адажио и анданте, исполняемые под хлопанье в ладоши с такой силой, что крыша содрогается. Ритм его не столь уж медленный, хотя медленный для островов; но я предпочитаю рассказывать о воздействии на слушателей. Музыка вблизи похожа на церковную, и европейскому уху кажется более правильной, чем быстрый темп островной музыки.
Я дважды слышал правильно разрешенный диссонанс. Издали, из города Экватор, к примеру, музыка усиливается, ослабевает и хрипит, словно собачий лай в далекой псарне.
Рабы определенно не перетруждались – десятилетние дети могут сделать больше, не устав, и у апемамских тружеников есть выходные, когда пение начинается вскоре после полудня. Диета скудная; копра и сладкая мякоть пандануса – единственные блюда, какие я видел за пределами дворца, но в количестве, кажется, ограничений нет, и король делится с ними своими черепахами. Во время нашего пребывания на лодке привезли с Курии трех, одна была оставлена для дворца, одна была послана нам, одна подарена деревне. У островитян существует обычай готовить черепаху в собственном панцире, панцири обещали нам отдать, и мы попросили короля наложить тапу на этот глупый обычай. Лицо Тембинока помрачнело, и он промолчал. Колебания в вопросе о колодце я мог понять, поскольку воды на низком острове мало; что он откажется вмешиваться в вопрос стряпни, я даже не надеялся, и пришел к выводу (не знаю, верному или нет), что он не хочет ни в коей мере касаться личной жизни и привычек своих рабов. Так что даже здесь, при полном деспотизме, общественное мнение кое-что значит, даже здесь, в атмосфере рабства, есть какой-то уголок свободы.
Жизнь на острове течет размеренно, спокойно, благонравно, как на образцовой плантации у образцового плантатора. В благотворности этого сурового правления сомневаться невозможно. Для большинства апемамцев характерны причудливая любезность, мягкие, приятные манеры, нечто женственное и угодливое; об этом говорили все торговцы, это ощущали даже столь малолюбимые жители, как мы, это было заметно даже в поваре, даже когда он позволял себе наглость. Король со своим мужественным, простым поведением очень резко выделяется из всех, его можно назвать единственным гилбертянцем на Апемаме. Столь обычное в Бутаритари насилие здесь как будто бы неизвестно. Кражи и пьянство тоже. Меня уверяли, что в виде эксперимента на пляже перед деревней оставили золотые соверены – они так и лежали нетронутыми. Пока мы жили на острове, спиртного у меня попросили всего лишь раз. Обратился за ним весьма благопристойный человек, носивший европейскую одежду и прекрасно говоривший по-английски, – зовут его Тамаити, или, как переделали это имя белые, Том Уайт: он один из королевского суперкарго получает в месяц три фунта и проценты, кроме того, он медик и в личное время колдун. Однажды он нашел меня на окраине деревни в жарком укромном месте, где ямы для таро глубокие, а растения высокие. Здесь Том Уайт подошел ко мне и, озираясь, будто заговорщик, спросил, есть ли у меня джин.
Я ответил что есть. Том Уайт заметил, что джин запрещен, какое-то время расхваливал этот запрет, а потом стал объяснять, что он врач, что джин необходим ему для настоек, что у него не осталось ни капли и что будет благодарен мне за какое-то количество. Я сказал ему, что, сходя на берег, дал королю слово, но поскольку тут столь исключительный случай, немедленно отправлюсь во дворец и не сомневаюсь, что Тембинок возражать не будет. Том Уайт тут же смутился, перепугался, попросил в самых трогательных выражениях не выдавать его и исчез. У него не было смелости повара, прошла неделя, прежде чем он осмелился вновь показаться мне на глаза, да и то по приказу короля и по особому делу.
Чем больше я наблюдал это торжество твердого владычества и восхищался им, тем больше занимала и тревожила меня проблема нашего будущего. Здесь люди защищены от всех серьезных несчастий, избавлены от всех серьезных тревог и лишены того, что мы именуем нашей свободой. Нравится им это? И какие чувства питают они к правителю? Задать первый вопрос я, разумеется, не мог, туземцы, пожалуй, не могли на него ответить. Даже второй был щекотливым, однако в конце концов, при очаровательных и странных обстоятельствах, я нашел возможность задать его и услышать ответ. В небе висела почти полная луна, дул великолепный ветерок; остров был освящен, как днем, – спать было бы святотатством; и я гулял в кустах, играя на своей дудке. И возможно, звук того, что мне лестно называть своей музыкой, привлек в мою сторону другого странника в ночи. Это был молодой человек, облаченный в великолепную циновку. С венком на голове, потому что он шел с танцев и пения в общественном зале; лицо его, тело и глаза были чарующе красивы. На островах Гилберта часто встречаются юноши с этим нелепым совершенством; мы впятером провели полчаса, восхищаясь одним парнем на Марики; и Те Копа (моего приятеля с венком и в превосходной циновке) я видел уже несколько раз и давно счел самым красивым животным на Апемаме. Приворотное зелье восхищения, должно быть, очень крепкое, или туземцы особенно восприимчивы к его действию, потому что на этих островах я восхищался только теми, кто искал моего знакомства. Итак, это был Те Коп. Он повел меня к берегу океана, и мы часа два курили, разговаривали на сверкающем песке под неописуемо яркой луной. Мой приятель выказал себя очень чутким к красоте и прелести этой поры. «Хорошая ночь! Хороший ветер!» – то и дело восклицал он и этими словами словно поддерживал меня. Я давно придумал это повторяющееся выражение восторга для персонажа (Фелип в рассказе «Олалла»), задуманного только отчасти животным. Но в Те Копе не было ничего животного, была только детская радость этой минуты. Те Коп был меньше доволен своим компаньоном или, по крайней мере, имел любезность сказать так, почтил меня перед уходом, назвав «Те Коп», обратился ко мне «Мое имя!» с очень нежной интонацией, быстро положив при этом руку мне на колено; а когда мы поднялись и наши пути начали разделяться в кустах, дважды воскликнул с какой-то мягкой радостью: «Ты мне очень понравился!» Он с самого начала не делал секрета из страха перед королем, не хотел ни садиться, ни говорить громче, чем шепотом, пока между ним и монархом, уже безобидно спящим, не оказалась вся протяженность острова; и даже там, рядом с окружающим морем, где наш разговор заглушался шумом прибоя и шелестом ветра в пальмах, продолжал говорить осторожно, понижая свой серебряный голос (довольно громко звеневший в хоре) и озираясь, словно боялся шпиков. Странно, что я потом уже не видел его. На любом другом острове в Южных морях, если я провел половину того времени с любым туземцем, он наутро пришел бы ко мне с дарами и ожидал бы ответных. Но Те Коп исчез в кустах навсегда. К моему дому, разумеется, подходить запрещалось; но парень знал, где найти меня на океанском пляже, куда я ходил ежедневно. Я был Каупои, богатый человек, мой табак и товары для торговли считались нескончаемыми, он был уверен в подарке. Не знаю, как объяснить его поведение, разве только тем, что Те Коп вспомнил со страхом и раскаянием один отрывок из нашего разговора. Вот он:
– Король, он хороший человек? – спросил я.
– Если ты ему нравишься, хороший, – ответил Те Коп, – не нравишься – нет.
Разумеется, объяснить это можно только одним образом. Те Коп, видимо, не был фаворитом, так как не произвел на меня впечатление трудолюбивого. И явно было много других, которые (будем придерживаться этой формулировки) не нравились королю. Нравился ли этим несчастным король? Или скорее антипатия была взаимной? И добросовестный Тембинок, как до него добросовестный Брэксфилд и много добросовестных правителей и судей, окружен множеством «недовольных». Взять, к примеру, повара, когда он прошел мимо нас, синий от ярости и ужаса. Он был очень разгневан на меня; думаю, по всем древним принципам человеческой природы он был не особенно доволен своим повелителем. Он хотел устроить засаду богатому человеку; уверен, что немногое отделяло от того, чтобы устроить засаду самому королю. А король предоставляет, или кажется, что предоставляет, много возможностей; он днем и ночью ходит за пределы частокола один, вооруженный или нет, можно только догадываться; а заросли таро, куда он ходит по делам часто, кажется, созданы для убийства. Случай с поваром лежал тяжелым бременем на моей совести. Я не хотел убивать своего врага чужими руками, но были ли вправе скрывать от короля, который доверял мне, опасный характер его слуги? И если б король пал, какая судьба ждала бы его друзей? Мы тогда полагали, что могли бы дорого заплатить за то, что колодец был закрыт, что мы живы, пока жив король, что, если короля убьют в роще таро, философствующие и музицирующие жители города Экватор могут откладывать музыкальные инструменты и прибегать ко всем доступным средствам обороны с очень туманной перспективой успеха. Эти размышления вызвали у нас инцидент, о котором стыдно говорить. Шхуна «Х.Л. Хейзелтайн» (впоследствии опрокинувшаяся в море, что стоило жизни одиннадцати людям) подошла к Апемаме в добрый час для нас, почти прикончивших свои припасы. Король, по своему обыкновению, день за днем проводил на борту; джин, к сожалению, пришелся ему по вкусу; он привез запас его с собой на берег, и какое-то время единственному тирану острова было море по колено. Он не бывал пьян – этот человек не пьяница, у него под рукой всегда есть запас выпивки, которую он потребляет умеренно, но был одуревшим, тупым, бестолковым. Однажды он пришел к нам обедать и, пока стелили скатерть, заснул в кресле. Его смущение, когда он проснулся, не уступало нашему беспокойству. Когда он ушел, мы сидели и говорили об опасности, в которую попали он и в известной мере мы, о том, как легко могут на человека в таком состоянии напасть недовольные, о страшных сценах, которые последовали бы затем: королевские сокровища и склады оказались бы в руках сброда, дворец захвачен, женский гарнизон брошен на произвол судьбы. По ходу разговора нас испугал выстрел и внезапный варварский крик. Думаю, мы все побледнели, но это просто-напросто король выстрелил в собаку, а в Доме Совета запел хор. Два дня спустя я узнал, что король очень болен; отправился туда, поставил диагноз и сразу же стал медицинским светилом, достав питьевую соду. Меньше чем через час Ричард ожил, я нашел его в недостроенном доме, где он вдвойне наслаждался, давая указания Рубаму, обедая клецками из кокосовых орехов и радуясь тому, что стал обладателем рецепта нового болеутолителя – на острове болеутолителем называются все лекарства. Так окончились умеренный загул короля и наша тревога.
Благонадежность его, должен сказать, оставалась непоколебимой. Когда шхуна в конце концов вернулась за нами, натерпевшись от противных ветров, она привезла весть, что Тебуреимоа объявил войну Апемаме. Тембинок преобразился – лицо его сияло; поза его, когда я увидел монарха председательствующим на совете вождей в одном из дворцовых маниапов, была ликующей, как у мальчишки; голос его, резкий и торжествующий, оглашал всю территорию дворца. Война – это то, чего он жаждет, и вот случай представился. Когда он топил в лагуне оружие, английский капитан запретил ему (за исключением единственного случая) в будущем все военные приключения; и вот этот случай настал. Совет заседал все утро; всю вторую половину дня обучали людей, покупали оружие, раздавалась стрельба, король составил и сообщил мне план кампании, весьма изобретательный и продуманный, но, возможно, несколько изощренный для грубых и неожиданных превратностей войны. И во всей этой шумихе проявлялся превосходный характер людей, в каждом лице было необычное оживление, и даже дядька Паркер горел воинским пылом.
Разумеется, тревога оказалась ложной. У Тебуреимоа были другие заботы. Посол, сопровождавший нас на обратном пути в Бутаритари, выяснил, что он удалился на маленький островок рифа, рассерженный на Стариков, разгневанный на торговцев и в большем страхе перед мятежом дома, чем с желанием воевать за границей. Тебуреимоа был отдан под мое покровительство; и при встрече мы торжественно приветствовали друг друга. Он оказался прекрасным рыбаком и поймал скумбрию через борт судна. Хорошо греб и приносил пользу в течение всей жаркой второй половины дня, буксируя заштиленный «Экватор» от Марики. Он вернулся на свой пост и никакой пользы не принес. Вернулся домой, не причинив никакого вреда. О si sic omnes![57]57
О если бы так все! (лат.)
[Закрыть]
Глава шестая
КОРОЛЬ АПЕМАМЫ. ДЬЯВОЛЬСКАЯ РАБОТА
Океанский пляж Апемамы был нашим ежедневным местом отдыха. Берег изрезан мелкими бухтами. Риф обособлен, возвышен и включает в себя лагуну глубиной примерно по колено, в нее постоянно захлестывал прибой. Поскольку берег выпуклый, его можно видеть от силы на четверть мили; земля до того низкая, что до горизонта, кажется, можно добросить камнем; и узкая перспектива усиливает ощущение одиночества. Человек избегает этого места – даже следов его здесь мало, но множество птиц с криками парит там, ловит рыбу и оставляет изогнутые следы на песке. Единственный кроме этого звук (и единственное общество) создают буруны.
На каждом выступе берега сразу же над пляжем коралловые обломки выровнены и выстроен столб высотой примерно по грудь. Это не надгробья; всех мертвых хоронят на обитаемой стороне острова, близко к домам жителей и (что хуже) к их колодцам. Мне сказали, что столбы возведены для защиты Апемамы от вторжений с моря – это божественные или дьявольские мартелло, возможно, посвященные Табурику, богу грома.
Бухта прямо напротив города Экватор, которую мы назвали Фу в честь нашего повара, была так укреплена на обоих выступах берега. Она хорошо защищена рифом, вода в ней чистая, спокойная, окружающий ее пляж, широкий и крутой, изогнут подковой. Дорога выходит на открытую местность примерно посередине, лес кончается на некотором расстоянии от берега. Спереди, между опушкой леса и гребнем пляжа, была размечена правильная геометрическая фигура, похожая на корт для какой-то новой разновидности тенниса, границы ее были выложены круглыми камнями, по углам стояли невысокие столбы, тоже из камня. Это было молитвенное место короля. О чем и о ком он молился, я так и не смог узнать. Эта территория представляла собой тапу.
В углу у конца дороги стоял маниап. Поблизости от него был дом, теперь перевезенный и временно представлявший собой город Экватор. Он был и будет после нашего отъезда резиденцией колдуна и хранителя этого места – Тамаити. Здесь, на отшибе, где слышен шум моря, у него было жилье и чародейская служба. Я не помню, чтобы кто-то еще жил на океанской стороне открытого атолла; и Тамаити должен был обладать крепкими нервами, еще более крепкой уверенностью в силе своих чар или, что мне кажется истиной, завидным скептицизмом. Охранял Тамаити молитвенное место или нет, не знаю. Но его собственная молельня стояла подальше, на опушке леса. Она представляла собой высокое дерево. Вокруг него был очерчен круг, обложенный такими же камнями, как молитвенное место короля; с морской стороны близко к стволу стоял камень гораздо большего размера с небольшой выемкой в виде умывальницы; перед камнем была коническая куча гальки. В углублении того, что я назвал умывальницей (хотя оказалось, что это волшебное сиденье), лежало жертвоприношение в виде зеленых кокосовых орехов; а подняв взгляд, зритель обнаруживал, что дерево увешано странными плодами: причудливо заплетенными пальмовыми ветвями и прекрасными моделями каноэ, отделанными и оснащенными до мелочей. В целом оно выглядело летней лесной рождественской елкой al fresco. Однако мы были уже хорошо знакомы с островами Гилберта и с первого взгляда узнали в нем орудие колдовства или, как говорят на этом архипелаге, дьявольской работы.
Узнали мы заплетенные пальмовые ветви. Мы уже видели их на Апианге, наиболее христианизированном из этих островов, где жил и работал высокочтимый мистер Бингем, оставивший о себе добрые воспоминания, откуда ведет начало все просвещение на северных островах Гилберта и где нас осаждали маленькие туземки, ученицы воскресной школы, в чистых халатах, с застенчивыми лицами, певшие псалмы на местный манер.
Знакомство наше с дьявольской работой на Апемаме было таким: мы засиделись дотемна в доме капитана Тирни. Жилье мы снимали у одного китайца в полумиле оттуда, поэтому капитан Рейд и парень-туземец провожали нас с факелом. По пути факел погас. И мы зашли в маленькую пустую христианскую часовню зажечь его снова. Среди балок часовни была воткнута пальмовая ветвь с завязанными в узлы листьями. «Что это?» – спросил я. «Дьявольская работа», – ответил капитан. «А что она представляет собой?» – поинтересовался я. «Если хотите, покажу вам кое-что, когда дойдем до „Дома Джонни“, – сказал он. Это был причудливый домик на гребне пляжа, стоявший на трехфутовых сваях, в него вела лестница; кое-где вместо стен там были решетки с вьющимися растениями. Внутри его украшали рекламные фотографии. Там были стол и складная кровать, на которой спала миссис Стивенсон, я располагался на покрытом циновками полу с Джонни, миссис Джонни, ее сестрой и дьявольским полчищем тараканов. Туда позвали старую колдунью, дополнявшую собой весь тот кошмар. Лампу поставили на пол, старуха села на порог, в руке она держала зеленую пальмовую ветвь, свет ярко освещал ее старческое лицо и выхватывал из темноты за ее спиной робкие лица зрителей. Наша волшебница начала с чтения нараспев заклинаний на древнем языке, переводчика с которого у меня не было; однако вновь и вновь в толпе снаружи раздавался смех, который быстро начинает распознавать любой из путешественников по тем островам, – смех ужаса. Вне всякого сомнения, эти полухристиане были потрясены, эти полуязычники испуганы. Мы спросили, к кому она обращается: к Ченчу или Табурику, – старуха завязывала узлами листья то здесь, то там, явно по какой-то арифметической системе, осмотрела с явно громадным удовольствием результат и дала ответы. Синди Колвин пребывал в добром здравии и совершал путешествие; у нас завтра должен был быть попутный ветер: таков был итог нашей консультации, за которую мы заплатили доллар. Следующий день занялся ясным и безветренным, но, думаю, капитан Рейд втайне поверил этой прорицательнице, потому что шхуна его была готова к выходу в море. К восьми часам лагуна покрылась рябью, пальмы закачались, зашелестели, до десяти часов мы плыли из пролива и шли под всеми незарифленными парусами, с бурлящей у шпигатов водой. Так что мы получили ветер, вполне стоивший доллара, но сведения о моем друге в Англии, как выяснилось полгода спустя, когда я получил почту, были неверными. Видимо, Лондон лежит за горизонтом островных богов.
Тембинок во время первых сделок показал себя суровым противником суеверий; и не задержись там «Экватор», мы бы могли покинуть остров, считая его агностиком. Однако же он как-то пришел к нам в маниап, где миссис Стивенсон раскладывала пасьянс. Она, как могла, объяснила, что представляет собой эта игра, и в шутку заключила, что это ее дьявольская работа, и если пасьянс выйдет, «Экватор» прибудет на другой день. Тембинок, по всей видимости, облегченно вздохнул; мы оказались не такими уж отсталыми; ему больше не требовалось притворяться, и он тут же ударился в исповедь. Сказал, что каждый день тоже занимается дьявольской работой, чтобы узнать, появятся ли суда, а потом принес нам настоящий отчет о результатах. Поразительно, до чего регулярно он ошибался, однако объяснения у него были всегда наготове. В открытом море, но не на виду была шхуна, но она либо шла не к Апемаме, либо изменила курс, либо заштилела. Когда король так публично обманывал себя, я взирал на него с каким-то почтением. Видел за ним всех отцов, всех философов и ученых прошлого; перед ним – всех тех, что появятся в будущем, а себя посередине; все эти воображаемые плеяды трудились над одной и той же задачей совмещения несовместимого. Табурик, бог грома, управляет ветрами и погодой. Недавно существовали колдуньи, способные призвать его на землю в виде молнии. «Мой папа, он говори мне, он видеть: думаете, он лгать?» Тиенти, которого его величество называл похоже на «Ченч» и считал дьяволом, насылает и уносит телесные болезни. Его вызывают свистом на паумотский манер, и, говорят, он появляется; но король его ни разу не видел. Врачи лечат болезни с помощью Ченча: эклектичный Тембинок при этом выдает «болеутолитель» из своего шкафчика с лекарствами, чтобы предоставить больному обе возможности. «Я думает много лучша», – заметил его величество с большим чем обычно самодовольством. Очевидно, эти боги неревнивы и спокойно довольствуются общими алтарем и жрецом. К примеру, на лекарственном дереве Тамаити модели каноэ подвешены ex voto[58]58
из благодарности (лат., см. комментарии)
[Закрыть] для успешного плавания и поэтому должны были быть посвящены Табурику, богу погоды, но к камню перед ним больные приходят, чтобы умиротворить Ченча.
К великому счастью, когда мы говорили об этих делах, я почувствовал признаки простуды. Не думаю, что когда-либо радовался простуде в прошлом или буду радоваться когда-нибудь в будущем, но эта возможность увидеть колдунов за работой была бесценной, и я призвал апемамских целителей. Они пришли скопом в лучших одеяниях, увешанные венками, раковинами, знаками отличия дьявольской работы. Тамаити я уже знал, Терутака видел впервые – это был высокий, тощий, серьезный рыбак из северных морей, ставший колдуном. В их обществе был третий, имени его я ни разу не слышал, он играл при Тамаити роль фамулуса[59]59
помощник (полинезийск.)
[Закрыть]. Тамаити принялся за меня первым и повел, дружелюбно разговаривая, к берегу бухты Фу. Фамулус полез на пальму за зелеными кокосовыми орехами. Сам Тамаити исчез на время в кустах и вернулся с сухими веточками, листьями и пучками восковицы. Меня усадили на камень спиной к дереву, лицом к ветру, между мной и кучей гальки был положен один из зеленых орехов, а затем Тамаити (предварительно разувшийся, так как пришел в парусиновых туфлях, причинявших ему страдания) вошел ко мне в волшебный круг. Сделал ямку в вершине галечного конуса, сложил там костер и поднес к нему спичку марки «Байрент и Мэй». Костер никак не загорался, и непочтительный волшебник заполнял время разговорами о чужеземных местах – о Лондоне и «компаниях», о том, как у них много денег; о Сан-Франциско и отвратительных туманах, «совсем как дым», которые едва не стали причиной его смерти. Тщетно я пытался вернуть его к насущному делу. «Все делает лекарство», – беспечно сказал он. А когда я спросил, хороший ли он врач, ответил еще беспечнее: «Не знаю». Наконец листья вспыхнули. И он стал поддерживать огонь, в лицо мне несся густой светлый дым, языки пламени тянулись к моей одежде и опаляли ее. Тамаити тем временем взывал или притворялся, что взывает, к злому духу, губы его двигались быстро, но беззвучно; при этом он размахивал в воздухе и дважды ударил меня по груди пучком травы. Как только листья превратились в пепел, трава была вставлена в кучу гальки, и церемония окончилась.
Читатель «Тысячи и одной ночи» чувствовал себя легко. Тут было окуривание, тут было бормотание колдуна, тут было пустынное место, куда заманил Алладина мнимый дядя. Но в сказках это все гораздо лучше. Эффект был испорчен легкомыслием волшебника, развлекающего пациента болтовней, будто любезный дантист, и неуместным присутствием мистера Осборна с фотоаппаратом. Что до простуды, здоровье мое не стало ни лучше, ни хуже.
Затем Тамаити передал меня Терутаку, ведущему врачу или медицинскому баронету Апемамы. Его место находится возле лагуны, почти рядом с дворцом. Загородка из тонких жердей высотой около трех футов окружает продолговатую, выложенную галькой площадку, похожую на молитвенное место короля, посередине ее растет зеленое дерево, под ним на каменном столе два ящика, накрытых тонкой циновкой, перед ними ежедневно кладется жертвоприношение – кокосовый орех, кусочек таро или рыбы. Вдоль двух сторон площади стоит маниап, и один член нашей компании, ходивший туда рисовать, замечал там ежедневное скопление народа и множество больных детей; в сущности, это и есть апемамский лазарет. Врач и я вошли в это священное место одни; ящики с циновкой были убраны; вместо них на камень был усажен я, вновь лицом на восток. Какое-то время волшебник оставался невидимым за моей спиной, делал в воздухе пассы пальмовой ветвью. Потом он слегка стукнул по полю моей соломенной шляпы; и этот удар он повторял время от времени, иногда проводя рукой по моей руке и плечу. Меня уже пытались загипнотизировать добрый десяток раз и все без малейшего результата. Но от первого удара – по части тела не более жизненно важной, чем поля шляпы, ничем более магическим, чем пальмовый прутик в руке человека, которого я не видел, – сон набросился на меня, словно вооруженный человек. Мои мышцы расслабились, сперва инстинктивно, потом с каким-то возбуждением отчаяния, в конце концов успешно, если можно назвать успехом, что я кое-как поднялся на ноги, сонно побрел домой, где сразу же бросился на кровать и моментально погрузился в сон без сновидений. Когда проснулся, моя простуда прошла. Так что я оставляю дело, которого не понимаю.
Тем временем мой интерес к необычным вещам (обычно не очень острый) был странно возбужден священными ящиками. Они были из древесины пандануса, продолговатые, словно бы с соломенным плетением по бокам, слегка покрытые волосками или волокнами и стояли на четырех ножках. Внешность их была изящной, как у игрушек; внутри находилась тайна, в которую я задался целью проникнуть. Но тут существовало препятствие. Я не мог обратиться к Терутаку, так как обещал ничего не покупать на острове, обращаться к королю не смел, потому что получил от него столько даров, что не знал, как смогу его отблагодарить. В поисках решения этой дилеммы (шхуна наконец вернулась) мы прибегли к хитрости. Вместо меня покупателем выступил капитан Рейд, выказал неудержимую страсть к этим ящикам и добился разрешения поторговаться за них с волшебником. В тот же день мы с капитаном поспешили в лазарет и принялись неторопливо разглядывать ящики, тут из одного стоявшего поблизости дома выскочила жена Терутака, оттолкнула нас, схватила эти сокровища и исчезла. Более полной неожиданности не бывало. Она появилась, схватила, скрылась, мы понятия не имели куда и остались с глупым видом и смехом на пустой площадке. Это был подходящий пролог к нашей достопамятной торговле.








