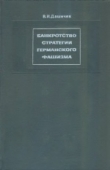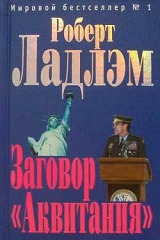
Текст книги "Заговор «Аквитания»"
Автор книги: Роберт Ладлэм
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Глава 3
«Боинг-747» оторвался от взлетной полосы афинского аэропорта Геликон и подался влево, стремительно набирая высоту. Внизу четко просматривалось примыкающее к аэропорту огромное поле – американская база морской авиации, построенная здесь в соответствии с договором и в последние несколько лет сильно уменьшившаяся по числу летного состава. И тем не менее Средиземное, Ионическое и Эгейское моря пребывают под наблюдением жадного и пристального американского ока, а местные правительства, превозмогая недоверие и страх, пока еще идут на это, запуганные внушаемым им страхом перед северным соседом. Глядя вниз, Конверс разглядел знакомые очертания машин. По обеим сторонам спаренной взлетной полосы вытянулись «фантомы» «Ф-4Т» и «А-6Е» – усовершенствованные модели тех «Ф-4Г» и «А-6А», на которых он летал много лет назад.
До чего же легко вернуться в прошлое, подумал Конверс, наблюдая за тем, как три «фантома» покидали свои места на стоянке. Сейчас они устремятся вперед по взлетной полосе, а патрульный самолет будет уже в воздухе. Конверс почувствовал, как напряглись его руки, он мысленно сжал твердую перфорированную поверхность штурвала, потянулся к зажиганию, глаза уставились на приборную панель, проверяя, все ли в порядке. Сейчас двигатели разовьют тягу, он почувствует за собой огромную подъемную силу спрессованных тонн и станет сердцем сверкающей птицы, стремящейся вырваться в свою привычную среду обитания. Последняя проверка, все в порядке; готов к взлету. Так освободи же мощь этой птицы, пусть она летит. Взлет! Быстрее, быстрее; земля превращается в размытое пятно, голубое море под ним, голубое небо над ним. Так лети же, птица! Пусть и я стану свободным, как ты!
Интересно, сможет ли он еще проделать это, не выветрились ли за все эти годы уроки, которые он усвоил еще мальчишкой, а потом во время службы в армии. После демобилизации в годы студенчества в Массачусетсе и Северной Каролине он часто отправлялся на маленькие частные аэродромы и брал напрокат слабосильные одномоторные самолеты, пытаясь отвлечься от жизненных тягот и хоть на короткий миг окунуться в свободные синие просторы. Но в тех полетах не было вызова, не возникало ощущения укрощенной мощи. А потом… потом и это прекратилось, на долгое, долгое время. Ушли в небытие визиты на аэродромы по уик-эндам, мальчишеские забавы со стройными машинами – он был связан данным словом. Его жену приводили в ужас эти полеты. Валери никак не могла соотнести их со своей собственной шкалой ценностей. И, повинуясь минутному порыву, он дал однажды слово, что никогда больше не сядет в кабину самолета. Обещание это не очень тяготило его, пока он не понял – пока они оба не поняли, – что брак их пошел насмарку, после чего он стал ездить на летное поле Тетерборо в Нью-Джерси всякий раз, когда ему удавалось урвать свободное время, и там летал на любых попавшихся под руку машинах в любое время дня и ночи, пытаясь обрести свободу в голубом просторе. И все же даже тогда – особенно тогда – он не видел в этих полетах вызова, и не было никакого зверя, которого нужно укрощать, кроме того, что сидел внутри его самого.
«Боинг-747» вышел на курс и стал набирать заданную высоту, земля исчезла. Конверс отвернулся от окна и поудобнее устроился в кресле. Светящаяся табличка «Не курить» погасла, и Джоэл вытащил из нагрудного кармана рубашки пачку сигарет и вытряхнул одну из них. Он щелкнул зажигалкой, и дым был моментально втянут размещенным над креслом вентилятором. Он взглянул на часы – 12.20. В аэропорту Орли они должны быть в 15.35. За эти три часа он должен постараться затвердить как можно больше сведений о генерале Жаке Луи Бертольдье, по уверениям Биля и покойного Холлидея, – полномочного представителя «Аквитании» в Париже.
В аэропорту Геликон он позволил себе блажь, доступную разве что героям романтических повестей, кинозвездам или идолам рок-групп. Кроме денег, у него появились теперь страх и осторожность, и он оплатил два соседних места в салоне первого класса, чтобы никакой сосед не смог заглядывать в бумаги, которые ему предстояло изучить. Старик Биль с устрашающей откровенностью разъяснил ему прошлой ночью: если возникнет хоть малейшая опасность, что бумаги могут попасть в чужие руки – любые чужие руки, – он обязан их уничтожить. Люди, фигурирующие в них, одним телефонным звонком способны вынести смертный приговор очень многим.
Он потянулся к стоящему рядом атташе-кейсу, ручка которого еще не просохла от пота – с такой силой он сжимал ее начиная с сегодняшнего утра на Миконосе. Впервые в жизни он осознал ценность приспособления, известного ему лишь по детективам и фильмам. Несмотря на ужесточение мер по обеспечению безопасности пассажиров, он чувствовал бы себя намного спокойнее, будь этот атташе-кейс прикован цепочкой к его запястью.
«Жак Луи Бертольдье, пятидесяти девяти лет, единственный сын Альфонса и Мари Терезы Бертольдье, родился в военном госпитале Дакара. Отец – профессиональный офицер французской армии, по общему мнению, человек властный, привержен самой строгой дисциплине. О матери известно мало, кое о чем может свидетельствовать тот факт, что Бертольдье избегает упоминаний о ней, как бы вообще отрицая ее существование. Четыре года назад в возрасте пятидесяти пяти лет он вышел в отставку и в настоящее время является директором „Жюно и Си“ – довольно консервативной фирмы, зарегистрированной на „Бурс де Валера“ – Парижской фондовой бирже.
Ранние годы его были типичны для сына офицера, часто переезжающего из одного гарнизона в другой, с привилегиями, даваемыми отцовским званием и связями. Он привык к услугам денщиков и к пресмыкательству отцовских подчиненных. От себе подобных он отличался только своими личными качествами. Утверждают, что к пяти годам он уже управлялся с полным комплексом упражнений по строевой подготовке, а к десяти знал назубок все уставы.
В 1938 году семья Бертольдье снова в Париже, отец становится членом Генерального штаба. Время было сумбурное, неумолимо надвигалась война с Германией. Бертольдье-старший был одним из немногих старших офицеров, понимавших, что линия Мажино не удержит врага. Его резкие высказывания настолько обозлили коллег по Генеральному штабу, что они постарались сплавить его подальше от Парижа, поручив командование Четвертой армией на северо-восточной границе.
Началась война, и отец был убит на пятой неделе боевых действий. Шестнадцатилетний Бертольдье учился в то время в одной из парижских школ.
Падение Франции в июне 1940 года можно считать началом взрослой жизни нашего героя. Он вступает в ряды Сопротивления, сначала курьером, затем в ходе четырех лет борьбы занимает различные командные посты, вплоть до должности командующего подпольным сектором Кале – Париж. По службе ему часто приходилось тайно наведываться в Англию для координации операций саботажа и шпионажа с командованием „Свободной Франции“ и английской разведкой. В феврале 1944 года, ему было тогда двадцать лет, генерал де Голль присвоил Бертольдье временное звание майора.
За несколько дней до того, как союзные войска заняли Париж, Бертольдье был тяжело ранен в уличной стычке между бойцами Сопротивления и отступающими немецкими частями, потому не смог участвовать в военных действиях до самого конца войны. После капитуляции Германии де Голль в знак признания заслуг героя подполья определил его в Сен-Сир, национальную военную академию. По окончании академии ему в двадцать четыре года было присвоено звание капитана, на этот раз постоянное. Он служил на командных должностях во французском Марокко и Алжире, был переброшен на другой конец света – в Хайфон и, наконец, осел в штабе оккупационных войск союзников, сначала в Вене, затем в Западном Берлине (последнее заслуживает особого внимания в связи с прилагаемыми ниже сведениями о фельдмаршале Эрихе Ляйфхельме. Здесь и произошла их первая встреча, переросшая в дружбу, сначала вполне открытую, впоследствии скрываемую, а после выхода в отставку – отрицаемую вовсе)».
Опустив все, что касалось Эриха Ляйфхельма, Конверс попытался вдуматься в образ юного героя Сопротивления, которым некогда был Жак Луи Бертольдье. Будучи по складу характера сугубо штатским человеком, Джоэл каким-то странным образом понимал чувства военного, описанного на этих страницах. Не будучи героем, он и сам пережил при возвращении торжественную встречу, уместную скорее для тех, кто прославился подвигами на полях сражения, а не длительным пребыванием в плену. И тем не менее оказанное внимание – просто внимание! – давало ему преимущества, от которых трудно было отказаться. Смущаясь поначалу, человек довольно быстро привыкает к ним, а затем уже и требует их. Признание кружит голову, а сопутствующие ему привилегии начинают восприниматься как нечто само собой разумеющееся. И когда внимание постепенно уходит, это вызывает горечь и стремление повернуть все вспять.
Эти чувства испытал даже он, человек, который никогда не стремился к власти, к успеху – пожалуй, но к власти – нет. Что же говорить о том, кто был воспитан в атмосфере почитания власти и авторитетов и кто сам в юном возрасте испытал радости головокружительной карьеры? Не так-то легко отобрать что-нибудь у такого человека – тут озлобление неизбежно примет самые яростные формы. И все же Бертольдье в пятьдесят пять лет уходит в отставку, в возрасте сравнительно молодом для такого многообещающего военного. Подобное как-то не вписывалось в образ этого Александра Македонского наших дней. Пока что картина была неполной.
«Следует обратить особое внимание на время, в которое происходил служебный взлет Бертольдье. После службы в Марокко и Алжире, где назревало народное восстание, его перевели во французский Индокитай. Там положение колониальных войск становилось все более напряженным, а вскоре вспыхнула и ожесточенная партизанская война. О его участии в боевых действиях сразу заговорили в Сайгоне и Париже. Части под его командованием одержали несколько редких, но долгожданных побед, которые хотя и не изменили общего хода войны, но утвердили твердолобых милитаристов во мнении, что галльские доблесть и стратегическое искусство способны одержать победу над презренными азиатами – нужны лишь материальные ресурсы, в которых отказывает Париж. Капитуляция при Дьенбьенфу стала горькой пилюлей для тех, кто утверждал, что лишь предательство Ке-д’Орсе [6]6
На набережной Ке-д’Орсе находится здание Министерства иностранных дел.
[Закрыть] довело Францию до этого позора. И даже после этого разгрома Бертольдье остался одной из немногих героических фигур, при этом благоразумно помалкивая и не становясь, по крайней мере открыто, на сторону „ястребов“. Многие объясняли это тем, что он просто ждал сигнала, который так и не поступил. А потом он получил новые назначения – сначала в Вену, а затем в Западный Берлин.
Через четыре года он все же отступил от столь тщательно создаваемого образа. По его собственным словам, он был „возмущен и разочарован“ отношением де Голля к требующим свободы рук воинским контингентам в Алжире и перешел на сторону ОАС под командой генерала Рауля Салана, выступавшего против правительственного курса, который он называл „предательским“. В этот бунтарский период своей жизни Бертольдье стал участником одного из покушений на жизнь де Голля. После ареста Салана в апреле 1962 года и разгрома повстанческих сил Бертольдье снова всплыл на поверхность с репутацией, ничуть не запятнанной сотрудничеством с заговорщиками. Де Голль предпринял весьма неожиданный и не вполне понятный шаг – он выпустил из тюрьмы Бертольдье и предоставил ему не только свободу, но и высокий пост на Ке-д’Орсе. О чем они говорили в беседе с глазу на глаз, осталось неизвестным, но Бертольдье сохранил свой чин. Единственным упоминанием де Голля об этой истории были слова, произнесенные им на пресс-конференции 4 мая 1962 года (даны в дословном переводе): „Великий солдат и патриот заслуживает, чтобы ему простили единственную ошибку. Мы беседовали. И мы оба удовлетворены“. Больше он никогда не возвращался к этому вопросу.
Семь лет Бертольдье занимал весьма высокие посты, был произведен в генералы и до выхода Франции из НАТО чаще всего служил военным атташе французских посольств в ведущих странах. Нередко он сопровождал де Голля на различные международные конференции. Фотографии его в непосредственной близости от великого человека постоянно появлялись в газетах. Странно, однако, что по окончании всех этих конференции – или саммитов, – несмотря на его большой вклад в их работу, его неизменно отсылали по месту службы, а обсуждения поднятых на них проблем проводились уже без него. Создавалось впечатление, будто его держат в постоянной готовности, но так и не поручают ведение дел. Было ли это ожиданием того самого сигнала, которого он ждал семь лет в Дьенбьенфу? На этот вопрос у нас пока нет ответа, но мы считаем жизненно необходимым разобраться в этом.
После драматической отставки де Голля в 1969 году карьера Бертольдье пошла на убыль. Все последующие назначения были весьма далеки от центров политической власти и оставались таковыми вплоть до его отставки. Проверка банковских счетов, кредитных карточек, равно как и списков регистрации пассажиров авиалиний, показала, что в течение последних восемнадцати месяцев данное лицо совершило следующие поездки: Лондон – 3; Нью-Йорк – 2; Сан-Франциско – 2; Бонн – 3; Йоханнесбург – 1; Тель-Авив – 1 (одновременно с поездкой в Йоханнесбург). Картина ясна. Она вполне совпадает с размещением нервных узлов операций генерала Делавейна».
Конверс энергично протер глаза и позвонил стюардессе. Дожидаясь порции виски, он бегло просмотрел еще несколько абзацев – малоинтересные, можно сказать, второстепенные вещи. Именем Бертольдье не прочь были воспользоваться некоторые ультраправые группировки, пытавшиеся втянуть его в политические баталии, но из этого ничего не вышло. Тот призыв, которого он ждал всю жизнь, так до него и не донесся. В пятьдесят пять лет он расстался с армией и стал директором и номинальным главой довольно крупной фирмы на Парижской фондовой бирже. Используя свое легендарное имя, он противостоял экспансии денежных мешков и держал в узде социалистически настроенные элементы в руководстве.
«Повсюду он разъезжает в предоставленном ему компанией лимузине (читай – штабной машине), и, куда бы он ни направлялся, прибытия его ждут и организуют достойную встречу. Автомобиль этот – темно-синий американский „Линкольн Континенталь“, регистрационный номер 100-1. Излюбленные рестораны: „Ритц“, „Жюльен“ и „Люкас-Карто“. Однако обедает он в частном клубе под названием „Непорочное знамя“ три-четыре раза в неделю. Это весьма закрытое заведение, членами его являются высокопоставленные военные, остатки богатой аристократии и богатые прихлебатели, которые, не обладая достоинствами первых двух групп, щедро оплачивают и тех и других только ради того, чтобы вращаться в их кругу».
Джоэл усмехнулся про себя – автор этих заметок не лишен юмора. И все-таки в них чего-то недоставало. Его проницательный ум юриста находил здесь пассажи, которые так и не получили объяснения. Что это за сигнал, которого Бертольдье дожидался в Дьенбьенфу? Что сказал царственный де Голль восставшему против него офицеру и что ответил этот бунтарь великому человеку? Почему его постоянно готовили, но только готовили, так и не допустив к власти? Почему нового Александра Македонского сначала натаскивали, потом помиловали, вознесли и после всего этого попросту отбросили? В этих страницах содержалась какая-то скрытая информация, но какая – Джоэл не мог понять.
Конверс обратился теперь к тому, что составитель досье считал завершающим мазком, но это мало что добавляло к уже имеющейся информации.
«Частная жизнь Бертольдье едва ли имеет какое-либо отношение к интересующим нас сторонам его деятельности. Брачный союз был заключен им в полном соответствии с максимами Ларошфуко – он был весьма полезен для обеих сторон как в смысле общественного положения и карьеры, так и в финансовом отношении. Короче говоря, брак был чисто деловой сделкой. Детей у них не было, и, хотя мадам Бертольдье зачастую появляется вместе с супругом на правительственных и светских приемах, их редко видят оживленно беседующими. Как и в случае с матерью, Бертольдье избегает в разговорах упоминаний о жене. Возможно, это объясняется какими-то особенностями его психологии, однако для таких выводов у нас нет серьезных оснований. Немаловажно и то, что Бертольдье пользуется репутацией неутомимого поклонника женского пола, временами содержит до трех любовниц одновременно, не говоря уже о мелких случайных связях. Среди своих у него имеется прозвище, которое так и не попало на страницы светской хроники, – Великий Тимон, и, если читающий это нуждается в переводе, можем порекомендовать ему хорошенько напиться на Монпарнасе».
Этим своеобразным сообщением сведения о генерале исчерпывались. Досье скорее поднимало вопросы, чем давало на них ответы. И все же в нем имелось достаточно фактов, которыми поначалу можно было оперировать. Джоэл взглянул на часы – прошел час. У него оставалось два часа, чтобы все перечитать, продумать и постараться запомнить как можно больше. Про себя он уже знал, к кому первому обратится в Париже.
Рене Маттильон был не только весьма проницательным юристом, к которому часто обращалась фирма «Тальбот, Брукс и Саймон», поручая ему представлять ее интересы во французских судах, он был еще и хорошим другом. Он был старше Джоэла на добрый десяток лет, однако дружба их базировалась на общности пережитого, общности, основанной на мировой географии, связанной с потерями и ощущением тщетности всех усилий. Тридцать лет назад Рене Маттильон, адвокат двадцати с небольшим лет, был призван в армию и направлен во французский Индокитай в качестве военного юриста. Собственными глазами он увидел неизбежное, но так и не смог никогда понять, почему его гордой свободолюбивой нации понадобилось заплатить такую огромную цену, чтобы понять все. Он также не мог удержаться от весьма едких замечаний по поводу последующего американского вмешательства в дела этого региона.
«Мой бог! – восклицал, бывало, он. – Вы полагали, что сможете с помощью оружия добиться того, чего мы не смогли добиться с помощью оружия и ума? Бессмысленно!»
Когда Маттильон попадал в Нью-Йорк или Джоэл в Париж, у них уже вошло в обычай обедать вместе, сдабривая обед изрядной выпивкой. Кроме того, француз весьма благодушно относился к языковой ограниченности Конверса – Джоэл просто не в состоянии был выучить хоть какой-нибудь иностранный язык. Четыре года бывшая его жена, дочь француза и немки, безуспешно пыталась вдолбить в него хотя бы несколько самых простых фраз, но вынуждена была отступить, признав его совершенно безнадежным.
«Да как, черт побери, ты можешь называть себя специалистом в области международного права, если тебя никто не понимает за пределами Нью-Йорка?» – не раз спрашивала она.
«Отлично обхожусь переводчиками, натасканными швейцарскими банками, – обычно отвечал он. – Они всегда рады подзаработать».
Приезжая в Париж, Джоэл обычно останавливался в двухкомнатных апартаментах отеля «Георг V» – роскошь эта, как он догадывался, допускалась «Тальботом, Бруксом и Саймоном», скорее чтобы произвести впечатление на клиентов, чем для того, чтобы увеличить накладные расходы фирмы. Догадка эта, как пояснил Натан Саймон, была правильной лишь наполовину.
«У тебя там прекрасная гостиная, – сказал ему однажды Натан Саймон своим замогильным голосом. – Вот и пользуйся ею для совещаний. Таким образом ты сэкономишь на до смешного дорогих французских ленчах и, что еще дороже, обедах». – «А если они все-таки захотят есть?» – поинтересовался Джоэл. «Скажи, что у тебя еще одна встреча. Подмигни и скажи: „Совершенно личная“. И ни один парижанин не станет спорить».
Столь солидный адрес может и сейчас сослужить ему службу, размышлял Конверс, когда такси, совершая головокружительные виражи среди послеобеденного транспорта, несло его по Елисейским Полям к авеню Георга V. Если он хочет добиться успеха у окружения Бертольдье или у него самого, столь роскошный отель как раз и будет соответствовать образу безымянного клиента, который поручил своему адвокату сугубо конфиденциальное дело. Правда, у него не заказан номер, но это – промашка нового секретаря фирмы.
Вице-директор отеля приветствовал его весьма сердечно, хотя и с некоторой долей удивления. Увы! Никакого телекса от «Тальбота, Брукса и Саймона» из Нью-Йорка они не получали. Однако администрация отеля, естественно, пойдет навстречу своему старому другу. И они пошли навстречу: двухкомнатный номер на привычном втором этаже, и не успел Джоэл распаковать свои вещи, как официант заменил бутылку, стоявшую в маленьком баре его номера, другой бутылкой, именно той марки, которую он предпочитал. Джоэл уже успел забыть, с какой тщательностью отели такого класса ведут учет прихотям своих постоянных клиентов. Номер на втором этаже, любимая марка виски, а вечером, без сомнений, у него осведомятся, не разбудить ли его, как обычно, в семь утра. Все идет заведенным порядком.
Но сейчас около пяти часов дня, и если он собирается застать Маттильона в его конторе, то нужно поторапливаться. Для начала будет неплохо, если Рене согласится с ним выпить. К тому же Маттильон может оказаться полезным в этом деле, и потому Джоэлу не хотелось терять и часа. Он потянулся к лежавшему на полочке под телефоном парижскому справочнику, отыскал в нем контору Рене и набрал номер.
– О господи, Джоэл! – раздался голос француза. – Я читал об этом ужасном деле в Женеве! О нем писали утренние газеты, я тут же попытался дозвониться до тебя, но мне сказали, что ты уже выехал. С тобой все в порядке?
– У меня все отлично. Просто я оказался рядом, вот и все.
– Он – американец? Ты был с ним знаком?
– Только в деловом плане. Но вся эта чушь с наркотиками – действительно чушь. Его зажали в тесном углу, ограбили, пристрелили. И потом началась вся эта ерунда.
– А-а, понятно… Ревностный префект, спасая честь города, ухватился за подсунутые улики. Так я и подумал… Ужас какой-то. Ограбления, убийства, терроризм… Это расползается повсюду. Слава богу, в Париже такие вещи еще не стали повседневностью.
– Вам грабители ни к чему, вполне хватает шоферов такси. Только они еще понахальней.
– Ты, как всегда, просто невозможен, дружище! Когда встретимся?
Конверс помолчал.
– Надеюсь, сегодня вечером. Как только ты освободишься.
– Откуда такая спешка, мой друг? Ты хоть бы предупредил.
– Я вошел в номер десять минут назад.
– Но из Женевы ты вылетел…
– У меня было дело в Афинах, – прервал его Джоэл.
– Понимаю, понимаю… В наши дни деньги идут от греков. Сомнительные источники, как я полагаю. Совсем как здесь.
– Так как насчет встречи, Рене? Это важно.
Теперь замолчал Маттильон. Непринужденный тон Конверса не обманул его, он уловил напряженность в голосе друга.
– Отлично, – произнес наконец француз. – Я полагаю, ты в «Георге V»?
– Да.
– Постараюсь быть там как можно скорее. Скажем, минут через сорок пять.
– Огромное спасибо. Я займу пару кресел в галерее.
– Хорошо, отыщу тебя там.
Пространство, занимаемое огромным холлом с мраморными стенами перед полированной стеклянной дверью, ведущей в бар «Георга V», завсегдатаи отеля называли между собой галереей. В остекленном коридоре по левой его стороне и в самом деле располагалась картинная галерея, однако название это очень подходило и к самому холлу. Глубокие бархатные кресла с диванами и низенькие столики полированного дерева, расставленные вдоль мраморных стен, представляли собой подлинные произведения искусства, не говоря уж об огромных гобеленах, свезенных сюда из каких-то забытых замков, и соперничающих с ними размерами полотнах старинных и современных художников. Гладкий мраморный пол покрывал роскошный восточный ковер, а с потолка свисали затейливые канделябры, бросающие мягкий свет сквозь кружевную золоченую филигрань.
В этом укромном пристанище среди доставшейся в наследство от ушедших веков роскоши мужчины и женщины, наделенные богатством и властью, вели тихие неспешные разговоры. Зачастую они были начальной стадией переговоров, окончательное решение которых оформлялось в конференц-залах с их председателями, генеральными директорами, казначеями и целыми тучами юристов. Люди, стоящие у истоков всех этих комбинаций, чувствовали себя здесь совершенно непринужденно, так как вели лишь предварительные, ни к чему не обязывающие беседы. Помпезная атмосфера создавала некоторую легковесность. Галерея еще в одном смысле оправдывала свое название: среди братства тех, кто добился значительного успеха на арене международного бизнеса, утверждалось, что если он пребывал длительное время в этом элегантном салоне, то рано или поздно обязательно столкнется почти с каждым, кого он здесь встретил. Поэтому иногда, во избежание таких встреч, кое-кому приходилось искать себе пристанище в каком-либо ином месте.
Публика начинала стекаться, и официанты из глухо рокочущего бара принимали заказы, отлично сознавая, что именно здесь сосредоточены настоящие деньги. Конверс нашел два кресла в дальнем и более затемненном конце галереи, уселся и посмотрел на часы, с трудом различая цифры на циферблате, – с момента звонка к Рене прошло сорок минут, какое-то время ушло на душ и отмывание грязи после путешествия с Миконоса, занявшего весь день. Положив сигареты и зажигалку на стол, он заказал виски и с ожиданием уставился на камерную арку входа.
Он увидел Маттильона через двенадцать минут. Тот энергичным шагом вошел из ярко освещенного холла отеля в мягкий полумрак галереи. На мгновение он приостановился, огляделся прищурившись и приветственно кивнул. С широкой, искренней улыбкой на лице, так и не сводя глаз с Джоэла, он двинулся к нему по устланному ковром проходу в центре зала. Рене Маттильону было уже под шестьдесят, но благодаря походке и манере держаться выглядел он значительно моложе. Его окружала аура преуспевающего адвоката, во всех его действиях сквозила уверенность в себе – основа его успеха, она была результатом его настойчивой работы, а не просто игрой и не проявлением эгоистической сути. Роль свою он играл отлично, а седеющая шевелюра и мужественные черты лица только облегчали эту задачу. «Есть в нем кое-что и помимо внешности», – подумал Джоэл, поднимаясь ему навстречу. Рене был абсолютно порядочным человеком, и это решало все. Видит бог, недостатков у них обоих хватает; но они – честные люди и, может быть, поэтому так любят общество друг друга.
Крепкое рукопожатие предшествовало коротким объятиям. Француз занял место напротив Конверса, и Джоэл тут же подал знак официанту.
– Закажи ему сам по-французски, – попросил он, – а то окажется, что я заказал горячее мороженое.
– Этот человек говорит по-английски лучше любого из нас. Кампари со льдом, пожалуйста.
– Мерси, мсье. – Официант удалился.
– Еще раз спасибо, что пришел, – сказал Конверс. – Я на самом деле страшно благодарен тебе.
– Верю, верю… Выглядишь ты неплохо, хотя заметно, что устал. И вся эта жуткая история в Женеве… У тебя, наверное, от нее ночные кошмары.
– Ничего страшного. Я уже говорил тебе: просто я оказался рядом.
– И все же на его месте вполне мог бы быть и ты. В газетах писали, что он умер у тебя на руках.
– Я первым оказался около него.
– Ужас!
– Я уже видел такое раньше, Рене, – тихо напомнил Конверс.
– Что и говорить, ты подготовлен к такому лучше остальных.
– Не думаю, что кто-то может быть готов к этому… Но теперь все в прошлом. Ну а как ты? Как дела?
Маттильон покачал головой, изобразив на своем суровом, обветренном лице полное отчаяние.
– Франция – самый настоящий сумасшедший дом, но мы умудряемся оставаться на плаву. Из месяца в месяц выдвигаются все новые и новые планы, проектов теперь столько, что их не уместить на полках архитектурных ведомств, но авторы их вцепляются друг другу в горло во всех правительственных коридорах. Суды полны исков, и наше дело процветает.
– Рад это слышать. – Официант принес заказ, и оба они только молча кивнули ему. Маттильон не отрываясь смотрел на Конверса. – Нет, я действительно рад за тебя, – продолжил Джоэл. – Мы ведь там у себя питаемся всякими слухами.
– Потому ты и оказался в Париже? – Француз испытующе вгляделся в Джоэла. – Наслушался историй о нашем пресловутом подъеме и махнул сюда? Ну что ж, ничего особенного, как ты понимаешь, не происходит, все сильно смахивает на прежнее. До поры до времени. Большинство частных предприятий открыто финансировалось правительством. И естественно, государственные чиновники оказались неспособными управлять ими, боюсь, что теперь нам придется за это расплачиваться. Именно это и беспокоит тебя, а вернее, твоих клиентов?
Конверс сделал небольшой глоток.
– Нет, я здесь совсем по другой причине.
– Я вижу, ты чем-то встревожен. Пустой болтовней меня не обмануть. Уж слишком хорошо я тебя знаю, так что выкладывай начистоту: почему это так «важно». Именно это слово ты употребил в телефонном разговоре.
– Сказать-то сказал, но, пожалуй, это сказано слишком сильно. – Джоэл допил содержимое стакана и потянулся за сигаретами.
– Нет, друг мой, по глазам вижу, что темнишь. Да и взгляд у тебя озабоченный.
– Ну уж не знаю, что ты разглядел в моих глазах. Как ты сам заметил, я просто устал. Целый день с одного самолета на другой, а тут еще эти чертовы задержки. – Он взял зажигалку, но ему пришлось дважды щелкнуть ею, пока появился огонек.
– Мы болтаем всякую ерунду. В чем дело?
Конверс наконец прикурил и, стараясь придать своему голосу самое невинное звучание, спросил:
– Ты знаешь частный клуб под названием «Непорочное знамя»?
– Знаю, но я в него не вхож, – посмеиваясь, ответил француз. – Я был всего лишь молоденьким жалким лейтенантиком, прикомандированным к юридической службе, в задачу которой входило придать видимость законности тому, что мы там вытворяли. Вот именно – только видимость. Убийство у нас считалось легкой провинностью, а насилие и вообще поощрялось. «Непорочное знамя» – прибежище ее les grands militaires [7]7
Великие военные мужи (фр.).
[Закрыть] и тех, кто достаточно богат и достаточно глуп, чтобы выслушивать, как они трубят о своих подвигах.
– Мне нужно встретиться с человеком, который приезжает туда обедать три или четыре раза в неделю.
– А почему бы тебе просто не позвонить ему?
– Он меня не знает и не должен знать, что я хочу с ним встретиться. Все должно произойти как бы случайно.
– Да? Так решили «Тальбот, Брукс и Саймон»? Что-то не похоже на них.