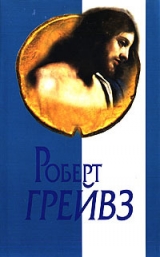
Текст книги "Царь Иисус"
Автор книги: Роберт Грейвз
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 32 страниц)
Ирод не остановился перед тем, чтобы взвалить на Антипатра вину за смерть Александра и Аристобула. Он уличал его не только в лжесвидетельстве, но и в тайном вмешательстве в обвинение. Теперь он знает, говорил Ирод, утирая глаза и всхлипывая, что бедные мальчики ни в чем не виноваты, но их убийцей был не он, а Антипатр, его лживый сын Антипатр, вся жизнь которого – «тайное зло».
Ирод закрыл лило руками и сделал вид, что рыдает. В это время Николай Дамасский, маленький кривошеий человечек с глумливой улыбкой на губах, который участвовал в суде над Александром и Аристобу-лом, а также в суде над Силлеем, вышел вперед и зачитал:
– «Первое обвинение: в такие-то и такие-то дни Антипатр жаловался своей матери, царице Дориде, что его отец Ирод зажился на этом свете, да еще с каждым днем молодеет, и что он, Антипатр, поседеет прежде, чем дождется его смерти, и уже не сможет насладиться единовластным царствованием.
Второе: в разговоре со своим дядей Феророй (при этом точно указывался день) Антипатр назвал своего отца «диким зверем и убийцей», сказал, «что если бы мы были настоящими мужчинами, то не побоялись бы пойти против него».
Третье: Антипатр послал в Египет в Он-Гелиополь за надежным ядом, который привез оттуда некий Ан-тифил и тайно передал Фероре, чтобы Ферора отравил им Ирода в то время, когда сам Антипатр будет послан отцом в Рим по не терпящему отлагательства делу и таким образом окажется вне подозрений. Но царю Ироду удалось избежать смерти и уничтожить яд, за исключением одной малой дозы, которая будет предъявлена.
Четвертое: Бафил, свободный человек, которого Антипатр отправил с посланием в Иерусалим сразу после того, как прибыл в Рим, привез Фероре еще порцию яда от Антипатра на тот случай, если первый яд не подействует. Яд у него отобран и тоже будет предъявлен».
Николай предъявил письменные свидетельства преступления Антипатра в виде показаний под присягой, вырванных пыткой у царицы Дориды, у десяти ее придворных дам, у Иохевед, жены Фероры, и ее сестры На-оми, а также у Антифила, Бафила и многих других. Он торопливо зачитал показания и вручил их Вару.
С нескрываемым интересом Вар прочитал их и заметил, что почерк царицы Дориды после пытки ничем не отличается от того, каким она писала под давлением своей вины, и что использовала она один и тот же дешевый сорт бумаги и одинаковые грязноватые чернила, и это кажется ему странным.
– Почему странным? – спросил Николай.
– Мой добрый Николай, почему ты спрашиваешь «почему»? Почему? Да потому что на этой же бумаге написаны признания всех свидетелей. Это тюремная бумага и тюремные чернила. Конечно, я не очень разбираюсь в тонкостях, но, клянусь Вакхом, недаром я тридцать лет был судьей. Я научился прислушиваться к здравому смыслу. На какой бумаге пишут царицы? На самой лучшей, по тридцать драхм за небольшой свиток. И еще они обрызгивают ее духами. А эта какая? Оборванная, в пятнах, неровная. Немыслимо даже представить ее в покоях царицы, да еще царицы с таким изысканным вкусом. Если бы не уверения царя Ирода, я бы предположил, что письмо царицы Дориды написано там же, где и признание, и тоже вырвано у нее под пыткой.
Николая слова Вара захватили врасплох, а Вар продолжал:
– В десяти признаниях, сделанных придворными дамами Фероры, которые изъясняются совершенно одинаковыми словами, царь Антипатр, словно нарочно в их присутствии, говорит своей матери, что собирается плыть в Рим, «подальше от дикого зверя, моего отца». Однако это не вяжется с утверждением в третьем обвинении, что сам отец отправил царя Антипатра в Рим по срочному делу, а также с письмом, которое я получил от царя Ирода несколько месяцев назад. Царю Антипатру приписывается недовольство отцов ской «жестокостью, потому что он так составил завещание, что мой сын не сможет унаследовать престол после меня. Он обойден в этой милости моим братом, царевичем Иродом Филиппом». Но я не могу с этим согласиться. Царь Антипатр и царица Дорида знали завещание – то самое завещание, которое сейчас отменено, – поэтому он не мог сказать ничего подобного. Насколько мне известно, царевич Ирод Филипп становился наследником в случае смерти царя Антипатра, но даже в этом случае престол должен был быть возвращен детям Антипатра после смерти или отречения Ирода Филиппа. Однако, если царь Антипатр переживал своего отца и наследовал престол, притязания Ирода Филиппа не имели бы смысла, ибо царь Антипатр с согласия императора мог бы назначить своего сына единственным наследником, захоти он этого. Должен сказать, подобные неувязки подрывают во мне доверие к признаниям.
Воцарившаяся тишина приободрила Антипатра, и его защитная речь была простой и короткой:
– Отец, Квинтилий Вар ободрил меня, и я осмеливаюсь сказать тебе, что ни одному слову из этих признаний нельзя верить, ибо они все написаны под пыткой, все до одного. И письмо моей матери ко мне тоже, без твоего ведома, конечно, было вырвано у нее под пыткой. Я берусь доказать, что все письма моей матери написаны на лучшей александрийской бумаге, на едомитянском диалекте и еврейским письмом, а не греческим. Моя мать плохо говорит по-гречески и почти совсем не умеет писать на этом языке. Более того, как тебе самому известно, ты приказал мне плыть в Рим, хотя мне не очень этого хотелось и по своей воле я бы не поехал. Однако я благодарен тебе, отец, за признание, что я был тебе преданным и покорным сыном с тех пор, как ты возвысил меня и показал миру, какой может быть отцовская любовь. Но мне трудно вынести, если ты в самом деле поверил, будто я не только лжец, братоубийца и отцеубийца, но еще и сумасшедший. Сорок лет своей жизни я прожил, ни разу не обвиненный ни в одном преступлении, и, убив тебя, я не получил бы ничего, кроме душевных мук и вечного проклятья. Подумай, каждый год у меня было пятьдесят талантов, не считая твоих подарков и вознаграждений за выполненные поручения, и даже это было больше, чем я тратил. От тебя я получил титул и власть царя.
Ты вручил меня защите самых благородных людей в империи. Но еще важнее для меня то, что я ни разу за всю мою жизнь не слышал от тебя ни одного грубого слова и ни разу не имел повода мучиться из-за твоего отношения ко мне, которое было всегда добрым и справедливым. Никому в целом мире от самого ничтожного из твоих подданных до нашего великого благодетеля императора Августа Цезаря не удастся опровергнуть правоту моих слов. И если бы я бросился на тебя, как иногда случается с молосской собакой, это можно было бы объяснить только приступом безумия, но тогда и все остальные мои поступки тоже были бы безумными. Или ты думаешь, что меня обуял злой дух? Тогда изгони его, молю тебя, именем Святого Владыки Израиля, да будет благословенно имя Его.
Ирод заскрежетал зубами и принялся рвать свою клочкастую бороду.
– Я изгоню из тебя злой дух, но только не именем Господа, – прорычал он. – Я изгоню его именем императора и с помощью дыбы, жаровни и тисков.
– Отец, я готов к пыткам, ведь ты уже вынес мне приговор.
Но запротестовал Вар:
– Нет, нет, царь Антипатр, вспомни, ты гражданин Рима. Император никогда не одобрит пытку, прикрываемую Римским законом, над высшим офицером императорских войск. Кстати, Антипатр, почему ты не показываешь нам знаки любви и доверия, которые вручил тебе император?
– Вот два письма… Одно от самого императора, – другое – от его жены Ливии. Они адресованы моему отцу, но не запечатаны, чтобы все могли их прочитать.
– Мы прочитаем их потом, – сказал Ирод, выхватывая у него письма и пряча их в подушки на своем троне. – Николай, продолжай!
Николай уже понял, что дело принимает плохой оборот. Почти все присутствующие, кроме Ирода и его сыновей Архелая и Филиппа, которые сами имели виды на престол, с сочувствием смотрели на Антипатра. Свидетельства, раньше казавшиеся неоспоримыми, теперь не вызывали сомнений в своей лживости, по крайней мере, многие из них, а Антипатр производил впечатление невинного и глубоко оскорбленного человека. Поэтому Николай призвал на помощь все свое искусство, чтобы оговорить Антипатра. Он поносил его как василиска, поганого ибиса, черную псильскую змею и мерзкого отцеубийцу. Он обвинил его в предательстве и убийстве невиновных братьев, в совращении Иохевед и ее сестры Наоми, в изображении демона Азазела на ведьминских шабашах, когда в полнолуние он бегает и прыгает голым в кругу двенадцати обнаженных женщин.
– По твоему собственному признанию, нечестивый козел, у тебя не было никаких причин для отцеубийства, кроме одной только злобы. Ты пожелал, как я думаю, совершить преступление, какого еще не бывало в истории и в мифах. Ты пожелал отравить отца, от которого, по собственному признанию, никогда не слышал ни одного дурного слова, не видел ничего плохого. И еще ты пожелал замарать преступлением мать и дядю.
Потом он повернулся к Вару и потребовал от него «уничтожить сего прожорливого волка, сию гиену!».
– Неужели ты не понимаешь, – вопил он, – что не может быть никого хуже отцеубийцы?! Своим существованием он нарушает законы природы. Он распространяет заразу всюду, где ступает его нога. Судья же, не карающий подобное чудовище, познает недовольство Высшего Судьи!
Когда он кончил неистовствовать, Вар спокойно спросил, не хочет ли Антипатр ответить на предъявленное ему обвинение.
– Николай обвинил меня в колдовстве и черной магии, но у него нет и не может быть никаких доказательств, да и вначале об этом ничего не говорилось. Он злобно поносил меня, а я не торговец рыбой и не желаю опускаться до ругани. Нет, лучше мне призвать Бога моих предков в свидетели моей невиновности во всем, в чем меня обвиняют.
Николай принудил Вара взглянуть на яд, оставшийся в бутыли и якобы привезенный Антифилом из Египта. Он предложил, чтобы кто-нибудь из осужденных на смерть выпил его и тем подтвердил, смертелен ли яд.
Вар согласился.
Тотчас ввели разбойника из Галилеи, Антифила, и предложили ему принять смешанный с медом яд, обещая свободу и прощение, если он выживет. Антифил согласился и уже вскоре страшно кричал, извиваясь на полу в предсмертной агонии. Его вынесли из зала.
Вар рассмеялся.
– Не очень-то изысканный яд, – сказал он. – Мышьяк. Самый мучительный из всех ядов. Симптомы отравления мышьяком хорошо известны, и их не спутаешь ни с какими другими, поэтому Ферора вряд ли рискнул бы воспользоваться им, если только не стал жертвой необъяснимого безумия, в котором обвиняется Антипатр. Если бы разбойник, выпив яд, расхохотался и, возблагодарив Бога за спасение, преспокойно покинул дворец, я бы отложил суд, чтобы убедиться в действии яда. Я не верю свидетельству, вырванному у Иохевед под пыткой, а мое знакомство с египетскими отравителями научило меня относиться к ним с большим почтением. Царь Ирод, ты позволишь говорить с тобой без свидетелей?
Все вышли. Никто не знает, что Вар сказал царю, однако суд на этом закончился, и на следующий день, учтиво распрощавшись, Вар, не вынеся приговора, возвратился в Антиохию.
А еще через неделю Ирод возобновил суд на том основании, что у него появились новые доказательства. Его шпионы, как он сказал, завладели письмом, которое Антифил отправил с рабом Антипатру из Египта в Иерусалим. Вот оно: «Я посылаю тебе письмо Ак-мы, хотя рискую лишиться жизни по воле двух правящих домов. Удача да сопутствует тебе!»
Ирод якобы приказал своим шпионам во что бы то ни стало разыскать письмо и кстати спросил, обыскивали ли они раба, вот тогда-то в его одежде нашли письмо, по всей видимости, от служанки Ливии – еврейки Акмы. В нем говорилось: «Я написала твоему отцу, как ты велел, от имени твоей тетки Саломеи. Наверняка ее ждет заслуженная смерть, потому что царь Ирод не сможет не поверить в составленный против него заговор».
После этого Ирод предъявил еще одно письмо, якобы только что полученное из Рима, которое Акма будто бы писала ему под диктовку Антипатра: «Я блюду твои интересы в Риме как верная дочь Израиля. Только что мне удалось переписать послание Саломеи к моей госпоже Ливии. В нем она обвиняет тебя в предательстве и лжесвидетельстве. Несомненно, старая ведьма все выдумала, чтобы отомстить тебе за расстроенный брак с мошенником и язычником Силлеем. Будь добр, сожги письмо, когда прочитаешь, потому что от этого зависит моя жизнь». К письму прилагалась копия оскорбительного письма, подписанного «Саломея».
Антипатра посреди ночи вытащили из узилища. Он отрицал близкое знакомство с Акмой и предположил, что письма подделал Антифил.
– Это решать императору, – ответил Ирод. – Я посылаю тебя в Рим, там ты предстанешь перед его судом.
– Хорошо, отец. Император справедлив, да и его не так-то легко ввести в заблуждение. Он разберется, принадлежат ли послания с подписью «Акма» самой Акме или подделаны моими врагами.
Но Ирод побоялся выпустить Антипатра из своих рук. Он послал в Рим Николая и Архелая с выборочным описанием доказательств, представленных на первом суде, с копиями писем (но не самими письмами), представленными на втором суде, и с настойчивой просьбой разрешить ему немедленно казнить отцеубийцу. Ирод не. забыл о богатых подарках для Ливии и для официального императорского советника. Тогда же он отправил Вару в Антиохию блюдо ценой в двадцать талантов.
Глава девятая КРОВЬ ЗАХАРИИ
Елисавета благополучно разрешилась от бремени здоровым мальчиком. Хлопотавшие вокруг нее женщины любовались им и ласково называли «маленьким Захарией», но Елисавета сказала:
– Не захваливайте ребенка! Это не. к добру. И, пожалуйста, не называйте его маленьким Захарией. Его зовут Иоанн.
– Да нет же! – вскричали женщины. – Госпожа, ты ошибаешься! Твой муж никогда не назовет его Иоанном, потому что такого имени нет в его роду. Наверно, он не назовет его и своим именем, чтоб не было путаницы. А что ты думаешь о Шевании? Оно и похоже, и совсем другое, да и стоят они рядом. Может быть, Авия или Самуил, или, как знать, Езрон – эти имена были у него в роду. А Иоанн – никогда!
– Я сама дам имя ребенку. Мой муж немой, а мне нравится – Иоанн, ибо сказано в правилах обряда обрезания: «Отец скажет и назовет имя или ближайший родственник, если отец мертв». Мой муж жив, но говорить он не может.
Все запротестовали:
– Женщине нельзя давать имя сыну. Это не принято.
– Женщины, какого вы колена?
– Иудиного.
– А мой и ваш хозяин и я тоже – левиты. Почитайте Писание. Там вы найдете, как наша мать Лия дала имена Иуде и Левию, не удосужившись посоветоваться со своим мужем Иаковом.
На восьмой день, когда Елисавета вновь стала считаться чистой, из Беер-Шевы приехал раввин сделать мальчику обрезание. Он принял его из рук Силом и сказал:
– Имя ему Шевания.
– Нет, нет, – запротестовала Силом. – Его имя Иоанн. Так приказала госпожа Елисавета.
– Я не буду делать обрезание! – воскликнул раввин. – Пусть отец пишет подтверждение!
Захарию призвали из его покоев, где он уже несколько лет занимался алфавитным указателем и комментариями к пророчествам о Мессии. Раввин вручил ему табличку и спросил:
– Какое ты дал ему имя?
Тут из спальни выскочила Елисавета, встала между раввином и Захарией и возмущенно крикнула:
– Муж, я дала ребенку имя Иоанн, а они смеют со мной спорить! Скажи им, что у них нет такого права!
Захария написал: «Его зовут Иоанн».
– Иоанн? Что за Иоанн? – воскликнул дотошный старый раввин. – Мой господин, как же я буду обращаться к сыну Аарона, называя его по-новомодному Иоанном? До позавчерашнего дня в Израиле не было никаких Иоаннов!
Захария рассердился и вдруг закричал:
– Дурак, дурак, мул, упрямая скотина! Говорят тебе, его зовут Иоанн!
Услыхав крики Захарии, все растерялись. И сам он тоже растерялся, но ненадолго и простерся на полу, вознося хвалу Господу за то, что Он вернул ему дар речи.
Обряд обрезания продолжался, как следует по обычаю, и раввин произнес молитву:
– Господь наш и наших предков! Сохрани этого младенца для его отца и матери, и пусть все в Израиле зовут его Иоанн, сын Захарии. Пусть отец радуется тому, кто вышел из его чресел, и мать будет счастлива плодом своего чрева.
Только после ухода раввина, когда плакавшего малыша кое-как удалось успокоить, Захария в страхе задумался о том, что сулит ему избавление от немоты, и от всей души пожелал себе опять онеметь. Он вспомнил ужасное видение в Святилище и понял, что теперь ему не миновать Высшего суда. Печальными были его слова, обращенные к малышу:
– Ах, милый мой Иоанн, боюсь, не дожить мне до того дня, когда ты начнешь ходить и говорить!
Елисавета с тревогой спросила:
– Неужели, муж, у тебя нет ничего получше для моего сына, чем пророчество о близком сиротстве?
Захария знал, что она права.
– Позволь мне, жена, вернуться к себе, ибо я не одарен способностью говорить, не подготовившись, но до наступления ночи с Божьей помощью я сочиню благословение, которого ты ждешь от меня.
Пока он, внезапно оторванный от своих занятий, беседовал с– раввином и женой, сквозняк перемешал пергаменты с текстами на его столе, и он, взяв в руки первый попавшийся, что лежал возле пера и чернильницы, прочитал известные слова из сороковой главы Книги пророка Исайи:
Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему…
На другой полосе был не менее известный текст из Псалтири:
… клялся Давиду, рабу моему…
Потом его взгляд упал на такие стихи:
Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику {6} Моему.
В первый раз Захария понял, что поэты Негева называют «озарением», которое, как внезапное пламя, завладевает своей жертвой и пожирает ее.
– Говорят, – сказал он тихо, – каждый человек, любящий Бога и своего ближнего, если хорошенько поищет, найдет в своем сердце хотя бы один стих. Одари же меня искусством и терпением написать мой стих.
Руки у него дрожали, когда он писал, зачеркивал, писал вновь, пока его перо не затупилось и не стало пачкать пергамент, но Захария был слишком занят своими мыслями, чтобы тратить на него время, поэтому он бросил его на пол и взял другое перо. Получаса не прошло, как он выбежал из комнаты, встал над спящим младенцем и пропел ему:
О, будь благословен.
Боже Сил, Израильтян бо, крепкий, навестил.
И от египтян их освободил.
Не ты ль, Господь.
Давида лик суровый.
Украсил ветвью нежной, ветвью новой.
Былую славу восприять готовой?
И то же песнопевцы нам рекли.
Правдивые от первых дней земли.
Помимо Бога петь бо не могли.
И ныне клятва повторится нам.
Какой потомству клялся Авраам.
Ханаан давший нашим праотцам.
Тебе не удивится мир, вещая:
– Вот всадник скачет, путь наш расчищая.
Спасая и к бессмертью приобщая.
И, как заря приходит мрак изгнать.
Он снимет такоже грехов печать.
И снищем мы вовеки благодать! {7}
Когда маленькому Иоанну исполнился месяц, Елисавета дала обет посвятить его Иегове, чтоб он стал пожизненным назореем, описанным в шестой главе Книги Чисел: бритва никогда не должна касаться его головы и не должен он есть (и пить) ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи. Соревнуясь с Захарией, она тоже сочинила колыбельную песню, которую до сих пор помнят в Аин-Риммоне, где, я сам слышал, ее пела деревенская женщина своему расшалившемуся малышу:
Однажды теплым вешним днем.
Пошла гулять я в сад.
Деревьев много в том саду.
Но краше всех гранат.
На солнце каждый лист его.
Сверкает, как берилл,
И много пурпурных цветов
Он меж листвы раскрыл.
Я руку протяну к цветку,
Сорву и сберегу —
Так, древо краше всех древес
Припомнить я смогу {8}
Слухи о внезапном исцелении Захарии вскоре достигли Иерусалима, и ему было приказано явиться к первосвященнику. Захария запер в кедровый ларец свою незаконченную работу, написал и запечатал завещание, поцеловал на прощание Елисавету и маленького Иоанна и один отправился в Иерусалим, не в силах отогнать от себя тяжелые предчувствия.
Когда на другой день он въехал в старую часть города и постучался в дом первосвященника Симона, ему велено было подождать в передней, куда для него принесли освежающие напитки. Симон созвал Великий Синедрион, или Совет, в своем доме, а не в Каменном доме, как обычно, «ибо поставил перед собой цель изучить все, что произошло с Захарией в Святилище, с точки зрения политической важности происшедшего». Он потребовал от членов Синедриона сохранить в тайне время, место и цель их собрания.
Великий Синедрион не надо путать с другим Синедрионом, который называется Бет-Дин, или Высший суд. Сначала Синедрион был один, но когда царице Александре, вдове царя Александра Янная из рода Маккавеев, более сильная партия фарисеев отказала в достойных похоронах ее мужа, она заставила их изменить свое решение, пообещав, что в Синедрион войдут одни фарисеи и из него будут исключены те саддукеи, которые были самыми близкими помощниками Александра и вместе с ним совершили избиение восьмисот фарисеев. Саддукеи же создали еще один Синедрион, официально утвержденный отцом Ирода, когда Юлий Цезарь сделал его наместником в Иудее. Первый Синедрион оставался почти исключительно фарисейским и занимался только делами религии. Политический же Синедрион, который стал называть себя Великим Синедрионом и взял на себя все остальные дела, был саддукейским, хотя в него входили и некоторые фарисеи. Теоретически для евреев не было разницы между религиозными и светскими делами, потому что и экономическая, и вся прочая жизнь подчинялась Закону Моисея, однако Великий Синедрион был в каком-то смысле выгоден, ибо подошел реально к иноземным институтам власти в Иудее, которые для фарисеев словно бы не существовали вовсе. По этой причине Высший суд настаивал, чтобы мезуза {9}, прикрепляемая к дверям обычных домов, прикреплялась и к Каменному дому, когда там держит совет Великий Синедрион. В присутствии же Высшего суда это здание становилось священным, и мезуза временно снималась.
Симон решил слушать дело Захарии в Великом Синедрионе, хотя вполне мог передать его в Высший суд. Если, не дай Бог, докажут, что Захария виновен в каком-нибудь нарушении, то глава дома Авии сможет уговорить своих широко мыслящих саддукеев покончить с этим делом, написав благоразумный отчет и отложив его згпе (Не, то есть на неопределенный срок. Но ему пришлось действовать тайно и быстро, чтобы опередить Высший суд. У всех членов Великого Синедриона был богатый юридический опыт, все знали иностранные языки и разбирались в гуманитарных науках, не говоря уж о доскональном знании Писания, так что если не они, то кто еще мог бы разрешить дело Захарии, не поднимая лишнего шума?
К тому времени, когда посланные обошли весь город и члены Синедриона собрались под председательством Симона, наступили сумерки, однако Захарию еще не вызвали. Симон предпочел сначала расспросить Рувима, сына Авдиила, почему в ту ночь, когда Захарию поразила немота, он тайно вынес из Святилища что-то мокрое, завернутое в плащ?
Рувим обвел взглядом суровых старцев, священников и книжников, сидевших полукругом по обе стороны от кресла председателя, и три ряда младших членов Синедриона, которые тем не менее все были опытными судьями, и двух писцов, державших наготове перья и бумагу, и его охватил страх. Он решил сказать правду и не покрывать больше Захарию.
Он поклялся, что когда вошел в Святилище, то священный огонь уже погас на алтаре, хотя все семь светильников полыхали ярким пламенем. Желая соблюсти честь дома Двии, он убрал мокрые поленья с алтаря, вновь развел огонь и, как положено, сжег жертвоприношения, а эти самые мокрые поленья вынес из Святилища, когда рассвело, надеясь, что смотритель Завесы, пришедший отпустить его домой, ничего не заметил.
Самон сказал:
– Думаю, ты поступил правильно, сын Авдиила, хотя, несомненно, было бы лучше, если б ты немедленно сообщил о случившемся мне или почтенному главе твоего дома. – После чего, поклонившись престарелому священнослужителю, он продолжал: – Братья и сыновья, желает кто-нибудь из вас задать вопрос просвещенному Рувиму?
Младший член суда с курчавой бородой вскочил с места и запальчиво крикнул:
– Святой отец, спроси его: «Чья злая рука, по его мнению, погасила огонь?»
Поднялся одобрительный гул, прерываемый время от времени возгласами негодования. Белобородые старцы в первом ряду повернули головы, чтобы выразить неодобрение столь непристойной торопливости молодого человека. К тому же все привыкли, что судей в задних рядах всегда видно, но никогда не слышно. Более того, правила запрещали им выступать с обвинением, да и никакого обвинения еще не было выдвинуто ни против Рувима, ни против Захарии, даже граница между обвинением и защитой еще не была обозначена, а молодой судья уже ясно дал понять, что Захарии не приходится ждать от него ничего хорошего.
Симон неохотно повторил вопрос.
Рувим ответил:
– Сын Боефа, если я скажу, что думаю об этом, почтенные судьи рассердятся на меня. Поэтому я промолчу. Мой долг рассказать обо всем, что я видел, но я не знаю такого закона, который обязывал бы меня говорить о том, что спрятано в глубине моего сердца.
– Я обещаю, – проговорил Симон, – что твое мнение не подвергнется осуждению, каким бы оно ни было.
– Почтенные судьи, – сказал Рувим тогда, – вы все стали членами Великого Синедриона, достаточно разбираясь в колдовстве, чтобы суметь распознать его и наказать врагов нашей веры. Вас семьдесят один. Вы все пришли сюда, и только одно кресло пустует, кресло великого пророка Илии. Я призываю Илию свидетельствовать, если он слышит меня, но предпочитает быть невидимым, что все, сказанное мною, – чистая правда и вся правда. Было так. Когда я после Захарии вошел в Святилище, то почувствовал странный запах и заметил мокрые пятна на чистом мраморном полу. Возможно, это был просто застоявшийся запах благовоний, но мне показалось, что там был слабый, но стойкий запах злой силы. Когда же я принялся было вытирать лужи вышитой салфеткой, то… О, просвещенные старцы Израиля, не гневайтесь на меня… Я в ужасе отскочил. Увы, Господь Бог свидетель, следы, которые я увидел, были следы, страшно сказать, копыт, да, да, узких копыт неподкованного осла! – Не останавливаясь и не обращая внимания на ошеломляющее впечатление, произведенное его словами, Рувим продолжал: – Вы меня спрашиваете, отчего погас огонь в алтаре? Я вам скажу. Я уверен, что в Святилище нашего Господа творилось непотребное колдовство. Что мой родственник Захария вызвал злого, с ослиными копытами сына Лилит и приказал ему служить себе. Зачем? Может быть, чтобы наполнить пустовавшее двадцать лет чрево его жены Елисаветы? Демоны это могут. Или чтобы отыскать спрятанные сокровища? Или чтобы навредить человеку, которого Захария ненавидит? Я не могу ответить на эти вопросы, но я уверен, демон был призван, и это он, подгоняемый дьявольской ненавистью, погасил огонь своей нечистой слюной. Почему я в это верю? Потому что я все внимательно осмотрел, но не нашел в Святилище никакого сосуда, из которого можно было бы залить огонь. А если меня спросят, что я думаю о немоте Захарии, то вот вам мой ответ. Я думаю, что Захария онемел по приказанию ангела Господня, чтоб он не смел больше творить непотребства. Симон еще раз обратился к судьям:
– Братья и сыновья, желает кто-нибудь задать вопрос просвещенному Рувиму?
Все были устрашены и растеряны и молча ждали, чтобы кто-нибудь другой заговорил первым. В конце концов вновь поднялся с места молодой судья с курчавой бородой, но на сей раз он держался гораздо скромнее и даже кашлянул несколько раз, словно испрашивал разрешения говорить.
Подбодренный тихим и вполне доброжелательным гулом в зале, он сказал:
– Святой отец, пожалуйста, спроси его, были ли следы, которые он видел, похожи на то, что оставляет осел, ходящий на четырех ногах, или осел, ходящий на задних ногах?
Симон повторил вопрос.
– На задних ногах, – задрожав, ответил Рувим.
В его словах не было неуверенности, хотя Симон постарался насмешливым тоном смутить его.
Потом Симон попросил младших членов Синедриона удалиться и стал держать совет со старшими членами Синедриона. Вопрос заключался в том, передавать или не передавать дело в Высший суд, поскольку оно приняло неожиданный оборот. Возобладала ревность. Все проголосовали за продолжение допроса.
Младших членов Синедриона позвали обратно, и когда секретари зачитали показания Рувима, приказано было явиться Захарии. Он вошел в хорошо освещенный зал, часто моргая, потому что ненароком заснул от усталости.
Симон без всякой суровости спросил его:
– Сын Варахии, Синедрион желает знать, что случилось с огнем? Почему он погас, когда наступила твоя очередь поддерживать его? И почему ты онемел? Позволь мне предупредить тебя прежде, чем ты начнешь отвечать. Ты обвиняешься в колдовстве.
Захария помолчал. Потом с горечью проговорил:
– Должен я сказать вам правду, которая возмутит вас, или ложь, которая будет вам приятна? – И со стоном добавил: – Лучше бы Господь опять лишил меня языка!
– Ты должен сказать нам правду, если хочешь, чтобы тебя судили по справедливости.
– Вы убьете меня, если я скажу вам правду, но если я солгу, моя душа никогда не обретет покоя. Не лучше ли вам проявить милосердие и дать мне уйти подобру-поздорову. Ты не распустишь Синедрион? – спросил он Симона.
– Я не могу это сделать, потому что мы ведем дознание. Я могу только перенести слушание на другое время. Ты этого хочешь?
Захария надолго задумался.
– Если ты перенесешь его на другое время, то только усилишь страдания моей души. Нет! Пусть будет, что будет! Я скажу вам правду, но поклянитесь Вечным Творцом, что не тронете мою семью и я умру достойно, что бы я ни сказал вам. Вы слышите меня? Поклянитесь именем Бога, что не повесите меня, не задушите и не сожжете, по крайней мере, достойно предадите мое тело земле. Умирать страшно, но умирать проклятым – значит бродить бесприютной тенью среди ящериц и шакалов.
Симон примирительно ответил:
– Нет нужды в клятвах. Расскажи всю правду и отдайся на милость Бога.
Он прочитал показания Рувима и спросил, подтверждает ли их Захария.
– Рувим увидел то, что хотел увидеть, – сказал Захария. – Не сомневаюсь, в глубине своего жестокого сердца он убежден и всегда был убежден, что я способен на самые страшные преступления. Он никогда не переставал злиться на меня с тех пор, как шестнадцать лет назад я свидетельствовал против него в деле о колодце, считая этот колодец собственностью моего родственника Иоакима, которого я тоже вижу здесь. Сердце Рувима – гнездо зависти. Неужели Господь никогда не очистит его Своим пламенем?!
Захария замолчал, а потом то взрываясь словами, то затихая, и все время беспокойно теребя амулет, рассказал, как было дело.








