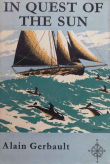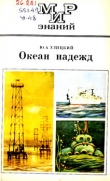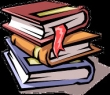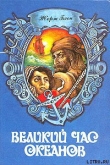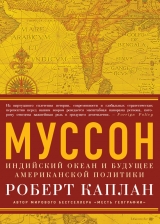
Текст книги "Муссон. Индийский океан и будущее американской политики"
Автор книги: Роберт Каплан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Свидетельницей тому – Шах-Джахан, старинная мечеть в Татте. В 1586 г. могольский владыка Акбар обратил внимание на Синд и одолел войско синдхов после упорной и кровопролитной битвы. В 1593-м, потерпев несколько новых поражений, правитель Татты, синдх Джани-Бек, отправился в Лахор, ко двору владыки, и признал себя данником Акбара. Тогда, воодушевленный завоеванием Синда, могол решил вернуть себе Кандагар в Афганистане [20]. Эклектическая природа Могольской империи, простиравшейся от нынешних пределов Ирана в Индию, наглядно отражается мечетью, которую выстроил между 1644 и 1647 гг. Шах-Джахан, внук владыки Акбара. Он же возвел в Агре мавзолей Тадж-Махал. Войдите в молитвенные залы – и вам покажется, будто вы в Исфахане или Ширазе, а то и в Герате или Бухаре. Здесь явно ощущается персидское и турецкое влияние: синие и зеленые фаянсовые плитки, ярко-желтые арабески; а еще – строгая, математически точная каменная кладка и поразительные абсиды, опять же напоминающие Ближний Восток и Среднюю Азию. В этой мечети вы сознаете: Синд – порождение западных пустынь и плоскогорий, земель, из которых сюда приходили захватчики, в конце концов придавшие стране ее неповторимый облик. Возможно, Пакистан и возник как противовес и противодействие Индии, но материальная культура этой порубежной области Индостана делает ее кипящим ближневосточным котлом.
В нескольких минутах ходьбы от мечети Шах-Джахан, на холме Макли, вы увидите некрополь: гробницы, оставленные династиями Саммов, Аргунов, Тарханов и Великих Моголов, выстроенные из песчаника и глазурованного кирпича. В жилах всех перечисленных династий смешивалась кровь тюркская и монгольская. Но гробницы напоминают о множестве подобных индийских построек. Следовательно, то, что мы привыкли считать исконно индийским, на самом деле является смесью ближневосточных культур[31]31
Этот некрополь осквернили португальцы, поднявшиеся по Инду в Татту, разграбившие город и перебившие тысячи его жителей – только потому, что не получили требуемой дани.
[Закрыть]. Всюду заметны кирпичные цоколи, колонны прямоугольного сечения, впечатляющие своды, растрескавшиеся луковичные купола. Глазурованные кирпичи вспучиваются, отслаиваются и опадают целыми слоями, точно пересохшие румяна с лица – только цвет у них молочно-синий. Эти пустынные памятники прошлого кажутся воспаряющими в небеса: каждый стоит на отдельном возвышении. Некоторые, украшенные причудливой резьбой, являют величие почти византийское. Другим присущи сложные пропорции фараоновских построек в Карнаке. Все мавзолеи стоят на горделивом расстоянии друг от друга, среди унылых и заброшенных пустошей, заваленных мусором, – подобно стольким иным историческим местам в Пакистане. Долгие династические века оставили по себе эти гробницы, которым нынешнее государство не уделяло за последние 60 лет никакого внимания. Некрополь не нужен и не любопытен никому – кроме грабителей.
Инд повернул на север, я последовал за ним, по унылой и блеклой долине, задыхавшейся от пыли, которую порождала сухая, растрескавшаяся почва. Сквозь пыльную мглу чудилось, будто все вокруг движется, точно при замедленной киносъемке. Передо мной простиралась местность, где, как и встарь, обитала истинно приречная цивилизация: пшеничные и рисовые поля, бананы и манговые деревья, обширные рощи финиковых пальм – и все пересекалось каналами. Всюду чернели первобытные фигуры азиатских буйволов, принимавших грязевые ванны. Сердце разрывалось от жалости при виде слабеньких осликов, тащивших чудовищно большие повозки, груженные дровами; а дромадеры волокли за собой повозки с кирпичом. Вдоль дороги стояли шатры обширных цыганских таборов, приходящих в это время года из Белуджистана. Цыгане являлись убирать урожай фиников, из которых среди прочего получают сироп, масло и другие побочные продукты. Грязные с головы до ног, кочевые цыгане вовсе не показались мне беднее оседлых местных обитателей. Рисовые поля светились прозрачными оттенками зелени; женщины в крикливых цветистых сари цепочками бродили вдоль насыпей, разгораживавших заливные поля. Но в целом открывавшееся зрелище было лишено красок – из-за пепельного небосвода, редко проливавшего на землю дождь.
Чем больше я удалялся от Аравийского моря к северу, тем жарче и безветреннее была погода. Температура держалась выше 40 °С. Во всех домах и на постоялых дворах, где я отдыхал, имелись кондиционеры, которые не работали – благодаря «передышкам» в электроснабжении. Лавки и автомашины были заклеены портретами Беназир и Зульфикара-Али Бхутто. Синд оставался твердыней двух уничтоженных премьер-министров: дочь погибла в 2007-м от пуль и взрыва бомбы, отца в 1979-м повесил военный диктатор Зия-уль-Хак. Однако изобилие портретов отнюдь не свидетельствовало о верноподданности населения. По слухам, многие развешивали по стенам изображения покойных правителей, опасаясь, что, если этого не сделать, власти отберут или уничтожат имущество нерадивых. Кроме того, пояснили мне, расклеенные в доме фотографии служили известной защитой от мятежников.
До Хайрпура я добрался ночью. Восточнее Хайрпура не было ничего, кроме пустыни Тар, простирающейся по обе стороны границы с Индией. До того как страны разделились, в Хайрпуре жило множество индусов. Я обнаружил, что местные мусульмане сохранили индийский обычай: приветствуя старшего, касаться его стопы. Этот незначащий жест прибавлял цивилизованности маленькому перенаселенному городу. Представители всех общественных слоев были вежливы и дружелюбны со мной, хотя жара сделала воздух густым и тяжким, словно вода, а правительственная десница не давала чувствовать себя иначе как безликую и ко всему безразличную стихийную силу. В окрестных краях процветали племенная вражда и кровная месть, случались вооруженные стычки, участники которых палили друг в друга из автоматов, а водопровод оставался великой редкостью. Причин этого было немало, но в конечном счете все сводилось к полной заброшенности. Я припомнил Гвадар, сохранявший исконную культуру в идиллической оторванности от алчного государства, живший в покое и достатке благодаря океанской торговле. Но если Гвадар обоснованно опасался новизны и возможного правительственного вмешательства, то Синд – внутренняя область – превратился в истинную упадочную цивилизацию из-за истощения ресурсов. В борьбе с окружающей дикой природой Синду отчаянно требовалась поддержка правительственной руки.
Более наметанному глазу Вильяма Далримпла, журналиста, историка и писателя, занимающегося Индостаном и посетившего Синд вскоре после меня, этот край показался «спокойнее и безопаснее, чем был долгое время» [21]. Как пишет Далримпл, сдержанная суфийская культура Синда позволяет бороться с религиозной непримиримостью, существующей в иных пакистанских областях. Ученый Андрэ Винк соглашается: Синд издавна был прибежищем «раскольников» и «вольнодумцев», таких как измаилиты (исмаилиты) [22]. Вожди белуджских и синдских сепаратистов без устали твердили в беседах: наши движения – светские, по сути, ничем не обязанные твердокаменно-правоверному исламу.
Чистая правда. И все же общее впечатление, оставшееся у меня от этой поездки по Пакистану, предпринятой на закате президентского правления Джорджа Буша-младшего в Соединенных Штатах, было не из лучших: повсеместное запустение и грозящий государственный крах. Я посетил Пакистан, когда Буш еще только пришел к власти, восемью годами ранее, – и с тех пор не произошло никаких положительных перемен. Поскольку во внешней политике Буша уделялось пристальное внимание Пакистану и его государственной устойчивости, отсутствие улучшений свидетельствовало: стратегия Буша порочна. Порочным оказалось и выделение средств на войну с Ираком – войну, которую поначалу одобрял и я сам. Разумеется, мне вовсе не было нужды снова являться в Пакистан, чтобы понять нечто столь очевидное. За истекшие годы я время от времени посещал Ирак и Афганистан – и сообщал о царившем там хаосе. Собственными глазами увидеть подобный политический провал, убедиться в том, что и восемь лет спустя Пакистан остается уязвим в случае мятежа, значило столкнуться с новыми, уже неоспоримыми фактами.
Путешествовать по Пакистану значило понять, почему Соединенные Штаты никогда не могли бы контролировать столь необъятные исторические процессы, как будущее цивилизованного народа, насчитывающего 172 млн человек и обитающего в другом полушарии. Как величайшая держава, Америка обязана хотя бы стараться помочь там, где это возможно. Америка по уши увязла в Афганистане и Пакистане после террористического акта, случившегося 11 сентября 2001 г. Если бы Соединенные Штаты сумели в грядущие годы принести Афганистану достаточное спокойствие, это всего лишь объединило бы регионы Индийского океана и Средней Азии трубопроводами, – и в итоге больше бы выиграл Китай, чем США. Иными словами, в развитии Гвадарского порта облик будущего геополитического мира проступает явственнее, чем в охоте на Усаму бен Ладена.
Развалины города Мохенджо-Даро (буквально «Холм мертвых»), процветавшего в бронзовом веке, высятся неким овеществленным упреком всему окружающему и его обобщенным историческим символом. Некогда Мохенджо-Даро был богат и великолепен. Это лишь снова заставляет думать об угрюмой, полунищей цивилизации, существующей в Индском поречье ныне, – особенно потому, что руины подчеркивают незапамятную древность этой долины и ее способность возрождаться вновь и вновь. Многочисленные квадратные и овальные оттиски на кирпичах поражают геометрической безупречностью. Мохенджо-Даро и расположенная выше по течению Хараппа были двумя крупнейшими городами Индской, или Хараппской, цивилизации. Джозеф А. Тейнтер, американский историк и антрополог, описывает Хараппскую культуру как «централизованное общество, в котором государство контролировало многие стороны повседневной жизни: помол зерна, обжиг кирпичей и гончарных изделий, предназначенных на продажу, заготовку поленьев и хвороста, постройку жилищ» [23]. Несколько иначе считает Бартон Штейн, исследующий южноазиатскую историю: он считает хараппские города, подобные Мохенджо-Даро, своего рода «ядрами сложных племенных объединений, а не единых государств» и полагает, что каждый город служил «вратами», которые вели в сельскохозяйственную глубинку страны [24]. В любом случае жестких государственных границ, подобных нынешним, скорее всего, не существовало – даже когда обширнейший край от Белуджистана до Гуджарата – читайте: от Южного Афганистана до Северной Индии – сделался единой страной.
На протяжении всего XX столетия в Мохенджо-Даро велись раскопки. Обнаружилось около 110 тыс. кв. м замысловатой кирпичной кладки, образовывавшей настоящие лабиринты. Изжелта-бурые и розоватые кирпичи – тонкие, словно сухарики, – легли на свои места 5000 лет тому назад и обозначили очертания домов, улиц, каналов. Раскопки вскрыли только одну десятую площади древнего города на индском берегу – вероятно, в свое время величайшего в мире, занимавшего площадь вдвое большую, чем Лондон, бывший под властью римлян [25]. Лица фигурок, выставленных в местном темном и скромном музее, куда я забрел на несколько минут, спасаясь от зноя, явно похожи на шумерские изображения: коротко подстриженные бороды, узкие раскосые глаза. Часть шумерского народа пересекла Иранское нагорье и пустыни Белуджистана, чтобы переселиться сюда из Междуречья около 4500 г. до н. э. [26].
Я вернулся к руинам, желая снова поглядеть на буддийскую ступу: монументальную постройку, сооруженную в Кушанский период II в. – то есть спустя 16 столетий после падения Мохенджо-Даро. Ступа возносится над развалинами так величественно, словно в мире нет и не было строения выше ее. Подумалось: а кому, собственно говоря, нужны Эмпайр-стейт-билдинг или Дубайская башня, коль скоро можно глядеть на эту чудесную ступу? Не имея отношения к цивилизации бронзового века, ступа выглядит среди останков Мохенджо-Даро совершенно уместно и естественно, похожая на скульптуру, выполненную Генри Муром, подчеркивающая симметрию и опрятную угловатость раскопанных руин, потрясающая откровенной, пронзительной своей человечностью. Ступу воздвигли кушаны – самый восточный из индоевропейских народов. Кушанская династия правила значительной частью Северной Индии, Пакистана, Афганистана и Средней Азии в первые столетия христианской эры; она славилась веротерпимостью и синкретизмом: в кушанский пантеон включались божества эллинские, древнеримские, персидские, индийские. Хороший пример того, что космополитизм, обычно связываемый с Индийским океаном, ни в коем случае не ограничивается просторами вод и пределами побережий.
К северу от Мохенджо-Даро находятся город Ларкана и селение Гари-Худа-Бакш, где высится фамильный мавзолей Бхутто. Это одна из откровенно феодальных пакистанских областей. По словам журналистки Мэри-Энн Уивер, «[богатые] семьи обитают в усадьбах, обнесенных высокими стенами, оберегаемых ружейными стволами; землевладельцы сплошь и рядом – звери, а земледельцы – крепостные; женщины носят чадру и живут на своей, особой половине дома, пока мужчины поглощают виски и стреляют фазанов» [27]. Белые купола мавзолея делают его заметным издалека, через чередующиеся полосы пустошей и крестьянских полей, на которых трудятся терпеливые ослики и могучие азиатские буйволы. По ближайшем рассмотрении цветные узоры на огромной гробнице были неровны, штукатурка и засохшие белила неряшливо пятнали растрескавшийся голубой фаянс. Стены были сплошь заклеены ветхими плакатами, изображавшими отца и дочь, Зульфикара и Беназир; портреты Беназир особенно выделялись; выходило, что усыпальница – священное для мусульман место – усеяна ликами сотворенных кумиров. А от мавзолея и в самом деле веяло суфийским и шиитским духом. Окруженная колоннами могила Зульфикара-Али-Бхутто напоминала гробницу аятоллы Хомейни (Южный Тегеран), куда правоверные приходят пообедать в тишине и провести целый день, сидя на вышитых ковриках. Здесь не замечалось никакой работы садовника или декоратора. Там и сям разбросаны плиты фамильных надгробий. Молитвенный зал казался скромным, захолустным. Беназир Бхутто получила образование в Гарварде и Оксфорде, однако ничего западного в этом мавзолее не ощущалось. Здесь властвовало простонародье, здесь оно было желанно. Вокруг гроба, скрывавшего прах Беназир, восседали бородатые старики, осыпавшие розовыми лепестками крышку, на которую возложили ковер-другой: настоящее надгробие соорудят попозже. Продавались медальоны и плакаты с портретами Беназир; новобрачные приходили к ее гробу, чтобы принести обет супружеской верности.
В душе остававшаяся, невзирая на западное образование, дочерью синдского феодала, Беназир Бхутто была блистательным мыслителем и спорщицей, не способной плодотворно руководить подчиненными. Два срока, в течение которых она оставалась в должности пакистанского премьер-министра, стали передышками, станциями на пути к еще худшей общенациональной коррупции; к хаосу, в итоге вызвавшему возрождение военной диктатуры. Благодаря своему красноречию и щедрым посулам Беназир оказалась мишенью для исламистов, рассматривавших премьер-министра как опасный символ умеренности и демократии. Одних лишь символов было недостаточно, чтобы спасти Пакистан, которому требовался человек, способный править по-настоящему, а этой способностью Беназир не обладала. В любом случае, если Пакистану суждено увидеть светлое будущее, он должен сначала превратиться в децентрализованное государство, а не в то, каким он является издавна и поныне.
Цивилизации – «хрупкие и преходящие явления», пишет антрополог Джозеф Тейнтер [28]. В бронзовом веке Мохенджо-Даро сумел выжить и выстоять, будучи предельно централизованным городом-государством внутри земледельческой и скотоводческой конфедерации – по всей вероятности, слабо сплоченной и слишком обширной. Таким же вполне может оказаться и будущее страны, зовущейся Пакистаном. Она или станет жить как федеративное космополитическое государство – сообразно замыслу своего основателя, Мохаммеда-Али Джинны, – или приходить в дальнейший упадок. А это значит: либо так, либо иначе удельный вес Белуджистана и Синда возрастет. В их пределах – в областях, которые обретут более яркую национальную окраску, – на Макранском побережье появятся аравийские морские порты, чья судьба будет влиять на судьбы городов, расположенных в глубине страны. Путешественник и языковед Ричард Фрэнсис Бартон, живший в XIX в. и проведший на Синдской земле пять лет, писал: подобная цепочка гаваней, тянущаяся вдоль Макранского берега к Ирану, позволила бы «легко и полностью прибрать к рукам среднеазиатскую торговлю». А Бомбей сделался бы «местом, где сойдутся все нити, изначально протянутые в самые разные стороны» [29]. Подобный взгляд – хотя в свое время он был империалистическим – не кажется устарелым ныне, когда существующие государственные границы становятся все ненадежнее.
Глава 6
Тревожное становление Гуджарата
Если у духа, присущего нынешней Индии, есть географическое средоточие – ищите его на западе, в Гуджарате, штате, граничащем с пакистанским Синдом. Там, на гуджаратском берегу Аравийского моря, в портовом городе Порбандаре, в 1869 г. родился Мохандас Карамчанд Ганди – Махатма, что по-санскритски значит «Великая Душа». Важнейшим событием индийской борьбы за независимость, деянием, обретшим черты государственного мифа, сделался почти 400-километровый Соляной поход, совершенный в марте 1930 г. Махатмой, которого сопровождали тысячи единомышленников, через весь Гуджарат: от Сабармати Ашрама – к югу, до маленького поселка Данди на берегу Камбейского залива. Там, бросая вызов британским законам, Ганди собрал пригоршню морской соли – в знак того, что не признаёт запрета на частную добычу и продажу этого съедобного минерала кем бы то ни было, кроме колониальных властей. «Соль необходима для жизни человеческой наравне с воздухом и водой. Соль – единственная приправа к пище, доступная беднякам, – писал Ганди. – Поэтому я рассматриваю налог на соль как самый бесчеловечный с бедняцкой точки зрения. А поскольку движение за независимость в первую очередь заботится об участи обездоленных этой страны, для начала следует покончить именно с этим злом».
Отождествляя себя с бедняками, Ганди закономерно следовал своей вселенской философии, суть которой всего нагляднее вмещается в следующее высказывание – вероятно, самое откровенное из политических заявлений Махатмы: «Я не доверяю доктрине “величайшего возможного блага для величайшего возможного большинства”. По сути, это значит: чтобы 51 % людей получили свое предполагаемое благо, нуждами и потребностями остальных 49 % можно – точнее, даже нужно – пожертвовать. Это бессердечная доктрина, вредившая и поныне вредящая человечеству. Единственно истинное, достойное и гуманное учение говорит: “величайшее возможное благо – всем и каждому”».

Чтобы защитить бедняков от свирепого капитализма, который заботится лишь о благе большинства, а не всякого и каждого, независимой Индии следовало избрать социалистический путь. Скажем определеннее: хотя индусы преобладали численно, права десятков миллионов мусульман никто не стремился бы и не смел бы попирать. Хотя Индию окутывают религиозность и мистицизм, «величайшее возможное благо – всем и каждому» оказалось бы досягаемо лишь при условии, что сознание и новой нации в целом, и правящей партии Индийский национальный конгресс (ИНК) сделается откровенно светским. Невзирая на свой простонародный облик, полуголый Махатма Ганди стал воплощением вселенского духа, присущего Индийскому океану, – и в большой мере наделил этим духом индийскую партию независимости.
Однако дух этот претерпел непростые перемены в наступившую новую эру воинствующего капитализма, а также этнических и религиозных трений, отчасти вызванных яростным протестом против общественной однородности, что порождает глобализация. Гуджарат, подобно горстке других индийских штатов, наиболее связанных с долгой торговой историей и традициями Индийского океана, снова оказался в самом сердце того, что представляет собой взбаламученная и бурлящая Индия, – и на сей раз того, что явно угрожает ее вхождению в число великих мировых держав.
Делаю оговорку: я вполне спокоен за Индию. Полагаю, что ее демократия уже доказательно явила достаточную гибкую прочность и способна выдержать грядущие мятежи и местное безвластие чуть ли не лучше, чем авторитарная система Китая. В конечном счете индийская демократия – сила посредническая и примиряющая. А еще Индия – родина нескольких религий: индуизма, буддизма, джайнизма и сикхизма. Иудеи, зороастрийцы и христиане обитают в Индии сотни и тысячи лет. Тибетский далай-лама жил на индийской земле десятилетиями. Индия трижды избирала президентов-мусульман. Что это, если не свобода и эклектика? Стало быть, читайте нижеследующее как долгую повесть-предупреждение. Я отнюдь не предрекаю гибель Индии – скорее задаюсь вопросом: какой неприятный оборот может принять индийская история, доныне бывшая исключительно многообещающей?
Индия – родина 154 млн мусульман, занимающая по численности мусульманского населения третье место в мире после Индонезии и Пакистана. Межрелигиозная терпимость – неотъемлемо важное условие, conditio sine qua non, для индийской государственной устойчивости и успешного развития, ибо по всей стране, а особенно в торговых штатах, подобных Гуджарату, индусы и мусульмане вынужденно предаются ежедневному деловому общению. Можно предположить, что Индия потеряла бы от исламского экстремизма гораздо больше, чем любое иное государство. Но… в Гуджарате – и не только там! – индусы и мусульмане стали в последнее время жить строго врозь. Дети покинули школы, расположенные по чужую сторону границы между общинами, и растут первым поколением, у которого нет сверстников-друзей среди иноверцев. Множество мусульман отвернулись от богатой полуостровной традиции религиозного синкретизма, отрастили длинные бороды, надели тюбетейки, закутали женщин в паранджу. «Неприязнь между индусами и мусульманами, – сетует гуджаратский историк Двиджендра Трипати, – никогда еще не достигала такой силы со времен отделения Пакистана от Индии». И не случайно это происходит именно тогда, когда Гуджарат процветает экономически, изобилует новехонькими супермаркетами, многозальными кинотеатрами, частными портами и шоссе, выступает живой и полнокровной областью-государством, на чьих берегах сходятся торговые пути, протянувшиеся по Индийскому океану.
Начало гуджаратским религиозным трениям положили причины более серьезные, чем трудности экономического развития. «2002 год». В Гуджарате и по всей остальной Индии эти слова произносят примерно с тем же чувством и выражением, с каким в Соединенных Штатах говорят «11 сентября». Эти слова напоминают о чудовищных преступлениях, глубоко врезавшихся в народную память, вовеки не забываемых, сделавшихся чуть ли не мифическими злодействами. Они явили собой гнуснейший противовес незабвенному Соляному походу, предпринятому Ганди. Глубина впечатления, оставленного этими событиями, поражает – особенно учитывая, что зверские стычки между религиозными группами, кастами и племенами приключаются в Индии регулярно и забываются быстро, как бы растворяясь в общем бурлящем вареве, что зовется восхитительной индийской демократией.
То, что здешние поборники прав человека именуют «погромом», началось 27 февраля 2002 г., когда в городе Годхра, чье мусульманское население многочисленно и через который проходят поезда, следующие из Гуджарата в Уттар-Прадеш, заживо сожгли 58 железнодорожных пассажиров-индусов. Мусульман, учинивших расправу, по всей видимости, разъярили издевательские насмешки других индусов, ранее миновавших Годхру по пути в город Айодхья (штат Уттар-Прадеш): там индусы устраивали демонстрации, требуя, чтобы вместо снесенной мечети, построенной в эпоху Великих Моголов, был возведен индуистский храм. Узнав о злодействе, националист-индус Нарендра Моди, незадолго до того назначенный верховным министром Гуджарата, тотчас объявил 28 февраля днем всеобщего траура. Погребальная церемония состоялась на улицах Ахмадабада, крупнейшего города в Гуджарате. «Это было недвусмысленным призывом к насилию, – пишет Эдуард Люс, индийский корреспондент Financial Times, в своей книге “Богам вопреки: странный расцвет нынешней Индии” [1], – после которого тысячи индусских боевиков учинили кровавую баню в Ахмадабаде и других гуджаратских городах. Мусульманские кварталы стали смертельной западней для обитателей». В разгар погромов верховный министр Моди процитировал третий закон Ньютона: «Действию всегда есть равное и противоположное противодействие».
Это заявление развязало убийцам руки. Целые толпы насиловали женщин-мусульманок; затем в горло жертвам и их детям вливали керосин и подносили пламя. Мужчин-мусульман заставляли смотреть на происходящее и лишь после этого предавали смерти. Цифры и некоторые подробности случившегося выглядят спорными. Некоторые источники говорят о 400 изнасилованных женщинах, 2000 убитых мусульман и 200 тыс. людей, оставшихся бездомными по всему штату.
Убийцы – опять же согласно некоторым источникам – носили ярко-желтые шарфы и шорты цвета хаки: униформу РСС, Раштрия Сваямсевак Сангх, или Организации национальных добровольцев, группы, главенствующей в индусском националистическом движении. Явились они вооруженные саблями и газовыми баллончиками. Погромщики запаслись избирательными списками, чтобы распознавать мусульманские дома. У них имелись даже адреса частных предприятий и заведений, принадлежавших мусульманам, однако скрытности ради записанных на имя индийских деловых партнеров. И Эдуард Люс, и влиятельный писатель Панкадж Мишра, и многие другие замечают: зверства столь основательно подготовленные, столь расторопно и согласованно учиненные, должны были совершаться по указанию и при содействии властей. «Несколькими неделями раньше провели розыски и опросы – установили места жительства мусульман, – говорит Прасад Чакко, заведующий Ахмедабадской неправительственной организацией (НПО) по правам человека. – Полиция была в сговоре с боевиками. Поговаривали: пусть найдется лишь повод, а уж люди дадут волю чувствам. Если не число убитых, то способы расправы свидетельствуют о геноциде, совершаемом по указанию правительства и при его поддержке».
И в самом деле, полицейские стояли поодаль, наблюдая за убийствами, а в некоторых случаях, по сведениям «Стража прав человека» (Human Rights Watch), подсказывали погромщикам, где живут мусульмане. Что до 200 тыс. людей, оставшихся без крова, то в штате Гуджарат власти не сделали ничего или почти ничего, чтобы помочь им или возместить понесенные утраты. Многие светские НПО держались в стороне, опасаясь навлечь на себя гнев индийского правительства. Мусульманские благотворительные учреждения – «Джамиат-э-Ислами», «Джамиат-Таблиг» и «Джамиат-Улема-э-Хинд» – создавали приюты для пострадавших. Эти же учреждения содействовали радикализации молодых мусульман, последовавшей за чудовищной резней. Позднее Моди, чье имя стало притчей во языцех по всей Индии, назвал поселки мусульманских беженцев «фабриками младенцев» [2].
«Эхо случившегося в 2002-м раскатывается годы спустя, поскольку в убийствах были замешаны власти штата Гуджарат и поскольку до сих пор никто публично не заявил, что раскаивается в содеянном», – рассказала в беседе со мной София Хан, руководительница местной исламской НПО. «Угрызений совести не наблюдается», – подтвердил Рамеш Мехта, бывший судья. Как спокойно разъяснил мне один из индусских активистов: «Если бы в Годхре не подожгли поезда, не случилось бы и погромов». Той же точки зрения придерживается, в частности, большинство образованных индусов, жителей Гуджарата. Индийские политические партии целыми десятилетиями использовали национальную и религиозную рознь себе во благо – вспомним хотя бы: партия Индийского национального конгресса разжигала ненависть к сикхам после того, как в 1984-м Индиру Ганди убил ее собственный телохранитель-сикх, – однако гуджаратские власти содействовали мусульманским погромам с особым цинизмом, почти не таясь. Теперь, сказала мне Джоанна Локхэнд, активистка, помогающая уцелевшим жертвам избиения, местные власти «отвергают самую мысль о том, чтобы призвать кого-либо к ответу и восстановить справедливость».
Еще вернее было бы сказать: эхо 2002-го доносится и поныне из-за того, что в годы, миновавшие с дней резни, верховный министр Моди преуспел на политическом поприще. Он не приносил никому соболезнований, ни разу не выразил ни малейшего сожаления о случившемся – и сделался героем индусского националистического движения. Моди неоднократно переизбирали верховным министром. Показная неподкупность Моди, почти механическая гладкость его работы и страсть «активно» руководить местной бюрократией привели к тому, что за последнее время Гуджарат сделался правительственным любимцем: в развитие Гуджарата государство вкладывает больше средств, чем в развитие любой другой индийской области. Посетить Синд, а после него Гуджарат – значит понять, отчего Пакистан остается государством-неудачником, а Индия превратилась в преуспевающую страну, способную простирать экономическую и военную мощь по всему региону Индийского океана. Возможно, это мое впечатление и не безошибочно, однако оно возникло в основном в то время, когда я изучал управленческие методы Моди.
На протяжении последних лет как индусы, так и мусульмане со всех концов страны хлынули в Гуджарат, чтобы получить работу на его расширяющихся фабриках и заводах. Гуджарат при Моди несколько напоминает Сингапур при Ли Куан Ю. Упоминая завораживающие ораторские способности Моди, развитию которых способствовала прошлая театральная карьера, кое-кто сравнивает гуджаратского верховного министра с Адольфом Гитлером. Моди не просто самая зловещая и опасная личность среди политиков сегодняшней Индии – Моди, быть может, единственная привлекательная личность среди них; первая, вышедшая на государственную арену с 1970-х гг., с времен Индиры Ганди.
Разумеется, Нарендра Моди – не Ли Куан Ю и не Адольф Гитлер. Он сам по себе и таков, как есть: новая гибридная разновидность политика – отчасти высокопоставленный чиновник с исключительными управленческими способностями, отчасти подстрекатель отребья, имеющий исступленных идеологических последователей. Он производит впечатление и вызывает беспокойство. Развитие средств массовой информации обернулось развитием стилей управления; и если в наступившем новом веке Барак Обама дает надежду миллионам людей, то предводители, подобные Моди, показывают, каким образом этот век способен расшататься: между представителями разных вероисповеданий возникают непробиваемые психологические преграды, покрытые лаком холодной бюрократической сноровки. Именно поэтому фигура Нарендры Моди столь важна: значительно отличаясь духовно от Махатмы Ганди, он предстает очень серьезным действующим лицом в повести об Индийском океане.