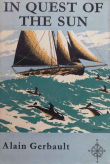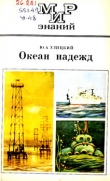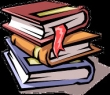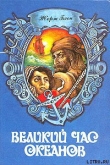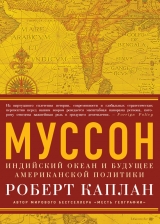
Текст книги "Муссон. Индийский океан и будущее американской политики"
Автор книги: Роберт Каплан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Это не было случайной, пустой угрозой. Другие националисты говорили, что восставшие белуджи примутся подкарауливать и убивать едущих сюда китайских рабочих – и тогда всей гвадарской затее конец [14].
Наш разговор подготовил меня к встрече с Навабом Хаир-Бакш Марри, вождем белуджского племени марри, без малого 60 лет сражавшимся против правительственных войск. Незадолго до того пакистанские солдаты убили его сына[29]29
В ноябре 2007-го пакистанская служба государственной безопасности убила Наваб-заде Балача Марри, младшего из шести сыновей Наваба.
[Закрыть]. Марри принял меня в Карачи, на своей роскошной вилле: толстые внешние стены, исполинские растения, богатая и вычурная мебель, слуги и телохранители, отдыхающие на коврах, постеленных в саду. Марри был стар и сморщен, опирался на трость, носил длинное одеяние и бежевый пробковый шлем с широкими выемками, отличавшими его от шлемов, которые носят синдхи. Он угощал меня разнообразными местными лакомствами и говорил на грамматически правильном английском языке, слегка запинаясь и чуть шепелявя. В сочетании с одеждой и обстановкой это придавало Навабу известное величественное обаяние.
– Если мы продолжим сражаться, – мягко сказал он, – вспыхнет интифада, подобная палестинской. Меня ободряет и утешает мысль о том, что молодое поколение белуджей продолжит партизанскую войну. Пакистан не вечен. И вряд ли просуществует долго. Британская империя, Пакистан, Бирма – все это государства преходящие. После того как в 1971-м Бангладеш отделилась от Пакистана, – так же мягко и наставительно продолжил Марри, – единственным живым началом в стране осталась империалистическая мощь пакистанской армии. Восточная Бенгалия [Бангладеш] была важнейшей составной частью Пакистана. Бенгальцев было достаточно много, чтобы противостать пенджабцам, но вместо этого они отпали, зажили самостоятельно. И теперь белуджам осталось только драться.
По словам Наваба, кроме белуджей, он не любил никого в Пакистане и никому не верил. О Беназир Бхутто, синдхийке, возглавлявшей Пакистанскую народную партию, он был невысокого мнения. В конце концов, пояснил Наваб, это при ее отце, Зульфикаре-Али Бхутто, в 1970-х, «белуджей вышвыривали из летящих вертолетов, заживо хоронили в братских могилах, заживо сжигали; белуджам вырывали ногти, ломали кости… я не радовался, увидев ее у власти».
Я спросил: как насчет пенджабских предложений помириться с белуджами? «Мы говорим пенджабцам, – ответил Марри тем же ласковым, величественным голосом, – оставьте нас в покое, проваливайте, не надо нам ни вашего правления, ни ваших братских объятий. Коль скоро здешняя пенджабская оккупация, которой содействуют американские империалисты, не прекратится, наш народ исчезнет с лица земли».
Он пояснил: Белуджистан располагается на землях трех государств – Пакистана, Ирана и Афганистана – и потому в конце концов восторжествует, когда правительства этих стран ослабеют. По мнению Марри, гвадарская затея была всего лишь новейшей пенджабской хитростью – и тоже окажется преходящей. Белуджи попросту начнут минировать новые шоссе и трубопроводы, которые протянутся из Гвадара в будущем.
Он сыпал оскорблениями, отвергал политическую уступчивость – по-видимому, считал ее никчемной. Покидая виллу, я внезапно подумал: развитие Гвадара или его застой совершенно явно зависят от того, как поведет себя исламабадское правительство. Если оно так и не сумеет прийти к великому соглашению с белуджами – соглашению, способному оставить обозленных людей, подобных Низару Белуджу и Марри, то весь мегапроект, намеченный к воплощению близ иранской границы, превратится в очередной поглощенный пустыней город, осаждаемый или захваченный местными бунтарями. Впрочем, если бы к такому соглашению и пришли, позволив Белуджистану сделаться автономной областью в пределах демократического и децентрализованного Пакистана, увиденный мной патриархальный рыбацкий поселок превратился бы в клокочущий Роттердам на Аравийском море и начал расширяться к северу, в Самарканд.
Ни тот ни другой путь не приемлемы.
Если Белуджистан – крайняя восточная полоса на землях Среднего Востока, во многом напоминающая Аравийский полуостров, то Синд и вьющаяся долина реки Инд, служащая территориальным рубежом, означают: здесь начинается настоящий Индостан – хотя, разумеется, история и география привносят дополнительные тонкости. Синд, подобно Макрану – хотя и в меньшей степени, – преддверие, а не четкая граница; земля, которую издавна захватывали всевозможные пришельцы. Например, в VIII и IX вв. его покорили арабы, которые затем повели торговлю по различным городам [15]. Наверное, лучше думать, что Индостан начинается не с некой пограничной черты, а с череды пограничных областей.
Слова «Индия» и «хинди» произошли от слова «Синдху» – так звали реку Инд. Имя реки зазвучало по-персидски как «Хинд», а в греческом и латинском языках, которыми разговаривали эллины и римляне – владыки античного мира, – как «Индус». Инд и прилегающая к нему внутренняя область Синд манили к северу, за сотни километров от обширного города-государства Карачи на берегах Аравийского моря, к плодородному Пенджабу и Каракоруму, что по-тюркски значит «Черные Камни»: головокружительно крутым горным хребтам – отрогам Гималайских гор[30]30
«Пенджаб» означает «Пятиречье», то есть: Беас, Рави, Джелам, Сатледж и Чинаб, как их зовут на языке урду, испытавшем сильное влияние персидского. Все они берут начало в горных гималайских озерах.
[Закрыть].
Эстетически Карачи раздражает – во всяком случае, для западного взора он малопривлекателен. Если европейским городам, почтенным местам людского обитания, присуща вертикальность, устремленность ввысь на замкнутом и сравнительно малом пространстве, то Карачи горизонтален – эдакий город будущего, с множеством небольших магазинов, обслуживающих отдельные кварталы, и почти отсутствующими признаками городского центра, как его понимают в Европе. Сидя в шашлычной, располагавшейся на крыше одного из домов, я созерцал разливы сточных вод, впадавших в соленую воду гавани, где, подобно динозаврам, высились козловые краны и лебедки. Если обернуться, можно было увидеть ряды обшарпанных, грязных жилых домов – коробок из серого цемента, украшенных фестонами сохнущего на веревках белья. Все окутывала пепельно-маслянистая дымка. Жухлые пальмы и мангровые болота были огорожены грудами шлакоблоков. Городу недоставало сердцевины, он казался безликим. Нагромождения мусора, камней, грязи, кирпичей, автомобильных покрышек и засохших древесных пней помогали размечать внутригородское пространство. Наемные охранники были многочисленны и вездесущи – как и лавки, торгующие спиртным, и радикально-исламские медресе, в которых я уже бывал, приезжая сюда прежде. Впрочем, противоречия этого города делались одним из его положительных свойств. Карачи свободен от оков, налагаемых неизгладимым историческим прошлым на прочие индостанские города. Оттого он имеет лучшие возможности для коренных изменений в следующие десятилетия, может обратить себе на пользу нынешние всемирные тенденции городского быта и архитектуры. Все мы знаем Карачи как рассадник террора – это неоспоримо, но столь большой город всегда многолик. Он скорее интересовал меня, нежели отталкивал.
Карачи стал обширной строительной площадкой, куда текут деньги из государств Персидского залива, но, похоже, ни один проект не согласуется с другими архитектурно. Высокие мраморные стены вокруг вилл, напоминающих крепости, оснащенных системами сигнализации, охраняемых вооруженными людьми, подсказывают: в городе скрываются большие богатства. Крикливо блистательные магазины и ресторанные сети западного образца маячат среди обширных трущоб, по которым поочередно рыщут целые орды бродячих псов и стаи взъерошенных ворон. Женщины, убранные золотом и драгоценными камнями, облаченные в тонкие шелка ядовитой раскраски, движутся по тем же тротуарам, что оборванные калеки: горбуны, безрукие и безногие. Благодаря смешению нищеты и роскоши здешние кварталы бывают лучше или хуже лишь относительно, а не просто хорошими и скверными. Те, что получше, носят пустые, ни о чем не говорящие имена: Клифтон, Дефенс и т. п.
При малом числе вертикальных преград голос муэдзина, призывающего мусульман к молитве, слышен везде: клич разносится по открытым городским пространствам беспрепятственно, как приливная волна. Лишенный традиций, подобных лахорским, зато кипящий межнациональными стычками синдхов и мухаджиров (мусульманских иммигрантов из Индии), пуштунов и белуджей, в грядущем этот порт на Аравийском море окажется открыт воздействию двух динамичных сил: ортодоксального исламского вероучения и бездушного материализма – привносимых соответственно из Саудовской Аравии и Дубая. Впрочем, по сравнению с не столь далеким Маскатом Карачи казался обратной стороной луны. Маскат, четко разграниченный по районам, ослепительно белый, изысканно застроенный в изящном стиле Великих Моголов, говорил – посредством строго традиционной восточной архитектуры – о крепком и просвещенном государстве, оберегающем свои города от темных сторон глобализации. Что до Карачи, то глобализация, казалось, поглотила его. В отличие от Омана, здесь почти не чувствовалось государственной власти. В этом смысле Карачи был чисто пакистанским городом. В отличие от Лахора и громадных индийских городов, построенных Великими Моголами, Карачи оставался замкнутым прибрежным городком с 400 тыс. жителей, а разросся в 16-миллионный мегаполис, не имеющий, однако, ни собственного лица, ни славного прошлого.
Половина горожан ютилась в трущобах, известных под местным названием катчиабаади. Городская потребность в водоснабжении удовлетворялась едва ли на 50 %, к тому же возникали постоянные перебои с подачей электрического тока – в Карачи их отчего-то зовут «передышками» [16]. И все же, подумалось мне, Карачи может выручить сама разношерстность его населения. В конце концов, это морской порт, где обитают деятельные индусы. Кроме того, он имеет зороастрийскую общину, оставляющую своих покойников на съедение стервятникам в «башнях безмолвия», которыми венчаются вершины особых холмов. Никакой религиозный фундаментализм не зайдет в Карачи слишком далеко: его обуздают приверженцы иных верований. Близость моря, привносящего разнообразные противоречивые веяния, присущие Индийскому океану, могла бы надежно защитить Карачи от его же собственных худших особенностей.
Невзирая на привычные межнациональные столкновения, город обычно казался мирным. Однажды я вел машину мимо глубоко врезающихся в сушу морских заливов и прудов, полных соленой воды, мимо старых, шлакоблоковых, заброшенных зданий с шелушащимися вывесками (прежде там были магазины) – мимо воплощенной мерзости запустения – и вдруг увидел целое сборище семей, отдыхавших на пляже мыса Манора. Люди наслаждались могучим аравийским прибоем: гулким, вскипавшим бурой пеной, – причалов и пристаней, способных служить волнорезами, там не существовало. Только что закончился джума-намаз – пятничная мусульманская молитва. Песчаный берег был чист – в отличие от большинства прочих уголков Карачи, – дети разъезжали вдоль берега на верблюдах, устроившись в прихотливо расшитых седлах. Семьи теснились группами, улыбались, фотографировали друг друга. Подростки собирались вокруг заржавленных ларьков, торговавших рыбой и напитками. Некоторые женщины пользовались помадой и румянами, носили модные камизы и шальвары; большинство куталось в длинные черные одежды.
Я припомнил иное зрелище, несколькими годами ранее – в йеменском порту Мукалла, километрах в 600 западнее Дофара. Местный пляж делился надвое: одна половина отводилась для мужчин и мальчиков-подростков, другая – для женщин и малышей. Лицо каждой женщины скрывала чадра, большинство мужчин были бородаты. Безмятежное место общего отдыха, где толпы правоверных пролетариев радовались первому дыханию вечернего бриза [17]. Западу – особенно Соединенным Штатам – не оставалось ничего другого, как только мирно сосуществовать с подобными толпами. Это была сама всемирная мощь, неброская и спокойная, отдыхавшая в лоне глубокой животворной веры.
Обе сцены дышали уютной простотой, хотя в Карачи пляж выглядел несколько более космополитическим. Индуистский храм – бурый, причудливый, разрушающийся – высился на заднем плане, словно часовой. Здесь я мог вообразить себе Карачи как небольшой рыбачий городок, где существует свобода вероисповеданий, как некий спутник Мумбая (Бомбея) и других городов на западном индийском побережье – как нечто, чем Карачи и надлежало бы стать по праву, не подвергнись он архитектурному разгрому. Видно было: едва лишь возник мусульманский Пакистан, и Карачи оказался отрезан от Индии, порт утратил органическую связь со всеми прочими центрами индийской цивилизации. В итоге он превратился в изолированный исламский город-государство, лишенный обогащающего влияния многосторонней индуистской духовности. И оттого, даже раздавшись вширь, Карачи не обрел достаточной вещественности. Не исключено, что глобализация в духе Дубая и других стран Персидского залива в конце концов принесла бы Карачи благо. Потеряв Индию, порт получил бы взамен тесное общение с Персидским заливом.
Саид-Мустафа Камаль, молодой мэр Карачи, говорил о создании центра информационных технологий, который превратил бы город в «перевалочный пункт» при обмене полезными идеями, возникающими на берегах Персидского залива и в Азии [18]. Имелись и другие взгляды на будущее Карачи – не шедшие полностью вразрез с точкой зрения молодого мэра, но скорее соответствовавшие воззрениям белуджей относительно собственной земли. Предполагалось, что Карачи способен сделаться столицей независимого – по крайней мере, автономного – Синда; причем ни Пакистан, ни Индия не рассматривались как последнее слово в политической организации, по-человечески приемлемой для полуострова Индостан.
Мне припомнилось: в минувшие времена Синд оставался под чужеземной властью 6000 лет – и, будучи расовой смесью арабов, персов и прочих приходивших и уходивших завоевателей, сохранил крепкое историческое и культурное своеобразие. Синд числился в составе Бомбейского президентства, оставался провинцией Британской Индии до 1936 г., после чего сделался самоуправляемой областью, подотчетной округу Нью-Дели. К Пакистану Синд присоединился не столько потому, что Пакистан был мусульманским, сколько потому, что новое государство пообещало Синду автономию, которой область дожидается и поныне. «Вместо этого, – дружно повторяли мои собеседники, – мы превратились в пенджабскую колонию». По убеждению националистов-синдхов, побережья Аравийского моря могли бы еще вернуться к своему допортугальскому средневековому прошлому, разделиться на царства и княжества. В минувшем Кабул и Карачи были так же неразрывно связаны с Лахором и Дели, как Дели с Бангалором и остальными районами Южной Индии. В этой среде обитания с помощью глобализации, – говорили собеседники, – синдские сунниты и шииты могли бы вести дела, соответственно, с Саудовской Аравией и Ираном без принудительного исламабадского посредничества.
Как ни яростно звучали некоторые из этих голосов, гнев их был объясним и целенаправлен. Людей сердила крайняя централизация политической власти в государстве. Многолюдный штат Пенджаб, расположенный в глубине страны, заправлял всем, и это высасывало из Пакистана жизненные силы.
Я разговаривал с Али-Гассаном Чандио, вице-председателем Прогрессивной партии Синда, сидя в пустой комнате, где по стенам шныряли ящерки-гекконы. В распахнутые окна веял муссон. Несколько кварталов отделяло нас от места, на котором некая дубайская фирма собиралась выстроить торговый центр и жилое многоэтажное здание. То немногое, что в Карачи оставалось от минувшего, стирали с лица земли. Чандио заговорил со мной о Мохаммеде-Али Джинне, основателе Пакистана, задумывавшем государство, где люди любых национальностей обрели бы права. Однако Джинна умер вскоре после рождения Пакистана, и военные прибрали к рукам всю власть. «В Индии переворотов не приключалось, а в Пакистане то и дело объявляли военное положение. Мы хотим, чтобы пенджабские вояки разошлись по казармам. Синдхи вольются в состав Пакистана, если он станет демократической страной, как Индия. Индия, – подчеркнул Чандио, – невзирая на все тамошние войны, убийства и насилие, и до сих пор являет Южной Азии государственный образец для подражания». Подобно всем белуджским и синдским националистам, которых я встречал на пакистанских берегах Аравийского моря, он с открытым одобрением отзывался об Индии, которую и он, и прочие рассматривали как союзницу в борьбе с государством, где синдхи чувствовали себя узниками. Все националисты высказывались в пользу открытой границы с сопредельным индийским штатом Гуджарат – наиболее экономически подвижной областью Индии, куда притекает четверть частных и государственных капиталовложений. Сама близость и сила Гуджарата напоминали белуджам и синдхам о собственной плачевной участи.
Башир-хан Куреши, руководитель Прогрессивного фронта «Синдхи живы!», принял меня в своем доме на восточной окраине Карачи. Ветер гнал по улице использованные пластиковые пакеты. Всюду летали и шныряли вороны. В наших пепельницах громоздились окурки. Громко гудел вентилятор. Голос Башир-хана, крупного красивого человека, без труда заглушал это гудение.
– Пакистан по природе своей – сущее нарушение договора, – сказал Куреши и поведал государственную историю с точки зрения белуджского и синдхского меньшинства, особое внимание уделяя отделению Бангладеш в 1971 г.: бенгальцы вдохновили своим примером остальные меньшинства, мечтавшие о лучшей жизни. Еще один-единственный переворот в Пакистане, – объявил собеседник, – и на землях Синда и Белуджистана вспыхнет гражданская война.
Возможно, сыграла роль угрюмая, безрадостная обстановка, в которой мы разговаривали, – казалось, комнату вот-вот погребут под собой раскаленные пески пустыни, – однако я не согласился с суждениями Куреши. Они были слишком уж прямолинейны и четки и выглядели осуществимыми, лишь если вы полагали, будто синдхи – преобладающее и сплоченное единство людей, поддающееся аккуратному отделению от Пакистана. Это не так, ибо даже в самом Карачи синдхи составляли меньшинство. Когда страна разделилась, миллионы индийских мусульман (мухаджиров) бежали сюда и создали собственные политические объединения. Кроме них имелись пуштуны, пенджабцы, индусы и другие меньшинства. Стычки, приключавшиеся в прошлом, свидетельствуют: синдхи могли бы настоять на своем только в итоге успешных уличных сражений. Мы еще не учитываем раскола внутри самой синдхской общины, деления на шиитов и суннитов, также время от времени приводившего к свирепым потасовкам. Из-за превратностей миграции в последние десятилетия синдхи стали – по крайней мере, внутри Карачи – неким отвлеченным понятием: подобно белуджам в Кветте, где это произошло из-за притока пуштунов. Со временем Карачи, как и Гвадар, мог бы превратиться в автономный город-государство. Синд и Белуджистан сумели бы получить автономию в демократическом, гораздо менее жестко управляемом Пакистане будущего. Однако я почувствовал: Пакистан, каков он ныне, отнюдь не канет в историю мирно и спокойно. Погромы и резня в государстве Великих Моголов и средневековых княжествах померкнут по сравнению с тем, что может произойти теперь: главным образом оттого, что городское население разноплеменно и перемешано. Чтобы этого не случилось, грядущие десятилетия должны сделаться временем создания особо хитрых и утонченных политических структур.
Мохаммед-Али Джинна, Каид-и-Азам (Отец Народа), создатель государства, которое многие считают самым взрывоопасным на свете, погребен посреди обширного, безукоризненно ухоженного сада в центре Карачи. Сад настолько прекрасен и совершенен, что, зайдя в него, особенно остро чувствуешь, насколько беден и хаотичен окружающий город. Мавзолей увенчан округлым куполом, слегка утопленным в мраморные, склоняющиеся внутрь стены. Геометрия гробницы так сурова, от нее так веет кубизмом, что на ум поневоле приходят всевозможные отвлеченно гладкие понятия, связанные с идеологией и политикой. Почти вызывающе роскошный мраморный интерьер наводит на мысли о супермаркетах или местах беспошлинной торговли в новейших аэропортах Персидского залива. Это строение порождает в человеке смешанное чувство тревоги и странной пустоты. Как неуместно и неподходяще выглядит подобный мавзолей среди обшарпанного, беспорядочного Карачи, так и созданное Джинной образцовое государство по сей день предстает неуместным в условиях нашего беспорядочного мира.
По моим наблюдениям, в Пакистане три школы мысли относительно Джинны. Первая, официальная, провозглашает его великим поборником мусульманских прав, жившим в XX столетии, – кем-то вроде Мустафы-Кемаля Ататюрка. Вторая, которой придерживаются немногие отважные пакистанцы и многие западные умы, утверждает: Мохаммед-Али Джинна был тщеславным человеком, неудачником, бездумно породившим чудовищную нацию, – которая, кстати сказать, в последние десятилетия немало способствовала афганскому разгулу насилия. Третья школа мысли всего любопытнее – и, по-своему, всего опаснее для государства, – ибо наиболее обоснованна.
Согласно ей, Джинна был весьма непростым человеком из Индии, интеллектуалом лондонско-бомбейской закваски, единственным сыном гуджаратского купца и уроженки Карачи – женщины из племени парсов. Подобно Ататюрку – выросшему в питательной космополитичной среде греческих Салоник, а не в узкоисламском анатолийском мире, которым впоследствии правил, – Джинна был продуктом утонченного культурного окружения, присущего Великой Индии, а потому в глубине души оставался человеком светским, неверующим. И все же он считал: мусульманское государство необходимо, чтобы защитить меньшинство от произвола правящего большинства. Сколь бы ни заблуждался Джинна, каким бы ни был политическим оппортунистом, ему удалось создать государство, способное, как Турция времен Ататюрка, сохранить светский дух, будучи населенным преимущественно мусульманами. Оно осознавало бы ценность ислама, не будучи всецело подчинено шариату. Скажем больше: это могло быть государство, где области в огромной степени обладали бы автономией. Тем самым признавался бы замкнутый национализм пуштунов, белуджей и синдхов.
Как я упомянул, эта школа мысли всего опаснее с официальной точки зрения, ибо недвусмысленно ставит под сомнение саму природу государства, построенного исламабадским правящим классом – генералами и политиками. Поскольку Джинна умер в 1948-м, вскоре после возникновения Пакистана, можно лишь гадать о том, как развивалась бы страна, проживи ее создатель подольше. По всей вероятности, ключевые принципы, исповедовавшиеся Каид-и-Азамом, были отринуты. Пакистан сделался не умеренно-терпимым государством, а душной исламской средой, в которой экстремизм вознаграждался политическими уступками и дарованными преимуществами, пока военные и политические партии наперегонки стремились дорваться до власти. Спиртное запретили, сельские школы для девочек сожгли дотла. Что до автономии, она была мифом. Собеседники – белуджи и синдхи – вполне доказали мне это.
Гробница Джинны походит на двухмерную, плоскую театральную декорацию – как походит на нее и весь Пакистан, обладающий только внешними признаками государства. Чего стоит одна лишь могольско-сталинская архитектура правительственных зданий в Исламабаде! А в глазах многих народов, населяющих эту страну, Пакистан существует незаконно.
«Полуостров Индостан дал миру одного-единственного либерального, светского политика: Мохаммеда-Али Джинну. [Махатма] Ганди был обычным британским агентом из Южной Африки, сладкоречивым реакционером. Но после того как Джинна умер, нами правили и правят эти гангстеры, наемники пенджабцев – американские прихвостни. Вы знаете, отчего Инд обмелел: пенджабцы воруют нашу воду в верховьях реки! Синд – единственное древнее и законное государство в Пакистане».
Оратора зовут Расул-Бакш Палиджо. Он синдх, левый националист, которого сажали за решетку и демократические, и военные правители Пакистана. Еще до нашей с ним встречи в 2000 г. несколько человек предупредили меня: Палиджо – самый разумный политический собеседник и спорщик в Хайдарабаде (город, расположенный выше по течению Инда, к северо-востоку от Карачи). Я вернулся в 2008-м снова повидаться с Расулом-Бакшем и узнать, насколько изменились его воззрения. Воззрения пребывали незыблемыми. Дом Расула-Бакша стоял за высокими стенами, у конца дороги, на кромке пустыни. Как и в первый приезд, я ощутил предельную оторванность от мира. Лицо Расула-Бакша по-прежнему было худым и правильно очерченным, волосы так же спадали на плечи густой белоснежной гривой. Дом оставался ветхим, наскоро построенным приютом с расшатанной мебелью и насквозь пропыленными коврами. Один угол гостиной заполняли изображения Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Ленина, Хо Ши-Мина и Наджибуллы – просоветского афганского вождя, правившего в 1980-е. Когда я посетил Палиджо десятью годами ранее, он сказал, что постоянно читает все великие марксистские труды. Я полюбопытствовал: а что читаете нынче? Расул-Бакш упомянул книгу, написанную профессорами Стивеном Уолтом и Джоном Мирсгеймером: «Израильское лобби и внешняя политика США» («The Israel Lobby and U. S. Foreign Policy») – спорное сочинение, опубликованное в 2007-м и утверждающее, что избыток деятельного сочувствия Израилю опорочил американскую внешнюю политику.
Затем собеседник прочитал мне лекцию о «разбойничьих шайках», «пенджабских паразитах», «империалистических пигмеях», «американских фашистах» и «жидо-капиталистическом Талибане», дружно сосущих кровь из народа синдхов. Все: и мухаджиры, и пуштуны, и белуджи – были в его глазах «американскими марионетками». Более спокойно он рассказывал о золотом веке – заре нового времени, когда правили Великие Моголы. «Моголы не были ни ханжами, ни мракобесами. Они женились на индусках. У них служили военачальники-индусы. Бездомные, безродные, в душе они оставались кочевыми тюрками». По-видимому, именно эту эпоху желал бы воскресить Палиджо. Если бы только, приговаривал он, Пакистан мог исчезнуть и раствориться в еще более многонациональной Индии!
Палиджо олицетворял собой тупик, в котором очутился этнический национализм. Для Расула-Бакша все земное бытие сводилось к упрощенной и злобной теории заговора. И он, и другие националисты, которых я повстречал, – белуджские и синдские – в конечном счете являлись продуктами долгой военной диктатуры, почти не оставлявшей людям возможности свободно обмениваться мыслями, а приемлемым политическим взглядам и приемам – укореняться и развиваться. Вместо общепринятых политических уступок по правилу «живи и давай жить другим» возникли непримиримые идеологические разногласия и дикие лозунги вроде «либо мы, либо они».
Справедливости ради заметим: военные завладели Пакистаном отнюдь не случайно. Пакистанские земли раскинулись на пустынных рубежах Индийского полуострова. Британское административное правление простиралось только до Лахора, находящегося в плодородном Пенджабе, возле восточной границы Пакистана с Индией. Остальной Пакистан – суровые приграничные области Белуджистана, Северо-Западная Пограничная провинция, щелочные пустоши Синда, лежащие вдали от Индского поречья, горные массивы Гиндукуш и Каракорум, охватывающие Кашмир, – вовеки не покорялись ни Британии, ни какому иному государству. По большей части эти края пребывали вопиюще заброшенными в сравнении с остальной Британской Индией. Когда 7 млн мусульманских беженцев покинули Индию, чтобы осесть на землях нового порубежного государства, роль военных стала решающей. Поскольку в этой глуши все определяется принадлежностью к определенному племени или народу, штатские политики при каждом подходящем случае создавали некий бюрократический форум, чтобы свести счеты либо вступить в неаппетитную сделку с кем-нибудь. Если в прошлом люди выменивали себе колодцы или участки пустыни, то в новом государстве штатские чиновники обменивались мельницами, сетями электроснабжения и транспортными системами. Время от времени перед военными вставала необходимость устраивать «чистку», однако они не делали этого сознательно, ибо армия успела превратиться в могущественное продажное государство внутри государства. Общественное сознание прочно связало армию с одним-единственным народом – пенджабцами; это обстоятельство и подстегивало различные виды национализма, тяготеющего к раздробленности.
Дальнейшего выбора у Пакистана не было. Следовало отвергнуть военную диктатуру, даже если это значило годы и годы жить под властью еще более продажного, неумелого и неустойчивого гражданского правительства. Лишь неизбежность гражданского правления – как бы ни было оно неудовлетворительно – позволила Индии постепенно вырасти в исполина, обеспечивающего разным областям государства должный покой. Пакистану – в отличие от стран Персидского залива, с их просвещенными и хваткими семейными диктатурами, и от Индии, с ее почтенной демократией, – предстояло особо сложное политическое будущее. И, подобно мятущейся Бирме на северо-востоке Бенгальского залива, Пакистан – простирающийся посреди прибрежной суши между Индией и Персидским заливом – владеет ключом к устойчивому спокойствию в регионе Аравийского моря.
Здесь, как и в Омане, побережье не существует само по себе. Проникнешь во внутренние области – узнаешь больше. Карта манила меня к северу, вверх по течению Инда, в самое сердце страны Синд.
Татта, город к востоку от Карачи, – одно из последних мест, откуда можно бросить взгляд на Инд перед тем, как река разветвится широкой дельтой вдоль индо-пакистанской границы. Говорят, что, именно здесь войско Александра Македонского расположилось на отдых перед походом к западу вдоль Макранского берега. Перед самым началом нового муссона поречье Инда представало выжженной местностью с растрескавшейся почвой. Широкие, словно море, воды реки вихрились, минуя отмели, – бурые воды, совершенно мертвенного оттенка: даже более мертвенного на вид, чем пепельно-серый, который обычно именуют мертвенным. Столь безрадостен был великий животворный поток, что и свежестью от него не веяло: царил удушливый зной. Инд сворачивает за Таттой на север и струится в этом направлении сотни километров. Речная долина издавна была густо населена, и местную цивилизацию можно сравнивать с древнеегипетской и ассиро-вавилонской, существовавшими на берегах Нила и в междуречье Тигра и Евфрата.
В Египте пути переселенцев тянулись вдоль Нила и по самой реке, вверх и вниз по течению, придавая политическим единицам устойчивость и долговечность. Реки Месопотамии, как выразилась в своих путевых заметках Фрейя Старк, британская писательница первой половины XX в., «не мирно текли вдоль естественно протоптанных человеком дорог», подобно Нилу, но «вразрез путям, которые предназначила человеку судьба», – то есть переселенческие тропы уходили прочь от Тигра и Евфрата под прямым углом, делая Междуречье уязвимым для завоевателей [19]. То же самое можно сказать и об Инде, повидавшем немало пришельцев. Индом обозначена западная окраина огромного полуострова, откуда политическому единству страны много раз угрожал неприятель, являвшийся из пустынь и с плоскогорий Афганистана, Ирана и Белуджистана. Здесь мы получаем урок: любые границы ненадежны.