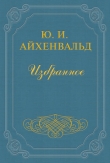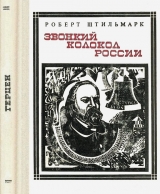
Текст книги "Звонкий колокол России (Герцен). Страницы жизни"
Автор книги: Роберт Штильмарк
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
2
…Прошел всего один учебный год со дня вступления Герцена в университет на Моховой. Промелькнуло каникулярное лето в живописном имении Васильевском над Москвою-рекою между Старой Рузой и Звенигородом. Начался второй учебный сезон…
И в эту осень 1830 года страну постигло бедствие: та самая холерная эпидемия, что задержала Пушкина в его Болдине, унесла по всей стране тысячи жизней и вызвала крестьянские бунты и волнения. Болезнь началась в Оренбурге, перекинулась на Астрахань, затем на Москву, а военные действия русского царя против восставшей Польши помогли эпидемии перемахнуть и в Западную Европу.
Помещичьи семьи покидали Москву – казалось, в деревне легче сласти от заразы детей. Семья Огарева увезла Ника в имение. Студентам же, особенно медикам, пришлось держать настоящий экзамен мужества и самоотверженности.
С сентября 1830 года учебные занятия в университете прекратились. Москва помрачнела и выглядела как осажденный город. По улицам полицейские сопровождали окрашенные в белый цвет кареты с больными и черные повозки с мертвыми. Духовенство служило молебны, у застав стояли военные караулы, цепи солдат днем и ночью несли строгую охрану и стреляли в тех, кто пытался тайком попасть в город или выбраться из него.

Девятнадцать лет спустя Александру Герцену пришлось пережить такую же страшную эпидемию в Париже. Вот как он сравнивал действия московской общественности в 1830-м и положение в холерном Париже 1849 года:
«Болезнь (в Париже) свирепствовала страшно. Июньские жары ей помогали, бедные люди мерли как мухи… Правительство, исключительно занятое своей борьбой против революционеров, не думало брать деятельных мер. Бедные работники оставались покинутыми на произвол судьбы, в больницах не было довольно кроватей, у полиции не было достаточно гробов, и в домах, битком набитых разными семьями, тела оставались дни по два во внутренних комнатах.
В Москве было не так.
Князь Д. В. Голицын, тогдашний генерал-губернатор, человек слабый, но благородный, образованный и очень уважаемый, увлек московское общество, и как-то все уладилось по-домашнему, то есть без особенного вмешательства правительства. Составился комитет из почетных жителей… В несколько дней было открыто двадцать больниц, они не стоили правительству ни копейки… Купцы давали даром все, что нужно для больниц, – одеяла, белье и теплую одежду… Университет не отстал. Весь медицинский факультет, студенты и лекаря… привели себя в распоряжение холерного комитета; их разослали по больницам, и они остались там безвыходно до конца заразы. Три или четыре месяца эта чудная молодежь прожила в больницах ординаторами, фельдшерами, сиделками, письмоводителями – и все это без всякого вознаграждения».
Лишь в январе 1831-го Московский университет снова открыл свои двери для учебных занятий.
Осенью 1832 года в герценовском университетском кружке занимались его друзья и коллеги: Николай Огарев, Вадим Пассек, Николай Кетчер, Николай Сазонов, Николай Сатин, Алексей Савич, Алексей Лахтин и Михаил Носков. И никто из этих молодых людей не подозревал еще, какая горькая участь ожидает многих, и как она уже близка!
…Первый сигнал угрозы прозвучал, как пристрелочный выстрел, по соседству: по университетским коридорам пролетел слух об аресте членов другого кружка, которым руководил студент Сунгуров.
Вскоре стала известна свирепая расправа правительства над кружковцами Сунгурова, но причину такой жестокости увидели в том, что в кружок входили студенты-поляки. Их подозревали в сношениях с революционерами в Польше, где велись военные действия и царили жестокие порядки военного времени…
«Середь этого разгара, – вспоминает Герцен, – вдруг, как бомба, разорвавшаяся возле, оглушила нас весть о варшавском восстании… Мы радовались каждому поражению Дибича, не верили неуспехам поляков…»
«В самое это время (начало 31-го года. – Р. Ш.) я видел во второй раз Николая, и тут лицо его еще сильнее врезалось в мою память. Дворянство ему давало бал, я был на хорах собрания и мог досыта насмотреться на него. Он еще тогда не носил усов, лицо его было молодо, но перемена в его чертах со времени коронации поразила меня. Угрюмо стоял он у колонны, свирепо и холодно смотрел перед собой, ни на кого не глядя. Он похудел. В этих чертах, за этими оловянными глазами ясно можно было понять судьбу Польши, да и России. Он был потрясен, испуган, он усомнился в прочности трона и готовился мстить… С покорения Польши все задержанные злобы этого человека распустились. Вскоре почувствовали это и мы. Сеть шпионства, обведенная около университета с начала царствования, стала затягиваться…
…За одну дурно скрытую слезу о Польше, за одно смело сказанное слово – годы ссылки, белого ремня (солдатчины. – Р. Ш.), а иногда и каземат; потому-то и важно, что слова эти говорились и что слезы эти лились… Черед был теперь за нами. Имена наши уже были занесены в списки тайной полиции».
Первым пострадал младший из обоих друзей – Николай Огарев.
Когда сосланные в Оренбург студенты-сунгуровцы получили возможность писать письма родным, они совершили неосторожность: передали с одним чиновником послание друзьям со словами благодарности за собранные для ссыльных деньги, теплую одежду и продукты. Ссыльные писали, что погибли бы на этапе без этой товарищеской поддержки с воли. А проводил подписку среди студентов Николай Огарев, ему в первую очередь и адресовали ссыльные свои благодарственные слова. Чиновник же, которому осужденные доверились, оказался сугубо верноподданным и вручил послание… обер-полицмейстеру Москвы.
Группу кружковцев-студентов вызвал к себе начальник корпуса жандармов Московского округа генерал С. И. Лесовский. Он сказал студентам:
– На первый раз государь так милосерд, что прощает вам поступок в пользу государственных преступников. Однако полиция учредит отныне строгий надзор за всеми вами. Идите, но будьте осторожны!
Герцен успел окончить университетский курс, пока полиция еще только расставляла сети. Выпускные экзамены он держал в июне 1883 года. За сочинение на заданную тему «Аналитическое изложение солнечной системы Коперника» он был удостоен серебряной медали и утвержден кандидатом отделения физико-математических наук.
«Год, проведенный нами после курса, торжественно заключил первую юность. Это был продолжающийся пир дружбы, обмена идей, вдохновения, разгула…
Небольшая кучка университетских друзей… не разошлась и жила еще общими симпатиями и фантазиями, никто не думал о материальном положении, об устройстве будущего. Я не похвалил бы этого в людях совершеннолетних, но дорого ценю в юношах. Юность, где только она не иссякла от нравственного растления мещанством, везде непрактична, тем больше она должна быть такою в стране молодой, имеющей много стремлений и мало достигнутого. Сверх того, быть непрактическим далеко не значит быть во лжи, все, обращенное к будущему, имеет непременно долю идеализма… Я помню юношеские оргии, разгульные минуты, хватавшие иногда через край, я не помню ни одной безнравственной истории в нашем кругу, ничего такого, от чего человек серьезно должен был краснеть, что старался бы забыть, скрыть. Все делалось открыто – открыто редко делается дурное.
Я считаю большим несчастьем положение народа, которого молодое поколение не имеет юности; мы уже заметили, что одной молодости на это недостаточно. Самый уродливый период немецкого студентства во сто раз лучше мещанского совершеннолетия молодежи во Франции и Англии; для меня американские пожилые люди лет в пятнадцать от роду – просто противны».
3
Пришел июль 1834 года. Он положил конец юношескому «пиру дружбы, обмену идей, вдохновения»…
Надзор, обещанный генералом Лесовским, теперь велся тоньше. Занимался этим надзором уже другой полицейский деятель, хитрый, коварный, стремящийся к быстрой карьере полковник Шубинский, управляющий делами Московского округа жандармов.
А должную осторожность, потребованную генералом Лесовским, герценовские кружковцы отнюдь не соблюдали. Втереться к ним в доверие для ловкого полицейского агента было несложно: студенческая доверчивость, чистые университетские традиции были еще слишком свежи и привычны. В кругу молодых товарищей Герцена и Огарева, либо только что окончивших университет, либо из выпускников более ранних, уже поступивших в разные ведомства, все еще веяло духом прежней студенческой вольницы. Их новые сослуживцы тоже отчасти проникались тем же духом вольномыслия и вольнодумства.
И в этот-то круг незаметно проник отставной офицер, за что-то расставшийся с полком, Иван Иванович Скаретка, «подсадная утка» полковника Шубинского и обер-полицмейстера Цынского.
Надо сказать, что Скаретка сразу не понравился Герцену и Огареву. Они его, правда, не разгадали, Огарев после ареста сначала считал доносчиком другое лицо, однако Скаретка оттолкнул их своим вульгарным поведением, навязчивостью и умственной серостью. Саша и Ник стали избегать его, но другие приятели такой осмотрительности не проявили и вели себя в присутствии тайного агента весьма непринужденно. На выпускном вечере студента Егора Машковцева молодежь спела бойкую песенку с малопочтительной характеристикой царствующих особ. Автором песенки многие считали приятеля Герцена и Огарева, талантливого русского поэта Владимира Соколовского, ровесника всей этой ватаги вчерашних студентов.
Русский император
в вечность отошел,
Ему оператор
брюхо распорол…
Такая песенка была настоящей находкой для жандармов, хотя полиция выяснить автора так и не смогла. Впоследствии ее стали приписывать поэту Полежаеву.
Скаретка, услышав эти крамольные слова, тотчас доложил куда следовало. Ему велели непременно повторить вечеринку с теми же людьми и таким же пением, чтобы взять преступников с поличным.
Агент посулил ребятам еще более веселую вечеринку, сказав, что ему удалось выгодно продать кавалерийскую лошадь, а посему, мол, будет выставлена дюжина шампанского. Ни Герцен, ни Огарев приглашения не приняли, остальные, человек двадцать, явились на вечеринку. Шампанское полилось. Умы разгорячились. Песенка раздалась снова. Поэт Соколовский дирижировал хористами… Голоса еще не успели отзвучать, как двери распахнулись, полицейские во главе с обер-полицмейстером Цынским ворвались в комнату. Арестовали всех. Однако Цынский был разочарован: тех, за кем следили давно, не оказалось среди арестованных. Добраться же надо было непременно до них! Пришлось усиленно порыскать в бумагах у всех задержанных на дому. И нашли! У поэта Соколовского нашли письма кружковца Сатина. У Сатина – письма Огарева…
На другой же день после провокационной пирушки у Скаретки полиция арестовала Огарева, а через две недели – в ночь на 21 июля 1834 года – и Герцена. Потому что оказались среди бумаг Огарева «крамольные письма» Александра.
Губернатор Москвы Д. В. Голицын назначил следственную комиссию во главе с обер-полицмейстером Цынским. Сам граф Бенкендорф требовал от этой комиссии раскрыть тайного революционную организацию и обезвредить ее.
И вот Александр Герцен препровожден в Пречистенскую часть, «на съезжую», как тогда говорили. Через трое суток повезли арестанта с Пречистенки на Тверской бульвар, в обер-полицмейстерский дом, на первый допрос, в следственную комиссию…
«В большой, довольно красивой зале сидели за столом человек пять, все в военных мундирах, за исключением одного чахлого старика. Они курили сигары, весело разговаривали между собой, расстегнувши мундиры и развалясь на креслах».
Это и была комиссия под председательством генерал-майора Л. М. Цынского, московского обер-полицмейстера. Перед началом допроса старичок священник велел арестанту приложиться к евангелию и к кресту, в знак готовности говорить всю правду.
– Запираться вам нельзя, – проговорил обер-полицмейстер и многозначительно указал на уличающие документы и бумаги, письма и портреты, изъятые при обысках у арестантов и теперь разложенные на столе перед членами комиссии. – Итак, молодой человек, объявите звание ваше, имя, отчество и фамилию, сколько имеете лет от рождения, какого вероисповедания, ежели христианского, то бываете ли на исповеди и у святого причастия, обучались ли каким наукам и где; ежели состоите на службе, то где, в какой должности и с какого времени… На сей вопрос, молодой человек, равно как и на все последующие, вы дадите ответы в письменном виде. Вот бумага, перо и отдельный столик. Благоволите сесть и ответить на все вопросы с должной обстоятельностью. Одно лишь откровенное признание может смягчить вашу участь!..
Николай Диомидович, – продолжал обер-полицмейстер, повернувшись к члену комиссии по фамилии Оранский, – прошу вас с особенным тщанием вести протоколы всех допросов по настоящему делу…
Арестант только теперь хорошенько разглядел секретаря следственной комиссии: глаза скрыты за плохо протертыми очками, седые колечки волос будто приклеены к височкам, выражение лица – смесь злобы, ханжества, лицемерия и верноподданности, худые скулы, впалая грудь, сухие пальцы с крепкими ногтями, похожими на когти, – так выглядел этот старый сыщик, «поседевший в зависти, стяжании и ябедах». По должности он был секретарем канцелярии московского губернатора и в данной комиссии совмещал как бы две обязанности – аудитора, то есть следователя на военных правах, и секретаря.
Арестант Герцен узнал и еще одного участника допроса – это был жандармский полковник Н. П. Шубинский, вкрадчивый карьерист, управляющий делами Московского округа жандармов. Еще два человека в мундирах, полицмейстер Микулин и полковник И. Голицын, хранили важное молчание и никаких вопросов не задавали. Было нетрудно понять, что ласково-мягкий Шубинский – самая важная фигура в комиссии и негласно задает тон всей ее работе, хотя внешне первенствовал генерал-майор Цынский, старший по чину.
И молодой арестант принялся за письменные ответы. Их было много, до пятнадцати, и отвечать приходилось подробно. На вопрос, заданный председателем, он написал свой первый ответ:
«Титулярный советник Александр Иванов сын Герцен, 22 лет, греко-российского исповедания, ежегодно бываю на исповеди и у святого причастия, обучался в Московском императорском университете, получил кандидатскую степень физико-математического отделения и медаль, теперь же нахожусь на службе в Московской дворцовой конторе…»
– Не имели ли вы связей и сношений с людьми, желающими ниспровергнуть государственный порядок, наименуйте, кто сии лица? Не составляют ли они особого общества, где оно имеет собрания, в чем состоят главнейшие намерения его и какие предприняты или предположены средства к приведению оных в действие? Не имеют ли сообщники какого-либо принятого для себя устава, не обязываются ли какими подписками или клятвою; нет ли у них условных знаков или тайных письмян, коими передают друг другу мысли свои?
Аудитор Оранский, прочитывая этот вопрос, поднял палец и выговорил все эти слова так зловеще-многозначительно, будто и впрямь был уверен, что сейчас, тут же на месте, молодой преступник проникнется раскаянием и ужасом, раскроет тайное общество и назовет всех его участников.
Вместо такого раскаяния вольнодумец слегка усмехнулся и, почти не раздумывая, принялся снова скрипеть пером по бумаге. Он писал: «Ни к каким тайным обществам не принадлежал и о существовании таковых не знаю, равно и людей, желающих ниспровергнуть государственный порядок; так же не давал подписок, ни клятвенных обещаний, а будучи связан верноподданнической присягой его императорскому величеству, сделать сего не мог».
Сам генерал-майор Цынский громко прочитал ответ Герцена к сведению остальных членов комиссии. Последовали укоризненные вздохи и тихие, неодобрительные замечания вполголоса.
– Вы, я вижу, ничего не знаете, – проговорил сердито председатель. – Значит, сами усложняете свое положение!
Однако и допросы остальных арестованных, особенно Огарева, Оболенского, Сатина, Соколовского, дали столь же мало данных в руки следствия, и доклад комиссии не понравился графу Бенкендорфу. Остался недоволен работой комиссии и сам Николай Первый: тайного общества раскрыть так и не сумели!
Царь назначил тогда новую комиссию, во главе с другим Голицыным – Сергеем Михайловичем, попечителем Московского учебного округа, – для «ведения следствия по делу о лицах, певших в Москве пасквильные стихи». В составе второй комиссии остались аудитор Оранский, жандармский полковник Шубинский и обер-полицмейстер Цынский. Но прибавился еще один чиновник III отделения, в придворном звании камергера, почти сорокалетний князь Александр Федорович Голицын, с большим опытом иезуитски-каверзных допросов и запугивания подследственных!
Эта вторая комиссия под председательством С. М. Голицына, закончив следствие, резко отрицательно охарактеризовала и Огарева и Герцена, «хотя они в пении песен и не обнаруживаются». «Из переписки Герцена с Огаревым видно, что он смелый вольнодумец, весьма опасный для общества…»
И снова шеф жандармов Бенкендорф, один из главных тайных убийц Пушкина и Лермонтова, докладывает Николаю Первому результаты многомесячных стараний полковника Шубинского, обер-полицмейстера Цынского, аудитора Оранского и попечителя С. М. Голицына.
Увы, тайного общества так обнаружить и не удалось, но… имело место оскорбление песенкой его величества и опасная философская переписка! За такие злодеяния сам Николай определил меру наказания для трех «главных обвиняемых» – поэта Соколовского, художника Уткина и офицера Ибаева. Расправу с остальными он предоставил комиссии, на ее усмотрение.
И вот в марте 1835 года молодых узников привезли – кого из Крутицких казарм, кого из казарм Петровских – в дом князя Голицына выслушать приговор.
Он был ужасен.
Соколовский, Уткин и Ибаев приговаривались к бессрочному заключению в Шлиссельбургской крепости. Герцен и Огарев – к ссылке. Первого ссылали в Пермь, второго – в Пензу. Еще четверых отправляли в дальние губернии на гражданскую службу (Лахтин, Оболенский, Сорокин и Сатин). Остальные поступали под надзор полиции – это были «чистосердечно раскаявшиеся»…
– Так мы вам и поверили, будто у вас не было тайного общества, – сказал полковник Шубинский Герцену в одну из последних встреч с ним на следствии. – Ваше счастье, что следов и прямых улик мы не обнаружили. Просто мы вас вовремя остановили, или, проще сказать, спасли!..
Как выглядело это царское и жандармское «спасение» на самом деле, пассажир женевского поезда знал. Он хорошо помнил судьбы осужденных по делу о «пении пасквильных песен в Москве».
Поэт Владимир Соколовский. За три жутких года заморен в каземате Шлиссельбурга, доведен до чахотки, выпущен полумертвым в Вологду, скончался на Кавказе через полгода, в возрасте 31 года.
Живописец Алексей Уткин. Не вынес условий Шлиссельбургского каземата и трех лет. Погиб в самой крепости на третьем году заключения, в возрасте 30 лет.
Отставной поручик Лев Ибаев, переведенный из крепости в пермскую ссылку, впал в религиозное помешательство.
Алексея Лахтина приговорили к ссылке в Саратовскую губернию. Единственной уликой против него было письмо на философские и исторические темы, найденное среди бумаг Огарева. Лахтин рассуждал в этом письме о причинах, почему многие российские дворяне, в отличие от западноевропейских, играют в стране революционную роль. Наказание постигло Лахтина, в сущности, за одно это слово. Судьба его сложилась печально: уже в этапе он заболел, не смог вынести отрыва от доброй, любящей семьи, не выдержал тягот саратовской ссылки, непривычных условий, грубой среды. Он умер в ссылке, не достигнув и 30 лет.
Герцен и Огарев ссылку и этапы пережили, хотя Александр чуть не утонул при весенней переправе под конвоем на пароме через Волгу, по пути в Пермь, откуда его вскоре перевели в Вятку. После нескольких лет вятской, затем владимирской и новгородской ссылок Герцен смог эмигрировать в январе 1847 года за границу. Через несколько лет, в Лондоне, к нему присоединился Огарев.
Да, оба друга ухитрились избежать шубинского «спасения» в отличие от многих своих товарищей! Если бы не эмигрантская судьба и не эмигрантские связи редакторов «Колокола», пожалуй, не было бы надобности в женевской поездке к ним Николая Васильевича Постникова, пассажира скорого поезда Базель – Женева!
Глава четвертая. И вдохновенье, и любовь
А я люблю Москву, люблю ее за ее русский характер, люблю за воспоминания юности, люблю за тебя, Наташа!
А. И. Герцен, письмо к невесте Натали Захарьиной, 22 сентября 1837 года, из вятской ссылки.

1
Николай Васильевич Постников был личностью незаурядной. Одаренный воображением, хорошей памятью, умением нравиться, начитанностью, юмором, способностью внушать доверие как начальникам, так и подчиненным, обладатель немалого жизненного опыта, он хорошо подходил для деятельности редакторской, дипломатической, военной. После Крымской кампании и тягот армейской лямки он немало времени трудился в редакции широко известного журнала «Военный вестник» в штате генерала Менькова и приобрел ценный опыт в публикации историко-мемуарных военных материалов.
Однако искуснее всего Николай Васильевич бывал в амплуа внимательного молчаливого слушателя. Он был, так сказать, непревзойденным мастером слуха. Никогда не прерывал повествования лишним вопросом – или боже упаси! – поправкой, выражением скепсиса или шуткой. Но по ходу чужого рассказа тактично морщил лоб, проявляя молчаливое удивление, сочувственно смеялся, угадав намерение рассмешить, мрачнел или вздыхал столь искренне, что повествователь увлекался до самозабвения и уж не мог остановиться, не обнажив душевных глубин.
Кое-что из рассказанного ниже, в этой главе, Николай Васильевич почерпнул из чужих повествований и литературных воспоминаний, однако, как удивились бы сами герои, когда б узнали, по каким сокровенным и заповедным источникам г-н Постников сумел дополнить слышанное и читанное!..
Далеко в прошлое вернули г-на Постникова, подъезжающего к Женеве, мысли о трудной и счастливой поре в жизни Александра Герцена – поре его первых литературных успехов. То была для него и полоса первой, большой, разделенной любви…
…Парковая листва в имении Загорье будто совсем еще и не поредела, а в кронах вековых лип, как проседь на мужских висках, проявилась первая, еще нежная и неотвердевшая позолота. У пятипалых кленовых листьев чуть наметился нарядный багряный отлив. Задумчивая и грустная девушка Наташа одиноко бродила по этим аллеям. Она прислушивалась, как меняется, становится суше шелест листьев. После каждой ветреной ночи под ногами прибавлялось опавшей парковой красы.
Второй, или по-крестьянски яблочный, спас выдался в августе 1837 года ведреным и обильным плодами даже здесь, в Подмосковье, издавна славном грибами, ягодами и лесной дичью более, нежели яблоками и грушами. Но среди всего осеннего изобилия в садах и огородах Загорья девушка Наташа чувствовала себя одинокой, чужой и обездоленной.
Имение принадлежало той самой «княгине Марье Алексеевне», о чьем суждении в московском свете так сокрушался грибоедовский Фамусов.
Княгиня Мария Алексеевна Хованская, урожденная Яковлева, приходилась теткой Александру Герцену. В старомосковском доме Хованских на Малой Бронной росла и воспитывалась с восьмилетнего возраста живая игрушка княгини Марьи ее бедная племянница Наташа Захарьина, будущая невеста опального Искандера.
Летом ее увозили в Загорье, где она чувствовала себя как подневольный зверек, выпущенный на летнее время из домашней клетки в более просторную парковую вольеру, с липовыми аллеями и травянистыми лужайками. Конечно, тут было куда как просторнее против пыльных и душных московских комнат.
Под парковыми липами Загорья было легче терпеть и духовное одиночество, и все бесчисленные унизительные запреты, и все «старое, дурное, мертвое, ложное» в ее окружении, о чем она так рано и так глубоко задумывалась.
Природу Загорья она полюбила и писала Александру в далекую Вятку: «Прелестное местоположение… Рано утром я встаю, отправляюсь гулять, из родника пью воду и хожу по аллеям».
А его радовали, наполняли предчувствием счастья строки ее размышлений и признаний. От письма к письму взаимное чувство близости, понимания, любви росло, поддерживало обоих, обогащало их.
«Ежели б государь дозволил мне жить где хочу, не въезжая в столицы, я бы приехал в Загорье. И может, несколько месяцев были бы мы вместе. А после – после можно бы и умереть, даже не видевши Италии…» Так, горькой шуткой, отзывался он на всевозможные планы и раздумья любящей Наташи.
Над обоими то сгущались тучи, то прояснялось небо судьбы. Ведь драматичным было самое начало их сближения. Накануне его ареста они шли вдвоем мимо кладбища и толковали об участи уже схваченного Огарева. После томительного следствия и вынесенного Александру приговора Наташа получила позволение навестить осужденного, проводить в ссылку. Их тянуло друг к другу, но он тогда считал своей избранницей не ее, а в Натали видел лишь сестру и близкого по духу человека. Глубже они узнали друг друга только в письмах. И, как это нередко бывает, разлука даже помогла им. Все произошло, как в старой поговорке, где разлука сравнивается с действием ветра на огонь: малую любовь гасит, большую – раздувает.
Наташиным отцом был брат Ивана Алексеевича, Александр Алексеевич Яковлев, один из последних петербургских вельмож екатерининского времени, камергер и сенатор. Он занимал одно время должность обер-прокурора святейшего Синода. В Москве ему принадлежал тот дом на Тверском бульваре (ныне № 25), где родился Герцен. О матери Наташи, Аксинье Ивановне Захарьиной, известно мало. По некоторым документальным данным, у нее была еще другая фамилия – Фролова. Какая из этих двух фамилий – Захарьина и Фролова – была девичьей, а какую она получила в замужестве, не установлено. По-видимому, она была крепостной женщиной в петербургском доме А. А. Яковлева. Сохранилось ее изображение – молодая, изящно одетая, с тонкими, интеллигентными чертами.
Впоследствии Наталья Александровна писала:
«Воспитание началось с того, что меня убедили в стыде моего рожденья, моего существованья, вследствие этого – отчуждение от всех людей, недоверчивость к их ласкам, отвращение от их участия, углубление в самое себя, требование всего от самое себя».
В самом деле, в Москве она очутилась случайно, потому что после смерти Александра Алексеевича Яковлева его «законный» сын и наследник Алексей (двоюродный брат Александра Герцена и родной брат Наташи по отцу, по прозвищу Химик) отослал из Петербурга в деревню всех своих бесправных родственников и домочадцев покойного отца, в том числе и Аксинью Ивановну с маленькой Наташей и другими детьми. Наташа попалась на глаза княгине Марии Алексеевне, и… началось ее существование в доме на Малой Бронной и в Загорье.
Но вот из девочки-приживалки выросла барышня. Княгиня-тетка стала по-своему намечать устройство ее судьбы. Обещала приданое при условии полной покорности. Конечно, о собственном мнении или о своем выборе и речи не было! Сватали Наташу то за состоятельного полковника, то за некоего молодого офицера, да еще увлекся было Наташей Егор Герцен, брат Александра по отцу.[6]6
Иван Алексеевич Яковлев присвоил и старшему сыну Егору по аналогии с Александром фамилию «Герцен», чтобы подчеркнуть родство братьев. О матери Егора ничего не известно.
[Закрыть]
От всех этих тревог, препятствий и опасностей, волновавших ссыльного Александра, уже считавшего Наташу бесповоротно своей, любовь только крепла. Наконец следует в 1838 году перевод Герцена из Вятки во Владимир благодаря заступничеству поэта Жуковского.
Рискуя грозными для ссыльного последствиями, Александр Герцен тайком кидается из Владимира в Москву для первого свидания с любимой, разумеется, тайного. Следует полоса непрерывных хлопот, хитростей, обходных маневров и… с помощью друзей удается оформить Наташины документы, действительные для венчания. Снова Герцен тайком мчится в Москву по Владимирскому тракту, встречается в Перове с невестой, тайком покинувшей дом тетки, везет ее в ямщицкой тройке в свой Владимир на Клязьме и с разрешения архиепископа владимирского и суздальского Парфения венчается с Натальей Захарьиной в маленьком храме Ямской слободы, в трех верстах от города.
Пошли материально суровые будни молодоженов. Им предстояло еще добиться прощения родных, построить свое несложное хозяйство и готовиться к той деятельности, для которой был рожден Герцен. Ведь Белинский скоро узнает его лично и скажет: «У тебя страшно много ума, так много, что я не знаю, зачем его столько одному человеку…» «Мы смело можем поздравить публику с приобретением необыкновенного таланта в совершенно новом роде». А про молодую жену Герцена Белинский высказался так: «Что за женственное, благороднейшее создание, полное любви, кротости, нежности и тихой грации! И он стоит ее!»
Владимир на Клязьме знаменит своим расположением на Печерней горе, подобно Киеву. Это был один из живописнейших городов средней России, еще не отсеченный тогда железнодорожным хозяйством от речной поймы. Он утопал в вишневых садах и зелени, славился древними архитектурными памятниками – соборами. На Герцена особенное впечатление производил Дмитриевский, одноглавый, пластичный и задумчивый в своем белокаменном кружевном узоре. Герцен встретил среди губернских деятелей сочувственное отношение и впоследствии вспоминал владимирский период своей жизни как счастливую полосу, которую мало омрачали даже материальные неудобства и трудности: отец на первых порах не увеличил небольшого вспомосуществования – одна тысяча рублей в год, – установленного для сына-холостяка. Жалованье же на службе в губернаторской канцелярии было ничтожно мало.
«…Так бедствовали мы и пробивались с год времени», – вспоминал позднее Герцен. Жизнь во Владимира, несмотря на бедность, потекла радостно. Вскоре смягчился и отец, простил своему Шушке самоволие, похищение невесты (к тому же двоюродной сестры), тайный брак и нежелание всецело посвятить себя деловой карьере.
Ибо накопленные жизненные наблюдения в Перми, Вятке и Владимире, служебные разъезды по губерниям, долгое путешествие по этапу и встречи с необыкновенными людьми, радости первой любви, рождение сына Александра, хлопоты о разрешении жить в столицах, ближе к редакциям, театрам, друзьям, университету – все это наполняло жизнь до краев, торопило, звало к перу, не давало покоя.
И молодой служащий губернской канцелярии Александр Герцен пишет свои автобиографические «Записки одного молодого человека». Через два года они появляются на страницах лучшего тогдашнего журнала «Отечественные записки». Работы у Александра выше головы: набрасывает статьи, руководит редакцией «Губернских ведомостей», исполняет поручения владимирского губернатора Куруты. Иван Эммануилович Курута, образованный и умный человек, будущий сенатор, отнесся к молодому ссыльному с дружеской симпатией.