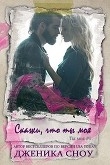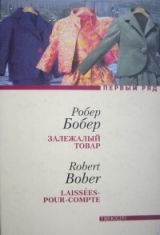
Текст книги "Залежалый товар"
Автор книги: Робер Бобер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Когда Рафаэль оказался в Париже, знание языков (польский, идиш, немецкий, а также французский, выученный в «Академише Гимназиум») привело его на работу в комитеты по приему беженцев; с тех пор как в Германии к власти пришли нацисты, беженцев становилось все больше и больше. В 1938 году, после «Хрустальной ночи», когда открылись первые дома для сирот из Германии и Австрии, его пригласили работать воспитателем в Монморанси.
Он оставался там и во время оккупации – дети вынуждены были прятаться, чтобы выжить, и находили убежище в благотворительных детских домах в Мажелье или в Пулуза.
Во время Освобождения Рафаэль остался с теми детьми, чьи родители не вернулись после депортации. Они обосновались на ферме неподалеку от Парижа. Там они играли и пели. А еще смеялись, потому что без смеха нет жизни. В конце концов, это были дети. Они ничего не рассказывали о себе, и, чтобы развлечь их, Рафаэль затеял с ними кукольный театр. Это длилось около трех лет.
Как-то вечером он оказался в кабаре «Лестница Иакова». Франсис Лемарк пел «Улицу Лапп» и «Когда солдат…». Они познакомились и, словно оба жили в эмиграции, на миг вернулись в прошлое, в эти навязчивые воспоминания – Польша, идиш, утраченные лица… Под конец вечера Лемарк увлек Рафаэля в «Красную Розу», кабаре на улице Ренн, и представил его Иву Жоли; тот показывал там свой спектакль, в котором действовала всего лишь пара рук в перчатках, но их оказалось достаточно, чтобы ожили поэтические марионетки.
Прошло немного времени, и вот уже руки Рафаэля приняли участие в спектакле под названием «Запретное купание».
Когда Ив Робер задумал поставить в «Красной Розе» «Упражнения в стиле» Раймона Кено, Рафаэль окончательно полюбил это место.
День за днем, стараясь ничего не упустить, он сидел на репетициях. Незаметно к нему стала возвращаться радость, радость детства, столь же незаметно покинувшая его когда-то. Все просто. Тогда он задумался, почему раньше ему это не приходило в голову.
Скорее провидение, нежели случай, помогли воплотиться этой радости.
«На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах. Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно. Тела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака, а души их всех слились в одну. […] Хорошо было прежде, Костя! Помните? Какая ясная, теплая, радостная, чистая жизнь, какие чувства, чувства, похожие на нежные, изящные цветы… Помните?..»
Его провидением стал голос Людмилы Питоевой, игравшей Нину в «Чайке».
На парижском канале повторяли передачу швейцарского франкоязычного радио памяти Жоржа Питоева, умершего в 1939 году. 17 января 1904 года в Москве Жорж Питоев со своей женой Людмилой оказался на премьере «Вишневого сада» и позже во Франции возродил театр Чехова. Людмила, пережившая Жоржа – она умерла в 1951 году – с волнением рассказывала об их жизни, связанной с театром «Матюрен».
О чем подумал Рафаэль, когда услышал: «Хорошо было прежде, Костя! Помните?» Его детство было теплым, ясным, сладостным, со всех сторон окруженным близкими, и Рафаэль помнил об этом. Голос Людмилы оказался решающим: он займется театром и поставит Чехова.
Репетиции начались в последние дни августа, труппу Рафаэля приютила сцена маленького театра «Ноктамбюль». Роль единственного реквизита временно исполняли стулья и стол, на котором среди нескольких разрозненных чашек возвышался самовар, тоже эмигрант, в дружеском порыве отданный Рафаэлю для театральных нужд его старинной подругой Лоттой. А за кулисами, на вешалке – одежда: по требованию Рафаэля актеры должны были носить ее с первых же репетиций. И наконец, на доске висело переписанное Рафаэлем и прикнопленное возле листочка с расписанием репетиций краткое высказывание Гастона Башляра: «Нас создает встреча: мы были ничто, мы были не более чем вещью – пока не объединились».
– Мы еще не труппа, – сказал в первый день репетиций Рафаэль актерам, – мы просто встретились на несколько недель, а я надеюсь, что и более надолго. По причинам, которые я вам, возможно, когда-нибудь объясню, даже наверняка объясню, мы начинаем с «Дяди Вани». Потом, если все пойдет хорошо, примемся за другие пьесы Чехова. Вместе… мне бы очень хотелось, чтобы вместе. Поскольку мы будем лучше знать друг друга. А еще потому, что вместе нам удастся лучше ухватить суть пьес, сложность каждого персонажа… Я никогда не скажу ни одному из вас: ты должен произносить свой текст так-то и так-то. Не только потому, что сам я не актер, но еще и потому, что хочу работать с вами. Именно разделив наши обязанности, мы найдем, где правда и истина… А теперь мне хочется сказать вам нечто, требующее от меня некоторой смелости, но необходимо, чтобы вы это знали заранее: наш спектакль, разумеется, не станет полной победой, поскольку мы впервые беремся за пьесу Чехова. Когда мы сыграем «Чайку» или «Три сестры», но не «Вишневый сад», он представляется мне слишком сложным для постановки, по крайней мере пока, ведь это особенная пьеса, отличающаяся от остальных, во всяком случае, самая безнадежная и в то же время самая светлая, – возможно, именно потому, что в ней все время плачут, Чехов и хотел, чтобы ее играли, как комедию… – так вот, когда мы сыграем «Чайку» или «Три сестры» и снова примемся за «Дядю Ваню», мы будем лучше и опытней. Ибо одна роль всегда наполняет другую. Каждая роль напитывается теми, что предшествовали ей. Так же как напитываются жизнью… Да, вот еще относительно жизни, но я думаю, вы это уже знаете, даже если вам покажется, что я противоречу самому себе: не забывайте, что это не жизнь, а театральная сцена. Вы не должны об этом забывать, чтобы не забывал и зритель тоже об этом. Это ни в коем случае не мешает смеяться и плакать. Зритель – свидетель эмоций, он даже может разделить их, но он их не переживает. Именно поэтому во время нашей работы я никогда не буду называть вас Соня, Ваня или Марина, а только вашими настоящими именами.
Потом в тишине, последовавшей за его словами, точь-в-точь как в жизни, артистка, которой предстояло играть роль Марины, наливая чай тому, кто должен был играть Астрова, произнесла: «Кушай, батюшка» с этой реплики начинается пьеса. Вся труппа расхохоталась. Можно было начинать работу.
«Как у мадам Леа», – подумала жакетка «Месье ожидал», которая видела всю сцену из-за кулис. Сцена ее потрясла.
Франсина, играющая Марину, не знала, до какой степени это «Кушай, батюшка» было дорого Рафаэлю.
Для себя, еще толком не зная, что с этим делать, он отметил, что в конце четвертого действия, словно эхо, одна из последних реплик Марины звучит очень похоже: «Кушай… На здоровье, батюшка!» – говорит она, снова обращаясь к Астрову. В этот раз возникает «На здоровье», потому что чай заменила водка.
– Вы давно знакомы? – спросил Рафаэль.
– Ты хочешь, чтобы мы подхватывали реплики?
– Нет. Да, знаю, это почти реплика Филиппа. Нет, это я вам задаю вопрос: вы с Филиппом давно знакомы между собой?
– Мы с Филиппом? – повторила Франсина. – Это было… в сорок третьем. Ведь так, Филипп? Да, в сорок третьем, в одном из литературных уголков Парижа… Там были такие люди, как Ален Рене и Ролан Дюбийяр. Прошло уже семь лет.
Рафаэль не собирался углубляться в быт, но эта реплика, эти два слова, так запросто произнесенные Франсиной: «Кушай, батюшка», привнесли в текст Чехова частичку самой что ни на есть простой жизни.
Переживать с людьми чужие судьбы нравилось Рафаэлю куда больше, чем с марионетками. Актеры репетировали уже неделю, а он практически не давал им указаний, касающихся их движений по сцене. Он считал, что репетиции созданы для того, чтобы научиться слушать актеров, даже когда те молчат. Так что в основном они сидели за столом и пили чай. И хотя у него не было никакой роли, он вместе с ними участвовал в сцене. Через два-три дня некоторые испытывали необходимость встать из-за стола, пройтись, пересесть. Рафаэль не мешал, ему нравилось, чтобы актеры заранее не знали ничего о мизансцене, чтобы у них не складывалось впечатления, будто все решено заранее, еще до начала репетиций. Как он и рассчитывал, они нее изобретали вместе, словно нее были ответственны друг за друга, а не только за свою собственную роль. Труппа складывалась, и совместное творчество, приобщение к нему создавали чувство защищенности. Как в семье. И он надеялся, что это чувствовали все. У него не было настоящего театрального опыта, он опирался на другой опыт. Все, что в свое время открылось ему в Пшемысле, в Вене, а позже – в иной форме – в детских домах, обретало свое значение в том, что он намеревался предпринять. Цепляться не за идею, а за то, что пережил сам.
Когда роли персонажей стали вырисовываться, Рафаэль почти с сожалением спустился в зал. Но ему все еще не удавалось усидеть в кресле партера. Тогда он спросил актеров, не помешает ли им присутствие на репетиции посторонних. Он успокоил их: они работают, а не показывают результат, поэтому и речи нет, чтобы кто-то высказывал свои суждения о том, что они делают. Но, предположил он, возможно, в присутствии посторонних они рискнут что-то изменить, понять ту или иную ошибку. Услышать смех. Почувствовать эмоцию. Он признался, что очень любит репетиции и переживает, что не может поделиться ими с близкими друзьями. Это как еще один гость за столом, прибавил Рафаэль и убедил актеров пустить зрителей.
Он выждал два дня, прежде чем позвал Лотту, подругу, подарившую ему самовар. Рафаэль познакомился с ней в Иене. Они была его преподавательницей в «Академише Гимназиум» и привила ему интерес к чтению. Оба покинули Австрию по одним и тем же причинам, а позже встретились в Париже, и это было не случайно, поскольку они работали и одном центре по приему беженцев. Он согласился называть Лотту по имени, но продолжал обращаться к ней на «вы». На репетицию она принесла только что вышедшую в Германии книгу Мартина Бубера «Die Erzählungen der Chassidim»[7], чтобы подарить ее Рафаэлю.
Назавтра на маленькой доске, где, как в первый день, рядом с расписанием репетиций, всегда можно было прочесть несколько коротких изречений, красовался старательно переписанный рукой Рафаэля анекдот из предисловия к книге Мартина Бубера:
«Однажды, когда Рабби попросили рассказать какую-нибудь притчу, он ответил: „Рассказ сам по себе должен воздействовать и помогать“. После чего поведал: „Моего деда парализовало. Как-то к нему обратились с просьбой припомнить что-нибудь о его Учителе, и он принялся описывать, как Баал-Шем во время молитвы подпрыгивал и приплясывал на месте. И чтобы лучше показать, как Учитель делал это, мой дедушка, продолжая рассказывать, поднялся и сам стал подпрыгивать и приплясывать. С того дня он выздоровел. Вот что значит настоящий рассказ“».
Теперь, вспомнив, что Рафаэль настаивал, чтобы актеры с самого начала играли в сценических костюмах, стоит вспомнить и жакетку «Месье ожидал» и то, как она пережила время первых репетиций.
Эта столь желанная для Рафаэля идея труппы как семьи почти буквально вернула «Месье ожидал» к тому, что говорил Леон, – и снова по поводу театра: «Можно сказать, что ателье – это немножко театр (именно так и говорил Леон), с той лишь разницей, что в ателье вы всегда на сцене, что у каждого всегда одна и та же роль в одной и той же пьесе, и вам не нужно репетировать, чтобы играть в ней».
С первой же чашки чая «Месье ожидал» показалось, что она вернулась во времена улицы Тюренн. Театральный опыт, которым жакетка теперь обладала, позволил бы ей, если бы это было возможно, отметить в репетициях Рафаэля небольшие расхождения с тем, что говорил Леон. Она вспоминала Жозефа, молоденького пошивщика-моториста, который начинал в профессии, делая петли не с той стороны, а потом пришивая карманы к спинке. Для портного репетиции – это время ученичества. Кстати, его хозяин так ему и говорил: «Это и есть ученичество, Жозеф. Это как в жизни. Прежней глупости ты уже больше не сделаешь. Но, к несчастью для меня, сделаешь новые».
Часто по вечерам, когда работники уходили, «Месье ожидал», «Не зная весны» и «Без вас» замечали, как мсье Альбер брал сделанное Жозефом за день и переделывал то, что не годилось. И хотя Шарль, Морис или Леон работали сдельно, им тоже случалось браться за эту работу. Потому ли, что они тепло относились к Жозефу? Очень возможно. Но не только. Стоит лишь немного вникнуть в дела ателье, чтобы понять: плохо скроенная одежда не будет хорошо сшита, плохо сшитая одежда не будет хорошо отпарена, к плохо отпаренной одежде будет плохо подогнана подкладка и так далее. Вот почему «Месье ожидал» была счастлива участвовать в жизни собранной Рафаэлем труппы, где каждый, казалось, понимал, что в одиночку не справиться. Это шло от ответственности всех актеров. И впервые, благодаря Чехову, благодаря тому, что с помощью всей труппы собирался делать с ним Рафаэль, «Месье ожидал» не испытала ностальгии по улице Тюренн.
Как только ее стали носить, она тотчас заметила, что каждый экземпляр пьесы, принадлежавший актерам, начинался со списка персонажей, расположенных один под другим.
Серебряков Александр Владимирович, отставной профессор.
Елена Андреевна, его жена, 27 лет.
Софья Александровна (Соня), его дочь от первого брака.
Астров Михаил Львович, врач.
И т. д.
Тогда, чтобы покончить с ностальгией, а также ради удовольствия, «Месье ожидал» совершила мысленный круг по ателье и вспомнила расположение рабочих мест:
Мсье Шарль и Морис, пошивщики-мотористы.
Леон, гладильщик.
Жаклин и мадам Андре, отделочницы.
Жозеф, ученик.
Мсье Альбер, закройщик и постановщик.
В роли семьи мадам Леа, Рафаэль и Бетти.
И она прибавила:
Действие происходит в 1949 году, в ателье готового платья на улице Тюренн, в III округе Парижа.
Оказалось, что «Месье ожидал» была частью костюма Анук – Сони по пьесе, и от нее не ускользнули многие вопросы, которые задавала актриса. Столь же многочисленные, как те, что она задавала сама себе.
Углубившись в чтение литературы о театре, как следовало бы углубиться в репетиции, Анук все время пытала Рафаэля по поводу того, чту сцена должна брать от жизни.
– Ты спрашиваешь, что такое жизнь? Это как если бы ты спросила: что такое морковь? Морковь это морковь, что же еще! – однажды сказал ей Рафаэль, впрочем вскоре пояснив, что в 1904 году, незадолго до смерти, нечто подобное написал Чехов актрисе Ольге Книппер, на которой женился тремя годами ранее.
Резкость Рафаэля показалась «Месье ожидал» несколько непривычной, и, хотя он сослался на письмо Чехова, его слова оставили в ее душе что-то вроде смятения.
Каждый день происходит что-нибудь необычное. Малейшей детали достаточно, чтобы возникло сомнение. После четырех недель репетиций Рафаэль начал терять привычную уверенность. К счастью, в этот день в зале была Лотта. Уже накануне она заметила, что прежде, чем выпить чаю, Рафаэль в задумчивости положил кусочек сахару не в чашку, а в рот.
– Ты во всем прав, – сказала она. – Вспомни своего дедушку и гони сомнения.
И пригласила его вечером поужинать в ресторанчике возле площади Италии.
Во время разговора Рафаэль неожиданно употребил немецкое «Zweifel», «сомнение», тогда как Лотта, даже оставаясь одна, отказывалась пользоваться языком, который долгие годы был ее родным.
Рафаэль и сам прекрасно знал, что сомнения надо гнать, как непрошеных гостей. Они мучили его, когда он работал в детских домах, мучили всякий раз, когда он задумывался, какое место занимает в этой жизни. И чему именно будет служить. На этот раз сомнения обступили его со всех сторон.
– Я как Астров, я могу повторить вслед за ним: «Мое время уже ушло… Постарел, заработался, испошлился, притупились все чувства…» Не знаю, что на меня нашло, почему я решил ставить «Дядю Ваню». Я пустился в эту авантюру, ничего не зная о театре, а премьера меньше чем через месяц.
– Быть может, потому, что тебе тридцать семь лет, Рафаэль, ровно столько дал Чехов Астрову, – с легкой иронией ответила Лотта. И продолжала: – Разумеется, этой причины недостаточно, но почему режиссеры – не ты один – всегда ставят великих авторов, почему всегда Мольер, всегда Шекспир, Мюссе или Гоголь? Потому что надеются сделать лучше, чем другие? Да нет, конечно. Это было бы слишком претенциозно, хотя и свойственно кое-кому из них. Нет, я уверена, что их ведет другое: встреча с текстом. С текстом вступают в диалог, потому что он пробуждает нечто в душе. И текст стремится быть произнесенным, он нуждается в произнесении, чтобы быть живым. Но каждый постановщик, выбирая пьесу, предполагает, что сможет ввести в нее и собственные мысли. В том-то и трудность: вложить в пьесу всего себя и при этом ничего не изъять из ее текста. Наоборот. Спектакль – всегда сложение. Ты не сразу поймешь, ни что именно ты прибавил, ни что узнал за недели репетиций, но как раз такое сложение и увидит публика.
Прежде чем расстаться, они еще долго говорили в тот вечер. И Лотте в конце концов удалось победить сомнения Рафаэля. Она попросту напомнила ему то, о чем он позабыл: уроки, данные дедушкой, он не мог бы получить ни от кого другого.
На следующий день, разбуженный ни свет ни заря шумящим на бульваре Бланки базаром, он некоторое время постоял у окна. Прямо под ним на походной плите торговец готовил огромную сковороду кислой капусты со свининой. Рафаэль вышел из дому, купил газету и, сев за столик кафе, открыл ее на странице с афишей спектаклей и кинофильмов. Он отметил про себя три новых фильма, размышляя, когда бы мог посмотреть их: «Огни большого города» Чарли Чаплина в «Рояль-Османн», «Счастлив в любви» с братьями Маркс и «Карусель» Макса Офюльса в кинотеатрах «Бальзак», «Эльдер», «Скала» и «Вивьенн».
Этот рынок, куда из Нормандии и Бургундии приезжают торговцы овощами и домашней птицей, чтобы продать плоды своего труда, простирается от метро «Гласьер» до улицы Барро, на углу которой архитекторы в глубине небольшого сквера построили здание для яслей, отделенное от улицы высокой решеткой. В сквере стоит на постаменте безмолвный бюст Эрнеста Русселя, президента муниципального совета Парижа. Но не он обычно привлекает взгляды. У подножия постамента расположена бронзовая статуя ребенка в натуральную величину. Наполовину Робер Линен в «Рыжике»[8], наполовину Гаврош, босоногий, лежащий, левым локтем опирающийся на нечто вроде рюкзачка, он, кажется, спит – с закрытыми глазами и приоткрытым ртом. А на цементном постаменте выгравировано единственное слово: «Подкидыш!» – заглавными буквами с обличающим восклицательным знаком.
Как-то утром Рафаэль видел здесь приникших к решетке девочек, которых привела учительница, движимая, разумеется, великодушным порывом. Она рассказала им, что ребенок был обнаружен на этом самом месте зимним утром, именно в такой позе, умершим от голода или холода, быть может, от того и другого сразу. Он лежал на скамейке, которая до сих пор находится здесь, прямо за ними, на тротуаре. Девочки обернулись, почти трепеща от волнения, что находятся так близко от того места, где закончил свои дни несчастный подкидыш. Учительница, очевидно, не ожидала подобной реакции, рассчитывая разве что вызвать легкое сострадание своих учениц.
Под большим впечатлением от трагического рассказа и крайне реалистической манеры скульптора, девочки теперь умолкнут – по меньшей мере до обеда в школьной столовой. А самые маленькие, наверное, станут рыться в карманах в поисках конфет, чтобы бросить их бедному мальчику.
Выйдя из кафе с газетой в кармане, Рафаэль купил инжиру и изюму, вернулся к себе и сделал две заметки. Первая, предназначенная для репетиций, была парафразой из Чехова: «Нет необходимости в сюжете. Жизнь не знает сюжетов, в жизни все перемешано, глубинное и незначительное, возвышенное и смешное».
Вторая, более короткая, на сложенном вчетверо листке бумаги, предназначалась Анук: «Когда ты выйдешь из театра, перестань быть Соней и снова стань Анук. Целую».
Оба они с удовольствием смирились со своими ролями, поскольку любая театральная постановка – это, кроме всего прочего, диалог между режиссером и актером. А еще и необходимость научить актеров быть там, где они нужны. В прямом смысле. Каждый находит свое место – вот почему, говорил Рафаэль, репетиции зачастую важнее спектаклей.
В минуты сомнений он спрашивал себя, прав ли был, ставя «Дядю Ваню» так, как они собирались играть. Этого он не знал, однако верил, что прав. И в чем был тем более уверен, так это в том, что, если через несколько лет снова решится на подобную авантюру, все будет по-другому. Потому что времена будут другие. И, несмотря ни на что, знал, что если поставил пьесу так, как ее сыграют через несколько дней на премьере, то потому что нынче такое время.
«Месье ожидал» все это видела и понимала. Когда она услышала из уст Рафаэля: «Морковь – это морковь, что же еще!», то не сумела скрыть своих чувств. «А одежда? – подумала она. – Одежда – тоже одежда и больше ничего? И обречена просто ожидать и созерцать?» В «Дяде Ване», которого «Месье ожидал» знала наизусть, Чехов устами Астрова заранее ответил на ее мысли: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Вот. Сказано совершенно ясно: одежда, как лицо, как душа и мысли, относится к человеческому существу.
17
Рафаэль прекрасно помнил свои слова, сказанные актерам, когда они впервые собрались; тогда он почти уверил их, что позднее скажет, почему выбрал для постановки «Дядю Ваню». Он был убежден, что сможет объяснить. Но за два дня до премьеры он так и не знал, как это сделать. Быть может, думал он, они сами поймут, что я хотел сказать. Было столько наводящих слов! Он даже подумал, пока не исчезла со сцены доска для записей, не написать ли на ней коротенькое стихотворение Пьера Реверди:
Они все еще сидят
И стол
Такой же круглый как память моя
И каждого вспоминаю я
Даже того кто навек ушел
Он не решился. Ничто не было забыто, но, если события запоминаются, это еще не значит, что о них можно говорить.
Как всегда, «они все еще сидели», внимательные к тому, что сейчас будет сказано. На столе стояла зажженная лампа и самовар для тех, кто захочет чаю.
Чувствуя невозможность говорить о том, чем был этот пройденный путь, Рафаэль открыл свой экземпляр «Дяди Вани» и принялся читать, как на первой репетиции.
«Соня. Давно, давно уже мы не сидели вместе за этим столом».
Рафаэль пропустил несколько строчек.
«Войницкий (Соне, проведя рукой по ее волосам). Дитя мое, как мне тяжело! О, если б ты знала, как мне тяжело!..
Соня. Что же делать, надо жить!.. Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем длинный-длинный ряд дней, долгих вечеров; будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба; будем трудиться для других и теперь и в старости, не зная покоя, а когда наступит наш час, мы покорно умрем…»
Рафаэль пропустил еще две строчки.
«…и мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную».
– Жизнь светлую, теплую, радостную, чистую, – повторил Рафаэль, – то же самое говорит Нина в «Чайке» Косте, который скоро застрелится. И, как в «Дяде Ване», – тоже на последней странице текста.
Рафаэль поднял глаза к лицам, на которых читалось терпение. Вспоминая свои слова, сказанные в тот первый день о том, что каждая роль питается всеми предшествующими, он рассказал, как все последние вечера перечитывал пьесы Чехова: вот они, перед ним, с торчащими из них бумажными ленточками-закладками. И как, если бы он мог объясняться только чужими словами, переходя от «Чайки» к «Дяде Ване», от «Дяди Вани» к тому, что происходит в «Трех сестрах», он множил примеры, почти нагромождал их, силясь соединить куски жизни, помещенные то тут, то там. Потому что – говорил он – в каждой пьесе есть отзвуки не только того, что уже написано, но и того, что будет написано позже:
– Вот Маша в первом действии «Трех сестер»: «Представьте, я уже начинаю забывать ее лицо. Так и о нас не будут помнить». А вот Астров в «Дяде Ване»: «Те, кто будет жить через сто, двести лет, и для кого мы сегодня прокладываем путь, подумают ли они о нас?» И Ольга, снова в «Трех сестрах», но уже в самом конце: «Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было…»
Рафаэль указал на лампу на столе:
– Вот этот свет будет освещать Соню и дядю Ваню, когда они наконец возьмутся зa свою работу. «Работать, работать…» – говорит Войницкий, как потом Чехов заставит сказать Ирину в «Трех сестрах»: «Теперь осень, скоро придет зима, засыплет снегом, а я буду работать, буду работать…»
Опираясь в своих доводах на тексты, Рафааль особенно настаивал на идее рассеяния, упорно присутствующей в конце каждой пьесы: «Уехали», – говорит старый лакей Фирс в «Вишневом саде», «Уехали», – говорит Астров в «Дяде Ване», и Марина: «Уехали», и Соня: «Уехали», и Мария Васильевна: «Уехали», и на следующей странице: «Уехал», – повторяют Марина и Соня.
«Мы останемся одни, чтобы снова начать нашу жизнь, – словно в ответ говорит Маша в „Трех сестрах“. – Надо жить… Надо жить…»
А Ирина: «Придет время, все узнают, зачем все это, для чего эти страдания… а пока надо жить…»
В чередование цитат Рафаэль добавил еще четыре «Если бы знать!» Ольги и шесть «Мы отдохнем!» Сони, но все уже поняли, что не дает ему остановиться.
– Твоя работа, – сказала Лотта, – не в том, чтобы открывать талант в актерах, а чтобы пробуждать в них самих себя.
А потом они играли так, как не играли ни разу прежде. Когда после последнего действия машинисты сцены опустили и снова подняли занавес, актеры, взявшись за руки, подошли к краю сцены, чтобы поклониться залу, который в тот день, по просьбе Рафаэля, был пуст. Но им всем казалось, будто до них доносится трепещущее эхо прерванного дыхания.
Назавтра, накануне премьеры, Рафаэль собрал актеров у себя, как собирают семью на день рождения. Было вино и угощение, и они пришли, не совсем понимая, как сложится этот вечер.
Через открытые окна с площадки на бульваре доносились крики игроков в шары, особенно возбужденные, когда кому-то удавалось выиграть очередное очко. Дени – по пьесе дядя Ваня – некоторое время следил за игрой. А потом, поскольку бульвар носил имя Бланки, спросил Рафаэля, знает ли тот, что во время Парижской коммуны на Бютт-о-Кай, расположенном в двух шагах, шли кровопролитные бои?
Рафаэль знал. Он даже уточнил, что Лео Френкель, почти его однофамилец, но с «е» вместо «а», вероятно указывающим на его венгерское происхождение, был в то время депутатом XIII округа, в котором расположен бульвар Огюста Бланки.
– В моей семье уверяли, – добавил Рафаэль, – будто он кузен моего дедушки Вольфа Лейба. Никто с уверенностью не знает, была ли у них возможность встретиться, зато всем известно, что высланный в Лондон как член I Интернационала, он был связан с Карлом Марксом.
Как бы продолжая разговор, Дени, который шагу не делал без своего концертино, запел «Красный холм» Монтеюса, его подхватили, а потом хором затянули «Время вишен».
Все более удаляясь от разговоров о театре, Рафаэль позволил себе задать актерам несколько вопросов об их детях. Почти сразу кто-то заговорил о собственном детстве.
Под наплывом внезапно подступивших воспоминаний Лотта, которая тоже была здесь, но до сих пор молчала, поведала голосом, вроде бы лишенным ностальгических ноток, кое-что о своем отрочестве, чего Рафаэль не знал.
– Венские обыватели были влюблены в музыку, почти все молодые девушки учились играть на рояле. И я, как все. Моя мама очень прилично играла и начала учить меня. Она считала, что у меня к этому талант, и нашла мне настоящего преподавателя, с блистательной репутацией. Он прослушал меня и согласился взять в ученицы. Мои родители познакомились с ним в одном из тех многочисленных в Вене мест, где можно пить шоколад и слушать музыку. В тот день они много говорили о Гофманстале[9], они восхищались им, они считали, что никогда прежде столь молодой человек не проявлял такого мастерства во владении языком.
Мои родители думали, что я еще слишком мала, чтобы в одиночку ездить на трамвае, поэтому мама всегда провожала меня к преподавателю. Потом, на мое тринадцатилетие, поддавшись моим просьбам и в поощрение моих успехов, они подарили мне велосипед.
Однажды, когда я сыграла отрывок, над которым долго работала, к моему удивлению, лицо учителя исказила легкая гримаса:
– Великолепно, Лотта. Но знаете ли вы, что такое ритм вальса?
– Раз-два-три.
– Раз-два-три? Вы уверены, что именно так, раз-два-три, раз-два-три?
– Да, раз-два-три, раз-два-три.
– Послушайте как следует: здесь коротко между раз и два, потом пауза между два и три, потом снова пауза между три и раз, и опять сначала: раз-два… три… Раз-два… три…
Он уже собирался показать мне это на рояле, но вместо этого спросил:
– Вы когда-нибудь танцевали вальс?
– Нет…
– Mein Gott! Но как же можно играть, если вы еще не танцевали? Вам никогда не показывали?
И, не дожидаясь ответа, учитель выбрал пластинку и поставил ее на фонограф. Это был отрывок из «Сказок Венского леса» Иоганна Штрауса…
Распутывая нити, связывающие ее с отрочеством, Лотта на миг задержалась в своих воспоминаниях. «Geshichten aus dem Wiener Wald», – повторила она про себя.
– И мы принялись танцевать. Достаточно было одного тура, этой руки, просто лежащей на моей талии, чтобы я не только поняла, как размечать счет на три, но и ощутила, едва касаясь пола ногами, удовольствие от незабываемой легкости.
Когда мы вернулись к роялю, учитель попросил, чтобы я положила свои руки поверх его. Он сыграл вальс № 7 Шопена, отрывок, над которым я работала. И мне показалось, будто память моего тела вся оказалась здесь, на кончиках наших пальцев. И уже не надо было отсчитывать ритм.
Это был последний урок перед каникулами. Несколько дней спустя, 28 июня 1914 года, был убит эрцгерцог Франц-Фердинанд. Война началась в июле, и с тех пор я уже не возвращалась к моим музыкальным занятиям.
Потом была еще одна война, но я никогда прежде не рассказывала об этом воспоминании из моего отрочества. Возможно, чтобы защитить его. Зачем я говорю об этом сегодня? Не знаю. Думаю, потому, что завтра для Рафаэля и для всех вас разыграется нечто очень важное, жизненно важное. И еще потому, что эта история, в общем-то совершенно банальная, что-то во мне задела, объяснила что-то важное в человеческих отношениях. Прошло больше тридцати пяти лет, близких моих уже нет на свете. А тот навсегда утраченный миг остался в памяти. Почему? Потому что мне было всего четырнадцать?
Лотта замолчала.
Казалось, часть ее существа, нетронутая, надежно охраняемая, но хотевшая выговориться, ждала именно этого момента. Никто из присутствующих не осмелился спросить, что стало с ее учителем. Анук посмотрела на руки Лотты. На них уже появились неприметные коричневые пятнышки. Тогда она нежно положила свои руки поверх ее, подобно тому, как некогда сама Лотта положила ладони на руки того, кто научил ее танцевать вальс.