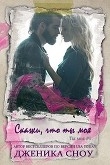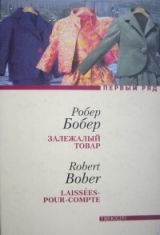
Текст книги "Залежалый товар"
Автор книги: Робер Бобер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
В этой истории, рассказанной негромким голосом и сопровождаемой притворными смешками, порой наступали невыносимые паузы.
То, что наши три жакетки с песенными именами видели, слышали и переживали, было продолжением этой истории.
Вечером в своем пристанище, при погашенном свете, они спрашивали себя, что означают эти слова: жизнь, смерть?
Наконец они решили, что смерть – это когда не возвращаются. Может, как те жакетки, которые покинули ателье, и больше их никто не видел? Хотя ведь мсье Альбер говорил Шарлю, что, когда изделия уходят, они обретают жизнь. Значит?
Значит, для одежды и для людей эти слова имеют разный смысл? Плакать из-за отсутствия одних и радоваться, что другие не возвращаются?
Им казалось, они не понимают слов, на самом же деле они не понимали, что такое смерть. В этом ателье некоторые жакетки даже не успевали вздремнуть, но после их ухода не становилось печальней. Никто не говорил, что ему не хватает ни «Я пою», ни «Моих юных лет», ни «Когда почтальон улетает», ни «Шарманки влюбленных», ни любой другой. Им всегда находили замену. Люди же были незаменимы.
Именно тогда наши три жакетки обрели твердую уверенность – и это показалось им невероятным – вот в каком соображении: раз их не заменяют, значит, они ближе к человеческому роду, чем их собратья.
Прошло уже почти полгода, а они и шагу не сделали из ателье на улице Тюренн, и это пространство, в котором жакетки обрели плоть, стало для них родным. У них было достаточно времени, чтобы научиться быть счастливыми или грустить. Но ученичество еще не закончилось.
Как-то в конце мая мсье Шифман, друг мсье Альбера, предложил ему картины еврейских художников. Предвидя возможный отказ, он дал понять, что, покупая картину, мсье Альбер сделает доброе дело и одновременно неплохое вложение. Но последний аргумент не возымел ожидаемого эффекта.
Пусть бы только доброе дело. Это еще туда-сюда. Людей надо судить по тому, что они делают, а не по тому, кто они есть. И еще – так часто говорил Шарль – по тому, как они делают то, что должны делать. Поэтому мсье Альбер решил: если он купит картину – а он с самого начала решил ее купить, – то цену обсуждать не станет.
Но вот что его беспокоило, что он считал неуместным – это идея вложения. Если свести аргументацию к двум этим критериям, выходило, что его рассудок не способен обратиться к простому удовольствию смотреть на картину. Не будучи специально образован по части живописи, он прекрасно знал, что, когда дважды в год наступает момент подбора моделей нового сезона, мнение его является тем не менее самым авторитетным.
Мсье Шифман, которого он посвятил в свои рассуждения, не совсем ловко пытался настаивать на том, что некоторые картины приобретают после смерти художников особую ценность. Однако уже всерьез раздраженный мсье Альбер отвечал:
– Вы так хорошо знаете художников, мсье Шифман. Не можете ли вы спросить их, этих ваших художников, почему они не пишут картины, которые хорошо продавались бы при их жизни? Разве я произвожу одежду, которая продастся лишь после моей смерти?
И тут, пока мсье Шифман убеждал мсье Альбера, что зачастую художники опережают свое время, гладильщик Леон, расправляя влажную тряпку на модели «Один в ночи» из альпаги, запел:
Я жизнь прожил, весны не зная,
Не верю я календарям.
Забудь, забудь: нет больше мая,
Вот так и счастья нет как нет…
Внезапно, к тому же впервые за долгое время, все в ателье подняли глаза к неликвидам. Кроме мсье Шифмана, каковой, разумеется, и не подозревал об их существовании, и мсье Альбера, который в некотором замешательстве только что сделал выбор в пользу картины, изображающей бегущего по снегу контрабасиста.
Только когда мсье Шифман ушел и стало слышно лишь гудение швейных машин и шипение мокрой тряпки под утюгом Леона, воспользовавшись моментом, когда мадам Леа принесла чай с малиновым вареньем, Шарль продолжил дискуссию, вызванную покупкой картины.
– Нельзя сказать, что этот мсье Шифман не прав, утверждая, что произведения художников стоят целые состояния после их смерти. Но почему есть те, кто так и не добивается успеха? Неизвестно. Вот Ван Гог: за всю свою жизнь он не продал ни одной картины. И в музыке то же самое: Шуберт, написавший сотни и сотни Lieder[2], не был известен своим современникам. Мне не приходит в голову никакой пример из литературы, но и там должно быть то же самое. Обязательно есть прекрасные книги, которые никогда не публиковались. И если такое происходит, – заключил Шарль, отхлебнув чаю, – значит, эти три жакетки, что висят на самом верху, тоже опережают свое время, раз нам не удается их продать. Быть может, однажды, уже после смерти мсье Альбера, их будут показывать в музее. И тогда мы сможем сказать: «Я их знал, они даже составляли мне компанию целый сезон».
Поскольку Шарль вновь принялся за чай, невозможно было определить долю иронии, содержащейся в его последнем замечании. Остальные не осмеливались взглянуть на мсье Альбера. Они только подняли головы – и во второй раз за день «Не зная весны», «Месье ожидал» и «Без вас», висящие под потолком, встретились с ними взглядами. Жакетки затаили дыхание и осознали себя не просто редкостью, но совершенно уникальными созданиями человеческих рук.
7
Казалось, они жили тем, что слушали давших им жизнь.
И, слушая песни, – благодаря им из всех швейных мастерских на улице Тюренн, именно в ателье мсье Альбера, разумеется, в доверительной и всегда оживленной атмосфере царила гармония, авторство которой по праву принадлежало мадам Леа.
Со свойственной лишь ей скромностью она просто выключала радио, когда, занимаясь приготовлением еды, слышала одну из выбранных ею песен, доносившуюся из рабочей комнаты ателье.
– Что будем петь на следующей неделе? – спрашивал мсье Альбер и понарошку, будто заказывая песню, снимал телефонную трубку.
Вскоре такие вопросы приняли форму игры. Так что, стоило подняться головам, на которые был обращен вопрошающий и вместе с тем веселый взгляд хозяина, ответом, как по заказу, была песня:
На моем заводе в Пюто
Я трудяга, я просто никто…
И все в ателье, почти с простодушным удовольствием увлекаемые этим ритуалом, подхватывали:
Это длится весь год, эти триста-там-сколько дней,
Я все ту же проклятую гайку кручу, хоть убей!
Но при этом могу еще петь, погоди:
Ди-ду-ля-ди-у-ду-ля-ди-а-ду-ля-э-ди!
Луна-Парк, это радость в моей груди:
Ди-ду-ля-ди-у-ду-ля-ди-а-ду-ля-э-ди!
Леон обожал эту песню в исполнении Ива Монтана, она позволяла ему проявить свое пристрастие к звукоподражаниям, и обычно он сопровождал ее чечеткой. С великолепным чувством ритма, точно с последним «ди», он ставил свой раскаленный утюг на влажную тряпку, и тот с шумом выпускал пар.
– Сколько «Луна-Парков»? – спрашивала из кухни мадам Леа через открытую дверь.
– Восемнадцать! Размеры сорок второй, сорок четвертый и сорок шестой. По шесть каждого.
В такие моменты ателье словно лучилось. Шарль не пел, но его рана, следы которой, казалось, никогда не исчезнут, как будто болела меньше.
Так измерялся сезон – песнями.
– Сегодня надо отпустить двенадцать «Моих юных лет», – объявлял мсье Альбер. И дело шло.
Итак, в ателье всегда пели, но в этом сезоне выбор песен приобрел форму отработанного репертуара, поскольку был составлен в основном из тех, чье название фигурировало на левых рукавах жакеток, переходивших из рук в руки. Эти названия вполне отражали грезы мадам Леа, однако и остальные мелодии тоже не были забыты. Давние или современные – в зависимости от вкуса или настроения работников.
Например, мадам Андре больше любого другого, казалось, волновал голос Андре Клаво. Именно его образ витал в ателье, когда она, с томительной фацией орудуя иголкой, напевала «Маленький дилижанс» или «Две туфельки из белого шелка». У Леона не сходили с языка имена Ива Монтана и Шарля Трене. А для Жаклин не существовало никакой иерархии: Трене, Монтан, Клаво, Лис Готи, Рина Кетги, Лина Марги, Люсьена Делиль, Пьер Дюдан, Жорж Ульмер, Эдит Пиаф, – она любила их всех. Она не придавала никакого значения словам песен. «Слова, – говорила она, – нужны, только чтобы подчеркивать музыку». Песня, жизнь, ателье составляли для нее единое целое. Утром в понедельник она рассказывала про свои танцульки в субботу вечером, про новые па, которым она научилась, про того, с кем танцевала всю ночь. Это всегда был кто-то другой, потому что, опасаясь обязательств совместного хозяйства и тягот семьи, она каждую неделю находила нового мужчину своей жизни.
И все же, то, что пелось, было отголоском того, что создавалось за минувшие полгода. Поэтому не часто можно было услышать «Не зная весны», «Без вас» или «Месье ожидал». Наши «неликвиды» не носились, а значит, и не пелись.
По отношению к песням-соперницам они некоторое время испытывали не враждебность, поскольку не имели ни желания, ни возможности поквитаться, но, скорее, глубокое огорчение. Их беспокоило другое. Слова песен, слетая с губ, казалось, терялись по дороге. Зачастую куплеты не заканчивались. Первый куплет, потом припев, еще несколько строк, а затем следовали какие-то условные ля-ля-ля. Сначала жакетки были этим удивлены, но, возможно, и привыкли бы, если бы сами, в любой момент, без малейшего колебания и по причинам, пока им непонятным, не были способны вспомнить все, что пелось в ателье. Они обладали поразительной способностью к запоминанию. Они не забывали ничего из того, что узнавали. Слово за словом, схваченное, выученное, запоминалось раз и навсегда. Не пропадало ничего из того, что день за днем они переживали или слышали. Жакетки не сразу осознали эту свою способность. Им следовало знать, что такое память. И – это было гораздо сложнее – понять, что такое забвение, что такое – забудь.
Это слово они слышали с первых дней, оно было в названии одной из тех одиннадцати моделей, которые постоянно заказывали:
Забудь меня, моя любовь.
Я знаю, если забывают, то прощают.
Забудь меня, не прекословь…
А потом еще в песне «Один в ночи», большой удаче ателье:
Я вышел в путь,
Я вышел в ночь,
Спешу я вновь
Сказать: забудь,
Забудь свою любовь…
Столько было текстов, которые им не удавалось понять, потому что они сами ничего не забывали.
К тому же еще эти так часто произносимые фразочки: я забыл, я опять забыл, боюсь забыть, я забыл о времени, заставить забыть, мне жаль, что я забыл. Или: я забыла портфель (Бетти); я забыла, что молоко на плите (мадам Леа); не забывайте, что мертвый сезон никогда не опаздывает (мсье Альбер); вы обо мне забыли, Морис (мадам Андре); хотелось бы забыть, да не получается (Шарль); я никогда не забываю записывать заказы (тоже мсье Альбер).
Эти последние слова мсье Альбера звучали довольно загадочно, и три наши жакетки не слишком хорошо понимали их. Почему он никогда не забывал записывать что-то, что боялся забыть? Если все нужно записывать, значит, есть опасность забыть, убеждали они себя.
И верно, на кроильном столе мсье Альбера, прямо возле телефона, лежала книжечка, которую он называл ежедневником и в которой карандашом записывал всё: заказы, сроки, встречи и еще кучу всякой всячины.
– Значит, так, – сказала «Не зная весны» своим соседкам, – с нами что-то случается: слово, имя, история, песня, событие, а потом, если этого больше не происходит, то получается, будто ничего и не происходило. Так это и есть забвение? Это знать что-то, а потом уже не знать?
– Выходит, забыть можно только то, что знаешь, – сделали вывод две другие.
Наступило молчание. «Не зная весны» не преминула воспользоваться им, чтобы подумать о том, что не посмели произнести ни «Без вас», ни «Месье ожидал». Слово «забудь» присутствовало уже в третьей строке песни, по которой она была названа, и его близость со словом «счастье» повергла ее в состояние неуверенности, граничащей со смятением.
Молчание прервала «Без вас». Ей вспомнилось стихотворение, прочитанное Бетти и оказавшееся для них столь решающим. Правда, слово «вспомнилось» по отношению к ним было неправильным, поскольку вспомниться, то есть вернуться, может лишь то, что уходило. Когда одна из них говорила: «вспомните» – это просто была фигура речи.
Вспомните, – сказала она, и все трое прыснули со смеху, – вспомните: «О, вы ошиблись, мсье, / нет у меня головы, / на чем же, по-вашему, я / должен шляпу носить?» И «Без вас» пускается в рассуждения:
– Почему человеческая память неполноценна? Почему люди никогда не помнят того, что знали? Бесспорно, потому, что у них есть тело и память селится там. Почему они иногда говорят: «Я ношу эту песню в глубине сердца», если способны, как мы, спеть ее целиком? Следовательно, память живет там, в сердце? А когда они говорят: «У него большое сердце»? Значит ли это, что там хватает места, чтобы сложить туда воспоминания? А если говорят: «У меня тяжело на сердце», – то значит, наоборот, сердце переполнено и в нем нет места, чтобы принять что-либо новое? А «остаться в сердце» означает не забыть? Но тогда что бы значили слова: с яростью в сердце, голос сердца, смеяться от всего сердца, холодное сердце, золотое сердце, с чистым сердцем, отдаться всем сердцем? Но наверное, не только сердце может иметь память. Посмотрите, откуда выходят слова? Изо рта. А где находится рот? В голове. Как глаза, нос и уши. По поводу головы тоже много чего говорят: пустая голова, светлая голова, сам себе голова, иметь голову на плечах, на свежую голову, а о том, кто плохо соображает, говорят, что он безголовый. А мсье Альбер еще добавляет: у него в голове извилины плохо проглажены. Так что те, у кого есть тело, держат все, что узнали, в сердце и немножко в голове. А что они делают, когда там не остается места? Так вот, они его расчищают. Они стирают одни воспоминания, чтобы принять другие. Вот и все. Я думаю, именно так и происходит. Именно потому, что у людей есть голова и сердце, все, что туда входит, может так же и выйти. Но у нас-то нет тела, все собирается и удерживается вне нас. И то, что называют памятью, нигде не расположено, поэтому не может и уйти.
Наполненным до одури тем, что долгие месяцы гудело внизу, всеми этими нестареющими историями, которые они вынужденно разделяли, им тем не менее не удавалось перешагнуть грань, отделявшую их от людей. Потому что было еще множество вещей, которые предстояло познать.
Так, в этом, столь сильно интригующем их параллельном мире они услышали из уст Шарля, что Жаклин только делает вид, будто счастлива.
Не имея возможности не слушать или, скорее, из страха потеряться среди слов, смысла которых они пока не осознали, жакетки поначалу не слишком внимательно отнеслись к тому, о чем стали размышлять.
Дело было в четверг. Ближе к вечеру. Мсье Альбер отправился за фурнитурой, остальные уже ушли.
В мастерской были только Шарль – ему осталось пришить рукава к «Большим Бульварам» синего цвета – и Жаклин. Она ждала жакетку, чтобы завершить ее отделку и чтобы Леон успел ее прогладить и подготовить к завтрашнему утру. Из-за плотно закрытой двери, отделяющей ателье от квартиры, доносились звуки гитары. Это Рафаэль разбирал песню Феликса Леклерка.
Шарль полагал, что то неистовство, с которым Жаклин распевала песни, и та настойчивость, с которой она рассказывала о своих субботних похождениях, были всего лишь способом забыть какую-то давнюю печальную историю. Он, некогда так любивший, единственный сумел различить то, о чем другие даже не догадывались.
– Постоянно меняя партнеров по танцам, как вы об этом рассказываете, – говорил он Жаклин, – вы не сможете забыть вашу любовную драму. Если, танцуя, вы ищете в других того, кто стал причиной вашей печали, то не обращаете внимания на их глаза. Вы порешили, что следует относиться к ним с безразличием, но тем самым говорите, что у них с вами не может быть никакого будущего. Вы обрекаете на исчезновение всех этих мужчин, вы их не запоминаете и не узнаете. Что вам от них остается? Воспоминания? Да, воспоминания, но они совершенно бесполезны.
У Шарля не было ни малейшего желания проникнуть в тайны Жаклин. Напротив, в его словах скрывалась некая форма уважения, как во время совместной трапезы; Шарль верил, что Жаклин достойна большего, чем все эти минутные объятия, да и те она не собиралась удерживать.
Жаклин подняла глаза на Шарля и после короткого колебания заметила:
– Тем не менее вы никогда не пытались снова жениться, мсье Шарль.
– Я говорю вам о жизни, Жаклин. Любовное страдание, поцелуй, тур вальса, прогулка – все это часть жизни. Мое горе – не любовное. Оно не имеет отношения к жизни.
И, опережая смятение Жаклин, почти сразу спросил:
– Вы знаете «Парижский романс» Шарля Трене?
– Да… кажется, знаю.
– Могли бы напеть начало?
Жаклин так хотелось доставить Шарлю удовольствие, что ее удивление, пришедшее на смену смятению, было почти незаметным. И, словно забыв все только что произошедшее, она запела:
Повстречались они не вчера ли?
Можно счастье найти и в печали.
И с тех пор, как влюбились они,
Улыбались им ночи и дни…
Она продолжала напевать без слов, и Шарль подхватил:
Здесь конец – не любви, но рассказу:
Вы навряд ли поверите сразу,
Что любили друг друга они
Даже в старости ночи и дни…
Шарль перестал петь, а Жаклин шить. Она была так потрясена, что чуть не бросилась ему в объятья. Но не решилась.
– Вы знаете песни, мсье Шарль? Я впервые слышу, чтобы вы пели.
– Конечно, песни лучше запоминаются, когда их поешь, но я так много их слушал, что в конце концов выучил, а главное, понял, о чем в них говорится. Мне-то яснее ясного, что песни созданы вовсе не для того, чтобы решать проблемы, но порой, когда этого не ждешь, в словах песен оживает прошлое, и даже если иной раз сердце у нас сжимается, мы благодарны им, как верным друзьям.
Жаклин повесила завершенную работу возле гладильного стола Леона, и разговор закончился.
8
Пришел день, когда стало не до песен. Приближался мертвый сезон. А с ним и угроза шаткому положению наших жакеток, хотя они в своем отложенном состоянии об этом и не подумали. Возможно, они чересчур увлеклись постижением окружающего и, невзирая на некоторую тревогу, разлитую в воздухе, перестали замечать, что время-то идет. Они даже не утруждали себя вопросом, долго ли так будет продолжаться.
Пришла пора освобождать место для моделей зимнего сезона; жакетки не были кандидатами на эмиграцию, но их тоже увлек вихрь летних распродаж.
И вот наступило время отбытия. Первого. Того, что особенно запоминается.
Мсье Альбер сделал все, что он делал всегда, – все, как положено. «Не зная весны», «Месье ожидал» и «Без вас» были сняты с плечиков, почищены и отпарены. Их аккуратно уложили в картонные коробки, точь-в-точь как всех тех, что с января поставлялись в Нанси или Безансон, в Шалон-сюр-Сон, в Роан, Гренобль или Динар, Карпантра, Туркуэн или даже в Верден-сюр-ле-Ду, туда, откуда торговый представитель отправлял свои открытки.
Этикетки с их именами были отстегнуты и некоторое время лежали на кроильном столе мсье Альбера, пока тот не положил их в жестяную коробку из-под печенья.
Эмигрировать означает пуститься в новую жизнь, так тоже можно сказать. Во всяком случае, три жакетки слышали, что так однажды говорили в ателье, именно в то время, когда они надеялись покинуть его и еще не знали слова «эмиграция».
Если бы они могли сопротивляться, кричать, сучить или топать ногами, цепляться за стены или за потолок – стали бы они это делать? Они вспоминали, как мечтали о побеге, и эти грезы теперь тоже стали воспоминанием.
Они непрестанно лелеяли в себе это желание, это любопытство: узнать город. Лишь атмосфера поспешного отбытия тревожила их и немного пугала. И все же они знали, что в глубине их боязни таится скрытая надежда.
«То, что с нами происходит, – думали они, – не может быть страданием, ведь такое происходит со всеми. Отбытие – это естественный процесс, потому что касается всех. В нашем случае он несколько задержался, только и всего. Вот остаться здесь навсегда было бы ненормально. Хорошо бы уходить, а потом возвращаться. Уйти, посмотреть и вернуться. Это был бы настоящий жизненный опыт. Но никто никогда не возвращался. А чем становятся, когда не возвращаются? Мы видели, как живут другие, те, кто нас создал. Спокойно, безопасно. Были ли мы прежде достаточно опытны, чтобы встретиться с жизнью? Другой жизнью? Нет, наоборот, мы ни к чему не были подготовлены. А вот теперь пора уходить».
Уйти – значит ли это только сменить место? Нет. Их уносили, чтобы их носили. Поскольку так было со всеми остальными, они долгое время думали, что с ними тоже должно быть так же. И они так об этом мечтали, что отчаивались, оттого что этого не происходит; однако, несмотря на по-прежнему терзающее их любопытство, теперь они стали испытывать нечто подобное страху.
И все же любопытство, кажется, преобладало. Но аромат чая, шум швейных машин, считалки Бетти, песни, звучавшие в ателье, и ночи, когда все затихало, – то, с чем они сжились и что должны были покинуть: это место и эти привычные существа, которых (они понимали!) им больше не доведется увидеть, – будили в них доселе неведомое чувство. Невыносимым было отсутствие выбора. Полгода они жили в лоне семьи, и вдруг все кончилось. От них избавлялись, просто так, чтобы освободить место.
«После нас жизнь будет продолжаться, – думали они. – Будет ходовой товар и „неликвиды“. Другие „неликвиды“, которые через полгода зададут себе те же тревожные вопросы».
Они отбыли при полнейшем равнодушии окружающих. Не было сказано ничего, в чем можно было бы заподозрить сочувствие. А чего, собственно, они ждали, эти жакетки? Хотели увидеть слезы, блеснувшие в глазах Жаклин и мадам Андре? Услышать последний раз, как вместо прощанья в мастерской запоют «Не зная весны», «Месье ожидал» и «Без вас»? «Могли бы, – думали они, – подготовить нас». Тактично и осторожно объявить об исходе. Чтобы они услышали: «Без вас / мне дороги нету, / я искал ваш след / не раз / и не мил мне свет / без вас». Они бы поняли.
Запертые в своей коробке, куда их уложили валетом, они задали себе еще более страшный вопрос. Отбыть – это хуже, чем остаться? Но они отбывали вместе, в одном направлении, значит, они не расстанутся, а это главное – так им казалось.
И все же обстоятельства их отбытия не давали повода к трагедии. Скорее, они втроем были как лицеисты, провалившиеся на июньском экзамене, но сдавшие в сентябре, из-за чего их просто забыли поздравить.
Разумеется, от тревоги им было не избавиться, но если она и не исчезла совсем, то все же поутихла. Да, они позволили унести себя – хотя, мы знаем, выбора у них не было, – скорей всего, потому, что просто предпочитали знать; а любопытство, в результате взявшее верх над тревогой, даже переросло в некоторое нетерпение.
Вскоре их примет другая жизнь. Они станут учиться ее премудростям и узнавать от нее слова, которые, когда их произносят, говорят о том, что там, снаружи.
Когда говорят «метро» или «автобус», что это? А берег моря? На что это похоже? Танцы – тут они кое-что понимали: у них ведь была Жаклин. А деревня? Или туман? Военные? А табачная лавка, где Леон покупает сигареты прежде, чем прийти в ателье? А булочная, где мадам Леа покупает хлеб? А комиссар полиции? А холмы и реки? А Большие Бульвары, где «так много глаз, так много лиц вокруг»? А «Чудо в Милане»[3] – это чудесно! Это и есть кино? И все остальное, чего они и вообразить не могут, потому что слова, обозначающие все это остальное, никогда не произносились.
Они еще слышали совсем близко голоса тех, кого вот-вот покинут, уже зная, что будут другие и им предстоит научиться их узнавать.
И все же, когда они пересекали порог комнаты, их провожала песня. Каким-то таинственным образом она говорила одновременно о том, что сейчас прервалось, и о том, что они вот-вот познают. Эта песня осветила их отбытие. Она доносилась из комнаты Рафаэля.
Когда с утра услышишь ты, как за окном две птицы
Уже кричат вовсю и не дают поспать,
Что попусту опять причину этого искать —
На улицу взгляни: весною пахнут дни,
И если ты любил, ты все поймешь, ты все поймешь…
Продолжения песни, где говорится про «дальние края, дальше облаков», они уже не слышали. Дверь за ними закрылась.
КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Меня мои ботинки увели
Из школы на войну – без остановки.
Все беды, все края прошли мои
Железные подковки.
Феликс Леклерк
9
– Развозим товар, мсье Альбер?
– Надо же! Мадам Симон. Как дела?
– Хорошо.
– Вы все еще у Вейля?
– Да, мсье Альбер.
– А о моей мастерской не сожалеете?
– Дело не в том, сожалею или нет. Вы прекрасно знаете, почему я ушла. Вейль совсем рядом с моим домом. Так что для детей это лучше.
– Ну вы же прекрасно понимаете, что я шучу, мадам Симон. Я отлично знаю, что так лучше для вас.
– А как мадам Леа?
– В порядке… Нет, не в порядке: она хочет, чтобы у Рафаэля была творческая работа.
– Творческая работа? Мой Жан-Клод тоже хочет заниматься театром.
– Нет, Рафаэль занимается не театром, а живописью. Но я против. Потому что художник должен умереть, чтобы это стало доходным делом. А почему ваш Жан-Клод хочет заниматься театром? Он хочет заниматься детским театром?
– Нет, он говорит про потом. Учительница сказала ему, что он хорошо декламирует, поэтому он решил, что, когда вырастет, станет артистом. Особенно утром, когда я бужу его, чтобы вести в школу, – он говорит мне, что хочет потом быть артистом, потому что вечером они играют в театре и поэтому всегда спят до полудня.
Сложенные вместе «Без вас», «Не зная весны» и «Месье ожидал» в какой-то миг подумали, что даже за порогом ателье все друг друга знают. Мадам Симон, усевшаяся рядом с мсье Альбером в автобусе № 20 (Лионский вокзал – Вокзал Сен-Лазар), в прошлом сезоне работала в ателье на улице Тюренн. Когда она ушла к Вейлю, ее сменила мадам Андре.
Очутившись в автобусе № 20 на остановке «Улица Оберкампф», запертые в своей картонной коробке, лишенные возможности увидеть улицу, жакетки понимали, что их восхищение преждевременно. Обступивший их город оказался не тем, о чем они мечтали. Однако и не разочаровал. И поскольку не было возможности изобрести иной контакт с внешним миром, они стали исступленно прислушиваться к тому, чего не видели.
Порой они впадали в отчаяние из-за невозможности понять географию; теперь она состояла из невообразимых звуков, уличных криков, гудков автомобилей – приукрашивая все это воспоминаниями о ранее слышанных разговорах, жакетки представляли себе декорации, среди которых их везли.
Когда объявили остановку «Площадь Республики», мадам Симон, попрощавшись с мсье Альбером, вышла из автобуса, а «Без вас», «Не зная весны» и «Месье ожидал» отправились дальше, на Большие Бульвары – там, почти в самом конце, находился магазин готового платья, обещавший принять их.
С огромным трудом пытались они из того, что слышали, создать верную картину дороги, по которой шел автобус. Потом одна из жакеток, скорее всего «Без вас», напомнила двум другим слова, сказанные Шарлем: «Рабби Акива, – как-то обронил он, – учит, что слушать по-настоящему и внимательно – значит видеть».
Тогда они подумали, что, возможно, это автобусное путешествие есть благо. Одновременно все видеть и слышать было бы, конечно, слишком тяжело.
Они были счастливы от сознания того, что никогда не забудут этот внешний мир; он не был им уготован, его не дозволено было созерцать, но они вслушивались в него с неустанным вниманием. Да, они не забудут его, потому что не умеют забывать. В них установились воспоминания об окружающих богатствах, и это было как в первый день творения. Как идея начала того, чем они будут жить. Большие Бульвары вошли в них своим шумом.
Поскольку никто об этом не говорил, они, разумеется, не видели зелени платанов, которые, от Зимнего Цирка на улице Амело до магазина одежды рядом с «Кафе д’Англетер» на бульваре Монмартр, в отсутствие свежести все-таки давали прохожим немного тени. Они также не видели ни шляпное ателье «Сул», ни ресторан «Ту ва бьен», этот храм еды на бульваре Сен-Дени, ни бассейн «Нептун», где Рафаэль научился плавать. Ни арку ворот Сен-Дени, построенную архитектором Франсуа Блонделем, ни ворота Сен-Мартен, создание которых было доверено его ученику, архитектору Пьеру Бюлле. Они не видели танцевальные курсы, где, освоив кадриль, бостон и мазурку, учатся танцевать танго. А еще они не видели множества террас кафе и пивных, переполненных сидящими за столиками посетителями. Леон, орудуя утюгом, всегда поражался, что среди бела дня так много людей, да к тому же в начале июля они уже обсуждают отпуск на море.
Немного позже напротив театра «Амбигю», где ставили пьесу Франсуа Бийеду «Как жизнь, мусью? Земля вертится, мусью!», недалеко от автобусной остановки «Ланкри-Сен-Мартен» орудовали муниципальные служащие: им было поручено следить за ростом платанов на площади, и они стригли ветки с уже лопнувшими первыми почками. На одной из них оказалось гнездо с недавно появившимися, еще голыми птенцами. Привлеченная лязганьем ножниц, голубка-мать, видя, что происходит, тут же подлетает к гнезду – в отчаянии, с распростертыми крыльями, она пытается проникнуть к своему выводку, теряя силы и испуская пронзительные крики раненой нежности. Тщетно. Рабочие, несгибаемые весельчаки, делают то, за что им платят. Вместе с веткой гнездо падает на асфальт прямо возле массивного постамента, на котором возвышается статуя барона Тейлора, филантропа и благодетеля человечества.
Как жизнь, мусью?
Пассажиры, похоже, немало знали о том, что видели. Тогда появлялись некоторые сведения, неожиданные, но воспринимаемые в автобусе с явным удовольствием.
– Ишь ты! Габи Морле в театре «Порт-Сен-Мартен»! В «Кадрили» Саша Гитри. Это должно быть хорошо.
– Я уже видела «Кадриль». Только в кино. Это было перед самой войной. Тоже с Габи Морле. Но я никогда не видела ее в театре. Как назывался тот фильм, где Луи Жуве из мести заставляет ее бросить мужа?
– Я, наверно, его не смотрела.
– А я смотрела, он же недавний. Габи Морле и Луи Жуве в молодости любили друг друга – в смысле, по фильму, – но она предпочла выйти замуж за какого-то богача. А годы спустя Луи Жуве вернулся и прославился. Он говорит, что все еще любит ее и заставляет уйти от мужа. Они встречаются на вокзале, чтобы уехать из города. Она приходит с чемоданом, а он говорит ей, что обманул, что больше ее не любит, а просто хотел отомстить.
– Ну и что? Она могла бы вернуться домой.
– Да нет, потому что она оставила мужу записку, что уходит от него к Луи Жуве, которого всегда любила.
– Ай-ай-ай! Никогда не надо оставлять записки. Да еще уходя из семьи. Нет, я видела Габи Морле в «Голубом парусе». Она была сиделкой.