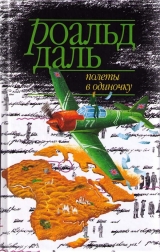
Текст книги "Полеты в одиночку"
Автор книги: Роальд Даль
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Я приказал сержанту расставить бойцов по местам.
В течение часа все было тихо. Аскари сидели в засаде со своими винтовками, я стоял рядом с грузовиками на дороге.
И вдруг вдалеке показалось облачко пыли. Чуть погодя я разглядел первый автомобиль, за ним второй, третий и четвертый. По-видимому, все немцы в Даре решили выехать вместе одной колонной сразу после объявления войны, потому что теперь я видел шеренгу автомобилей, следующих с интервалом метров в двадцать друг за другом и растянувшихся по дороге примерно на километр. Среди них были грузовики, доверху нагруженные вещами. Пикапы с привязанной к крышам мебелью. Я вызвал сержанта из леса.
– Едут, – сообщил я, – и их много. Сидите тихо и не высовывайтесь. А я останусь здесь и встречу немцев. Если я подниму обе руки над головой, вот так, стреляйте: один залп из винтовок и пулемета поверх голов. Не по этим людям, а поверх голов.
– Так точно, бвана, залп поверх голов.
– В случае насилия по отношению ко мне и если они попытаются пробиться силой, берите командование на себя и действуйте по обстановке.
– Есть, бвана, – сказал сержант, прикидывая разные возможности, и вернулся в лес. Я стоял на дороге, дожидаясь первой машины. Во главе колонны ехал большой фургон «Шевроле», за рулем которого сидел мужчина, а рядом с ним, в кабине, на переднем сиденье еще двое мужчин. Все остальное место в автомобиле занимал багаж. Я поднял руку, давая водителю знак остановиться, что тот и сделал. Подходя к окну водителя, я чувствовал себя копом из дорожной полиции.
– Боюсь, дальше проезд для вас закрыт, – сказал я. – Всем вам придется развернуться и поехать назад в Дар-эс-Салам. Один из моих грузовиков встанет во главе колонны. Второй поедет сзади.
– Што за чепукка? – закричал мужчина с сильным немецким акцентом. Возраста он был среднего, с бычьей шеей и почти совершенно лысой головой. – Уберите грузовики с дороги! Мы ехать будем!
– Боюсь, что не получится, – возразил я. – Вы теперь военнопленные.
Лысый человек медленно выбрался из кабины. Он разозлился и двигался угрожающе. Те двое, что ехали вместе с ним, тоже вышли из кабины. Повернувшись, лысый махнул рукой, из всех пятидесяти машин выскочили мужчины и двинулись к нам. Во многих автомобилях сидели женщины и дети, но они остались на своих местах.
Дело принимало неприятный оборот, и мне это совсем не нравилось. Что я буду делать, спрашивал я себя, если они откажутся вернуться и попытаются пробиться? Я прекрасно понимал, что никогда не смогу скомандовать пулеметчику скосить их всех под корень. Вышла бы жуткая, отвратительная бойня. Я стоял и ничего не говорил.
Через несколько минут за спиной лысого образовалась толпа человек из семидесяти.
Лысый отвернулся от меня и обратился к своим соотечественникам.
– Все в порядке, – сказал он. – Давайте уберем эти два грузовика с дороги и поедем дальше.
– Стоять! – скомандовал я, стараясь придать голосу солидность. – Мне приказано остановить вас любой ценой. Если вы попытаетесь двинуться дальше, мы будем стрелять.
– Кто ппутет стрельять? – презрительно спросил лысый. Он вытащил револьвер из заднего кармана своих брюк цвета хаки, и я увидел, что это длинноствольный «Люгер». Сразу же у половины собравшихся в руках появились такие же пистолеты. Лысый направил «Люгер» в мою грудь.
Подобное я тысячу раз видел в кино, но в жизни все выглядит по-другому. Я по-настоящему испугался. И изо всех сил старался этого не показать. Потом поднял обе руки над головой. Лысый заулыбался. Он решил, что я сдаюсь.
Трах! Трах! Трах! Все оружие за моей спиной, в том числе пулемет, защелкало, и над нашими головами засвистели пули.
Немцы подскочили. В буквальном смысле. Даже лысый. И я тоже.
Потом я опустил руки.
– Вам не проехать дальше, – сказал я. – Любой, кто попытается прорваться, будет застрелен. Если вы все вместе рванетесь, все вы будете убиты. Таков мой приказ. У меня достаточно огневой силы, чтобы остановить целый полк.
Воцарилось полнейшее безмолвие. Лысый опустил свой «Люгер», и вдруг весь тон его переменился. Он одарил меня кривой натужной улыбкой и негромко спросил:
– Потшему вы нас не ппускайете?
– Потому что мы ведем войну с Германией, – сказал я, – а вы все – подданные Германии, следовательно, вы наши враги.
– Ми – граштанские, – возразил он.
– Может быть, – согласился я. – Но как только вы доберетесь до Португальского Востока, вы вернетесь в свой фатерлянд и станете солдатами. Я вас не пропущу.
Вдруг он схватил меня за руку и ткнул стволом своего «Люгера» мне в грудь. Потом повысил голос и прокричал моим невидимым бойцам на суахили:
– Попробуйте только помешать нам, и я пристрелю вашего офицера!
То, что произошло потом, стало полнейшей неожиданностью. Из зарослей раздалось одиночное «тррах!» какой-то винтовки, и вцепившийся в меня лысый получил пулю прямо в лицо. Зрелище было ужасающее. Голова словно раскололась надвое, из нее во все стороны полетели серые ошметки. Крови не было, только серая масса и осколки кости. Кусок этого серого угодил мне в щеку. Всю гимнастерку заляпало серой жижей. «Люгер» упал на дорогу, а лысый замертво свалился подле своего оружия.
Все мы были потрясены, но мне удалось взять себя в руки и сказать:
– Давайте обойдемся без новых убийств. Разворачивайте ваши машины и следуйте за нашим грузовиком до города. Вам гарантируется хорошее обращение, а женщинам и детям позволят вернуться домой.
Толпа мужчин развернулась и уныло разбрелась по своим машинам.
– Сержант! – крикнул я, и из леса на мой зов поспешно явился сержант. – Труп – в грузовик, и поставьте его во главе колонны, – приказал я. – Поедете в первом грузовике и поведете колонну к тюремному лагерю. Я поеду замыкающим во втором грузовике.
– Очень хорошо, бвана, – сказал сержант.
Вот так мы и взяли в плен всех штатских немцев Дар-эс-Салама, когда разразилась война.
МДИШО ИЗ ПЛЕМЕНИ МВАНУМВЕЗИ
Пока мы доставили немцев в лагерь, пока я доложил обо всем командованию, наступила полночь. Я пошел домой, чтобы принять душ и немного поспать. Я очень устал и страшно переживал из-за убитого лысого немца. Капитан в казарме поздравил меня и сказал, что я поступил правильно, но от его слов легче мне не стало.
Дома я сразу поднялся наверх и сбросил с себя всю одежду, особенно гимнастерку, испачканную брызгами серого вещества и прилипшими к ткани обломками костей. Долго мылся под душем, потом натянул на себя пижаму и снова спустился вниз, чтобы выпить виски.
В гостиной я уселся в кресле, потягивая виски и перебирая в памяти все случившееся за последние тридцать шесть часов. Виски приятно разливалось по всему телу, и напряжение постепенно спадало. Сквозь открытые окна до меня доносился шум прибоя, Индийский океан бился о скалы прямо под нашим домом. Я по привычке повернул голову, чтобы полюбоваться своей прекрасной серебряной арабской саблей, которая висела на стене над дверью. И едва не выронил стакан. Сабля исчезла. Ножны висели на своем месте, но сабли в них не было.
Я купил эту саблю примерно год назад в гавани Дар-эс-Салама у капитана арабского дау – так в тех краях называют одномачтовое каботажное судно. Этот капитан ходил на своем старом дау из Маската в Африку по северо-восточному муссонному течению и добирался до места за тридцать четыре дня. Я оказался в порту в тот момент, когда его судно входило в гавань, и с радостью принял приглашение таможенного офицера подняться вместе с ним на борт вновь прибывшего судна. Там-то я и увидел эту саблю, влюбился в нее с первого взгляда и тотчас купил ее у капитана за пятьсот шиллингов.
Длинная изогнутая сабля была вставлена в серебряные ножны, украшенные замысловатой резьбой с картинами из жизни пророка. Кривое лезвие имело около метра в длину и было острым, как бритва. Мои дар-эс-саламские друзья, знавшие толк в таких вещах, говорили мне, что, судя по всему, она изготовлена в середине восемнадцатого века и место ей в музее.
Я принес свое сокровище домой и вручил его Мдишо.
– Повесь ее над дверью, – сказал я ему. – Теперь твоя обязанность – начищать ножны до блеска и протирать лезвие промасленной тряпочкой, чтобы оно не ржавело.
Мдишо с благоговением принял у меня саблю и рассмотрел ее. Потом вытащил клинок из ножен и проверил остроту лезвия, потрогав его своим большим пальцем.
– У-ух ты! – вскричал он. – Вот это оружие! С такой саблей я победил бы в любой войне!
И вот теперь я сидел в своем кресле в гостиной со стаканом виски и в ужасе смотрел на опустевшие ножны.
– Мдишо! – закричал я. – Иди сюда! Где моя, сабля?
Никакого ответа. Спит, наверное. Я встал и направился в дальнюю половину дома, где находились комнаты для прислуги. На небе светили месяц и звезды, и я увидел повара Пигги, сидевшего на корточках у своей хижины вместе с одной из своих жен.
– Пигги, где Мдишо? – спросил я.
Старик Пигги великолепно готовил картошку, фаршированную крабами. Увидев меня, он встал, а его женщина растворилась во мраке.
– Где Мдишо? – повторил я.
– Мдишо ушел еще вечером, бвана.
– Куда?
– Не знаю. Но сказал, что вернется. Наверное, пошел к отцу. Ты уехал в джунгли, и он, наверное, решил, что ты не рассердишься, если он навестит своего отца.
– Где моя сабля, Пигги?
– Сабля, бвана? Разве она не висит над дверью?
– Ее нет, – сказал я. – Боюсь, ее украли. Когда я пришел, все окна были открыты. Так не годится.
– Да, бвана, так не годится. Я ничего не понимаю.
– Я тоже, – сказал я. – Иди спать.
Я вернулся в дом и снова хлопнулся в кресло. Я так устал, что не мог даже пошевелиться. Ночь выдалась очень жаркая. Я выключил ночник, закрыл глаза и задремал.
Не знаю, долго ли я спал, но когда очнулся, все еще была ночь, и прямо в огромном окне стоял Мдишо в свете молодой луны. Он тяжело дышал, на лице застыло дикое иступленное выражение, и на нем не было ничего, кроме коротких черных шорт. Его великолепное черное тело буквально сочилось потом. В правой руке он держал саблю.
Я резко сел в кресле.
– Мдишо, где ты был?
Клинок тускло поблескивал в лунном свете, и я заметил темные пятна на лезвии, очень похожие на засохшую кровь.
– Мдишо! – закричал я. – Господи, что ты натворил?
– Бвана, – сказал он, – ох, бвана, я одержал грандиозную победу. Думаю, ты будешь очень доволен, когда узнаешь.
– Рассказывай, – велел я, начиная нервничать. Никогда прежде мне не доводилось видеть Мдишо в таком состоянии. Дикий взгляд, искаженное лицо, тяжелое дыхание, пот по всему телу – все это заставляло меня нервничать сильнее, чем когда бы то ни было.
– Выкладывай сейчас же, – повторил я. – Рассказывай, что ты натворил.
Он выпалил все на одном дыхании. Я не перебивал его и теперь попробую поточнее пересказать вам его историю. Он говорил на суахили, стоя в проеме окна на фоне ночного неба, и его великолепное тело блестело в лунном свете.
– Бвана, – рассказывал он, – бвана, вчера на базаре я услыхал, что мы начали воевать с германцами, и я вспомнил, как ты говорил, что они попытаются нас убить. Как только я услыхал эту новость, я побежал домой и кричал всем, кто попадался мне на пути. Я кричал: «Мы воюем с германцами! Мы воюем с германцами!»
Если кто-то идет на нас с войной, в моей стране принято сейчас же оповещать все племя. Поэтому я бежал домой и на ходу кричал эту новость людям, и еще я думал, что я, Мдишо, могу сделать полезного. Вдруг я вспомнил богатого германца, который живет на взгорье и выращивает сизаль. Мы недавно ездили к нему.
Тогда я побежал еще быстрее. Дома я вбежал в кухню и крикнул повару Пигги: «Мы воюем с германцами!» Потом побежал сюда и схватил саблю, вот эту чудесную саблю, которую я полировал для тебя каждый день.
Бвана, мысль о войне меня очень возбуждала. Ты уже уехал с аскари, и я знал, что тоже должен что-то сделать.
Так что я вытащил саблю из ножен и побежал к дому богатого германца.
Я не пошел по дороге, потому что аскари могли бы задержать меня, увидев, как я с саблей в руке бегу по дороге. Я побежал через лес, и когда добрался до вершины холма, то с другой стороны увидел большие плантации сизаля, принадлежащие богатому германцу. За ними стоял его дом, большой белый дом, и я спустился с холма в сизаль.
К тому времени уже стемнело и было не так просто пробираться через высокие колючие растения сизаля, но я продолжал бежать.
Потом я увидал перед собой в лунном свете белый дом, подбежал к двери и распахнул ее. Я вбежал в первую комнату, но она оказалась пуста. На столе стояла еда, но в комнате никого не было. Тогда я побежал в заднюю часть дома и распахнул дверь в конце коридора. Там тоже было пусто, но вдруг в окне я увидел большого германца в палисаднике. Он развел костер и бросал в огонь бумагу. Возле него на земле лежала целая пачка бумаги, он подбирал листы и бросал их в огонь. И, бвана, у его ног лежало огромное ружье, с которым ходят на слонов.
Я выбежал за дверь. Германец услышал меня, резко развернулся и потянулся за ружьем, но я его опередил. Я поднял саблю обеими руками и одним махом опустил ее ему на шею, когда он нагнулся за ружьем.
Бвана, это – прекрасная сабля. Одним ударом она врезалась в шею так глубоко, что голова упала вперед и свесилась на грудь, а когда он стад падать, я ударил по шее еще раз, и голова покатилась по земле, как кокосовый орех, и из шеи брызнули огромные фонтаны крови.
Мне стадо тогда так хорошо, бвана, очень хорошо, и я пожалел, что тебя нет радом. Но ты был далеко, на прибрежной дороге со своими аскари, убивая других германцев, поэтому я поспешил домой. Я пошел домой по дороге, потому что так быстрее и мне уже было все равно, увидят меня аскари или нет. Я бежал всю дорогу, держа саблю в руке, и иногда на бегу я махал ею над головой, но ни разу не остановился. Дважды на меня кричали, а один раз двое побежали за мной, но я летел, как птица, и нес домой радостную весть.
Путь туда неблизкий, бвана, и у меня ушло по четыре часа в каждый конец. Вот почему я опоздал. Прости меня за опоздание.
Мдишо замолчал. Он закончил свой рассказ.
Я знал, что он не лжет. Немца, хозяина плантации сизаля, звали Фриц Кляйбер, это был богатый и крайне неприятный холостяк. Ходили слухи, что он плохо обращается со своими рабочими и бьет их плеткой из шкуры носорога, которой можно забить до смерти. Меня удивило, что наши его не задержали, прежде чем Мдишо до него добрался. Вероятно, они как раз к нему направляются. Их ждет большое потрясение.
– А ты, бвана? – закричал Мдишо. – Сколько ты сегодня уложил?
– Сколько кого? – не понял я.
– Германцев, бвана, германцев! Сколько ты перебил тем замечательным пулеметом, с которым выходил на дорогу?
Я посмотрел на него и улыбнулся. Не мог я винить его за то, что он натворил. Он принадлежал дикому племени мванумвези, а мы, европейцы, вылепили из него домашнего слугу, и теперь его природное естество одерживало верх.
– Ты еще кому-нибудь рассказывал о том, что сделал?
– Еще нет, бвана. Ты – первый.
– Так вот, слушай меня внимательно, – сказал я. – Никому ничего не говори, ни отцу, ни женам, ни лучшему другу, ни повару Пигги. Ты меня понял?
– Но я должен всем рассказать! – закричал он. – Не отнимай у меня эту радость, бвана!
– Нельзя, Мдишо, – сказал я.
– Но почему? – чуть не плача кричал он. – Разве я сделал что-то плохое?
– Совсем наоборот, – солгал я.
– Так почему я не могу рассказать об этом своим? – недоумевал он.
Я попытался объяснить ему, как отреагируют власти, если узнают про него. Нельзя просто прийти и отрубить голову человеку, пусть даже в военное время. «Тебя могут посадить в тюрьму, – внушал я ему, – а то и что-нибудь похуже».
Он не мог поверить моим словам. Он был просто раздавлен.
– Сам я страшно горжусь тобой, – сказал я, пытаясь приободрить его. – Для меня ты великий герой.
– Но ведь только для тебя, бвана?
– Вовсе нет, Мдишо. Думаю, ты стал бы героем для всех здешних англичан, узнай они о твоем подвиге. Но это не поможет. Тебя арестует полиция.
– Полиция! – в ужасе закричал он.
Если есть что-то такое, чего боятся все местные в Дар-эс-Саламе, то это полиции. Все полицейские чины были черными, командовали ими двое белых офицеров, и никто из них не отличался мягким или снисходительным обхождением с заключенными.
– Да, – сказал я, – полиция.
Я не сомневался – если Мдишо поймают, его обвинят в убийстве.
– Тогда я буду молчать, бвана, – сказал он и в один миг потускнел, поник. У него был такой несчастный, поверженный вид, что я не выдержал.
Я встал с кресла, прошел через всю комнату и снял ножны со стены.
– Скоро мы с тобой расстанемся, – сказал я. – Я решил пойти на войну, буду летать на самолете.
В суахили есть только одно слово, которое обозначает самолет – ндеги, то есть птица.
– Я собираюсь летать на птицах, – вот как буквально сказал я. – Я буду летать на английских птицах и воевать с птицами германцев.
– Чудесно! – воскликнул Мдишо, вновь расцветая при одном упоминании войны. – Я поеду с тобой, бвана.
– К сожалению, нельзя, – покачал я головой. – В начале я буду всего лишь рядовым пилотом, вроде ваших самых молодых аскари, и жить буду в казарме. Мне никто не позволит держать при себе слугу. Мне придется обслуживать себя самому, даже стирать и гладить гимнастерки.
– Это совершенно невозможно, бвана, – сказал Мдишо. Он был по-настоящему потрясен.
– Я справлюсь, – успокоил его я.
– Но разве ты умеешь гладить рубашки, бвана?
– Нет, – сказал я. – До отъезда ты должен научить меня этому секрету.
– Там будет очень опасно, бвана, там, куда ты поедешь? Много пушек у этих германских птиц?
– Наверное, опасно, – ответил я, – но первые шесть месяцев будет одно веселье. Шесть месяцев меня будут учить летать на птице.
– Куда ты поедешь? – спросил он.
– Сначала в Найроби, – ответил я. – Учить начнут на очень маленьких птицах в Найроби, а потом мы поедем куда-то еще летать на больших. Мы будем много странствовать с очень маленьким багажом. Поэтому саблю мне придется оставить здесь. Я не могу таскать за собой такую громоздкую вещь. Так что я отдаю ее тебе.
– Мне! – вскричал он. – Нет, бвана, не надо! Она пригодится тебе там, куда ты собрался!
– Только не на птице, – сказал я. – Там слишком тесно, саблей не помашешь. – Я протянул ему изогнутые серебряные ножны. – Ты ее заслужил. Теперь пойди и очень тщательно вымой клинок. Чтобы нигде не осталось следов крови. Потом протри клинок маслом и вставь в ножны. Завтра я напишу расписку, что дарю саблю тебе. Расписка – это важно.
Он стоял, держа в одной руке саблю, а в другой – ножны, и глядел на них глазами, сияющими, как звезды.
– Я награждаю тебя саблей за твою храбрость, – сказал я. – Но никому об этом не говори. Скажи просто, что я подарил ее тебе на прощание.
– Хорошо, бвана, – сказал он. – Так я и буду говорить. – Он помолчал мгновение, а потом поглядел мне прямо в глаза. – Скажи мне всю правду, бвана, ты правда рад, что я убил того большого германца?
– Мы тоже одного сегодня убили, – признался я.
– Ты тоже? – вскричал Мдишо. – Ты тоже убил одного, да?
– Пришлось, иначе он убил бы меня.
– Значит, мы наравне, бвана, – сказал он, показывая в улыбке все свои чудесные белые зубы, – Теперь мы стали равными, ты и я.
– Да, – ответил я. – Думаю, ты прав.
Но одно ты должна сделать – ты должна немедленно переехать. Сообщи телеграммой свой новый адрес – если это не слишком дорого. Сейчас нельзя ни минуты оставаться в Восточной Англии. Не успеешь оглянуться, как на твоей лужайке высадятся парашютисты.
ЛЕТНАЯ ШКОЛА
В ноябре 1939 года, через два месяца после начала войны, я известил компанию «Шелл», что хочу поступить на военную службу и воевать с бваной Гитлером, и компания, благословив, отпустила меня. В порыве восхитительного великодушия компания решила по-прежнему переводить мой оклад на банковский счет, где бы я ни находился и до тех пор, пока я жив. Я их поблагодарил, сел в свой старенький «Форд-Префект» и поехал в Найроби записываться в Королевские ВВС.
Когда в одиночку отправляешься в долгое – от Дар-эс-Салама до Найроби было около тысячи километров – и не совсем безопасное путешествие, все чувства обостряются, и несколько эпизодов из моего странного двухдневного сафари по центральной Африке до сих пор сохранились в моей памяти.
В первый день своего путешествия я чуть ли не на каждом шагу натыкался на красавцев жирафов. Как правило, они собирались в небольшие группы, по трое или четверо, часто среди них был детеныш.
Эти животные всегда меня восхищали. Они были на удивление кроткими. Всякий раз, завидев их на обочине жующими зеленые листья с верхушек акаций, я непременно останавливал машину и медленно направлялся к ним. По пути я, задрав голову и глядя на их покачивающиеся на длинных-длинных шеях головки, выкрикивал бессмысленные радостные слова.
Я часто удивлялся тому, как веду себя, если уверен, что поблизости нет ни одного человека. Все мои внутренние запреты куда-то исчезали, и я орал во все горло: «Привет, жирафы! Привет! Привет! Привет! Как поживаете?» А жирафы лишь наклоняли головы и смотрели на меня своими влажными глазами, но ни разу не убежали.
Я приходил в дикий восторг от того, что могу свободно разгуливать среди этих огромных изящных диких созданий и говорить им все, что взбредет в голову.
Дорога на север через Танганьику была неровной и узкой. Один раз я заметил впереди крупную зеленовато-коричневую кобру, медленно скользящую по дорожным выбоинам. Я заметил ее метров за тридцать перед собой. Длиной она была метра два с лишним и ползла, приподняв плоскую голову над пыльной дорогой. Я тотчас остановил машину, чтобы не наехать на змею, и если честно, то так испугался, что быстро дал задний ход и пятился назад до тех пор, пока жуткая тварь не скрылась в подлеске. За все время, что я провел в тропиках, я так и не смог избавиться от страха перед змеями. При виде них меня бросало в дрожь.
На реке Вами туземцы поставили мой автомобиль на плотик, и шестеро крепких мужчин на другом берегу взялись за канат и с песнями потянули меня через реку. Течение было стремительным, и на середине реки утлый плотик, на котором качались я и моя машина, начало сносить вниз. Шестеро силачей запели громче и потянули сильнее, а я беспомощно сидел в кабине и следил за плещущимися вокруг плотика крокодилами, а крокодилы пялились на меня своими злобными черными глазками. Я подскакивал на волнах больше часа, но, в конце концов, шестеро силачей победили течение и перетащили меня через реку.
– С тебя три шиллинга, бвана, – сказали они, смеясь.
Слона я видел всего один раз. Крупный самец с самкой и детенышем медленно шли по лесу вдоль дороги. Я остановился, но из машины не вышел. Слоны меня не заметили, и я спокойно наблюдал за ними. От этих огромных неторопливых животных веяло умиротворенностью и спокойствием. Их шкуры свисали складками, словно мешковатые костюмы, позаимствованные у более крупных предков. Как и жирафы, слоны – вегетарианцы, им не нужно охотиться или убивать, чтобы выжить в джунглях, но ни один дикий зверь не посмеет напасть на них. Им следует опасаться лишь подлых людишек – случайных охотников или браконьеров – но судя по виду этого небольшого семейства, они с подобными ужасами еще не сталкивались. Похоже, они были счастливы и довольны жизнью. Они куда лучше меня, сказал я себе, и много-много мудрее. Сам-то я сейчас еду убивать немцев или погибнуть от их пули, а эти слоны даже не знают, что такое убийство.
На границе Танганьики и Кении поперек дороги стояла старая хижина с деревянными воротами, а командовал этим великим форпостом таможенно-иммиграционного ведомства древний и беззубый чернокожий человек, сообщивший мне, что он трудится здесь вот уже тридцать семь лет. Он предложил мне чашку чаю и попросил не обижаться за то, что у него к чаю совсем нет сахару. Я спросил у него, не желает ли он, чтобы я ему предъявил свой паспорт, но он затряс головой и сказал, что все паспорта для него на одно лицо. Во всяком случае, добавил он, улыбаясь, как заговорщик, он все равно ничего не прочтет без очков, а очков у него нет.
Вокруг моей машины собрались огромные масаи с копьями в руках. Они с любопытством рассматривали меня и хлопали руками по машине, но мы друг друга не понимали.
Немного погодя я трясся по особенно узкому участку дороги, вьющейся сквозь густые тропические заросли, и вдруг солнце закатилось, и за десять минут на джунгли опустился мрак. Фары мои светили очень слабо. Было бы глупо продираться сквозь ночь. Так что я остановился на самой обочине среди колючих деревьев, открыл окно и налил себе немного виски с водой. Я неторопливо пил, прислушиваясь к шорохам джунглей, и ничуть не боялся: автомобиль надежно защищает от любых диких зверей. У меня был с собой бутерброд с сыром, и я съел его, запивая виски. Потом закрыл оба окна, оставив лишь щелочки сверху, перебрался на заднее сиденье и уснул, свернувшись калачиком.
В Найроби я приехал около трех часов следующего дня и прямым ходом покатил на аэродром, где располагалась маленькая штаб-квартира Королевских военно-воздушных сил. Там я прошел медицинский осмотр у приветливого врача-англичанина, который заметил, что рост метр девяносто восемь не очень подходит для пилота.
– Вы хотите сказать, что не допускаете меня к службе в авиации? – с испугом спросил я.
– Как это ни забавно, – ответил он, – но в моих инструкциях нет упоминания об ограничениях по росту, так что я пропускаю вас с чистой совестью. Удачи, мой мальчик:.
Мне выдали простую форму, состоявшую из шортов цвета хаки, гимнастерки, кителя, носков тоже цвета хаки и черных ботинок, и присвоили звание рядового ВВС. Потом меня отвели в разборный барак с полукруглой крышей из рифленого железа, где уже разместились мои товарищи по учебе.
Всего в школе начальной подготовки к полетам нас было шестнадцать человек, и мне нравились все мои однокашники. Это были такие же молодые люди, как я, приехавшие из Англии и работавшие в крупных коммерческих концернах, как правило – в банке «Барклайз» или в табачной компании «Империал Тобакко», и все они пошли добровольцами в военную авиацию. Нам предстояло учиться здесь шесть месяцев, а потом нас ожидала отправка в разные боевые эскадрильи. Теперь достоверно известно – я потом все тщательно проверил, – что из тех шестнадцати не менее тринадцати пилотов погибли за следующие два года.
Жаль, они были так молоды.
На аэродроме у нас было трое инструкторов и три самолета. Инструкторами служили гражданские летчики, которых ВВС одолжили у небольшой местной компании «Уилсон Эруэйз». Мы учились на «Тайгер-мотах», небольших пассажирских самолетах. Эти «Тайгер-моты» были настоящими красавцами.
Кто хоть раз летал на «Тайгер-моте», влюблялся в него с первого взгляда, вернее, с первого полета. Этот надежный и очень подвижный маленький биплан с двигателем «Джипси» еще никого не подвел в воздухе, по словам моего инструктора. В «Тайгер-моте» можно кувыркаться по всему небу, и все равно ничего не сломается. Можно скользить по небу вниз головой, повиснув на стропах, и хотя мотор глохнет, потому что карбюратор тоже летит вверх тормашками, двигатель заводится моментально, стоит только вернуть самолет в нормальное положение. Можно войти в вертикальный штопор и сотни метров отвесно падать вниз, а потом стоит лишь коснуться рукоятки руля, дросселя, толкнуть ручку вперед – и, совершив два переворота через крыло, самолет снова летит параллельно земле.
У «Тайгер-мотов» не было недостатков. У них ни разу не отвалилось крыло при потере летной скорости во время приземления, а таких неуклюжих приземлений было бесчисленное множество. Им порядком досталось от неумелых новичков, и хоть бы что.
В «Тайгер-моте» было две кабины, одна – для инструктора, другая – для ученика, снабженные переговорным устройством. «Тайгер-мот» был допотопным самолетом без автоматического пуска, и завести двигатель можно было только одним способом: встать перед самолетом и раскручивать пропеллер рукой. При этом требовалась большая осторожность: если покачнешься и упадешь вперед, пропеллер мигом снесет голову.
Найроби
4 декабря 1939 года
Дорогая мама!
Я чудесно провожу время, никогда еще мне не было так весело. Я принес присягу Королевским ВВС, как полагается, и твердо решил служить в авиации до конца войны.
Мое звание – рядовой ВВС, со всеми возможностями за несколько месяцев дослужиться до лейтенанта авиации, если не быть дураком. У меня больше нет никаких слуг. Сам получаешь еду, сам моешь свои нож и вилку, сам следишь за своей одеждой, короче говоря, все делаешь, сам.
Наверно, мне не следует рассказывать, чем мы занимаемся и куда летаем, иначе цензор разорвет письмо, но встаем мы в 5.30 утра, до завтрака в 7 утра – муштра, потом полеты и лекции до 12.30. С 12.30 до 1.30 – обед, с 1.30 до 6.00 вечера – полеты и лекции.
Летать очень здорово, у нас опытные и приятные в общении инструкторы. Если повезет, то к концу этой недели я начну летать самостоятельно…
На маленьком аэродроме Найроби была всего одна взлетная полоса, но всем удавалось много практиковаться в приземлении против ветра и взлете: Почти каждое утро нам приходилось бегать по летному полю и прогонять с него зебр.
Если летаешь на военном самолете, то сидишь на парашюте, что прибавляет тебе еще пятнадцать лишних сантиметров роста. Когда я впервые забрался в открытую кабину «Тайгер-мота» и уселся на парашют, моя голова оказалась рад кабиной. Работал мотор, и в лицо мне била сильная струя с вращающегося пропеллера.
– Вы слишком высокий, – сказал инструктор, которого звали старший лейтенант авиации Паркинсон. – Вы в самом деле хотите этим заниматься?
– Да, конечно, – ответил я.
– Подождите, пока мы раскрутим пропеллер посильнее, – сказал Паркинсон. – Дышать вам будет трудно. И наденьте очки, иначе ослепнете от слез.
Паркинсон оказался прав. В первом полете я едва не задохнулся из-за потока воздуха, который гнал пропеллер, и выжил только потому, что каждые несколько секунд наклонял голову и вдыхал воздух в кабине. После этого я стал обматывать нос и рот тонким хлопчатобумажным шарфом, и благодаря этому мог дышать.
По своему бортжурналу, который до сих пор хранится у меня, я вижу, что меня допустили к самостоятельным полетам после того, как я налетал 7 часов 40 минут, что близко к средней цифре.
Бортжурнал пилота ВВС, кстати, имеет – во всяком случае, в мое время имел – весьма внушительный вид: почти квадратная книга 20 на 30 см, толщиной два с лишним сантиметра, в твердом переплете с синей каймой. Терять бортжурнал было нельзя. В нем регистрировался каждый вылет с указанием борта, цели и пункта назначения и времени, затраченного на полет.







![Книга Биограф[ия] автора Максим Горький](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-biografiya-88542.jpg)
