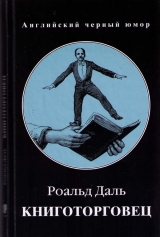
Текст книги "Книготорговец"
Автор книги: Роальд Даль
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
– Я? – Он фыркнул. – Фокусник? Вы можете представить меня, достающим кроликов из шляпы на детском утреннике?
– Тогда вы карточный игрок. Вы втягиваете людей в игру и потом мухлюете.
– Я? Паршивый карточный шулер? – закричал он. – Да это самый жалкий вид мошенничества из всех.
Теперь я вел машину медленно, не более сорока миль в час, чтобы быть уверенным, что меня больше не остановят. Мы выехали на шоссе Лондон-Оксфорд и ехали в направлении Дэнема.
Внезапно мой пассажир поднят в руке черный кожаный ремень.
– Видели это когда-нибудь? – спросил он.
На ремне была медная пряжка необычной формы.
– Постойте, – сказал я, – ведь это мой ремень! Мой! Где вы его взяли?
Он ухмыльнулся и слегка покачал ремнем, из стороны в сторону.
– Где, вы думаете, я его взял? – сказал он. – Конечно, из ваших брюк.
Я сунул руку вниз – ремня не было.
– Вы хотите сказать, что сняли его с меня, пока мы ехали? – поразился я.
Он кивнул, не сводя с меня маленьких черных крысиных глаз.
– Это невозможно, – сказал я. – Вам нужно было расстегнуть пряжку и вытянуть ремень через все петли. Я бы заметил, как вы это делаете. А не заметил бы, то почувствовал.
– Но ведь не почувствовали? – сказал он, торжествуя. Он положил ремень себе на колени, а в его пальцах уже болтался коричневый шнурок.
– А как насчет этого? – воскликнул он, помахивая шнурком.
– А что насчет этого? – спросил я.
– Никто здесь не потерял шнурок? – спросил он, ухмыляясь.
Я взглянул на свои ботинки. В одном не было шнурка.
– Боже! – сказал я. – Как вы это сделали? Я не видел, чтобы вы хоть раз нагнулись.
– Вы ничего не видели, – гордо сказал он. – Вы не видели, чтобы я хотя бы шевельнулся. И знаете, почему?
– Да, – ответил я. – Потому что у вас волшебные пальцы.
– Точно! – закричал он. – Быстро соображаете!
Он откинулся назад и снова затянулся своей самокруткой, выпуская тонкой струйкой дым в ветровое стекло. Он знал, что произвел на меня впечатление этими двумя трюками, и был очень доволен.
– Не хочу опаздывать, – сказал он. – Какой сейчас час?
– Часы перед вами, – ответил я.
– Я не доверяю часам в машинах, – сказал он. – Сколько на ваших?
Я подтянул рукав, чтобы взглянуть на наручные часы. Часов не было, Я посмотрел на своего спутника. Тот смотрел на меня, ухмыляясь.
– Вы их тоже взяли, – сказал я.
Он показал свою руку, на ладони были мои часы.
– Отличная вещица, – сказал он. – Превосходное качество. Золотые. Восемнадцать карат. Легко толкнуть. От хороших вещей избавиться не проблема.
– Я бы хотел получить их обратно, если не возражаете, – сказал я довольно раздраженно.
Он осторожно положил часы на панель перед собой.
– Я не стал бы ничего у вас красть, шеф, – сказал он. – Вы мне друг. Согласились подвезти меня.
– Рад это слышать, – ответил я.
– Просто отвечаю на ваши вопросы, – продолжал он. – Вы спросили, чем я зарабатываю на жизнь, вот я вам и показываю.
– Что еще вы взяли у меня?
Он снова улыбнулся и начал извлекать из кармана куртки одну за другой мои вещи: водительские права, брелок с четырьмя ключами, несколько банкнот и монет, письмо от издателя, записную книжку, огрызок карандаша, зажигалку и, наконец, прекрасное старинное кольцо моей жены, с сапфиром посередине и жемчужинами вокруг. Я вез кольцо в Лондон, к ювелиру, потому что выпала одна из жемчужин.
– А вот еще хорошая вещица, – сказал он, вертя в руках кольцо. – Восемнадцатый век, если не ошибаюсь, времена короля Георга III.
– Точно, – сказал я, пораженный. Совершенно точно.
Он положил кольцо на кожаную панель вместе с другими вещами.
– Так вы карманник, – сказал я.
– Не люблю это слово, – ответил он. – Оно грубое и вульгарное. Карманники – грубые и вульгарные люди, занимаются любительством. Крадут деньги у слепых старушек.
– Как же вы тогда называете себя?
– Себя? Я ручных дел мастер. Профессиональный ручных дел мастер.
Он говорил торжественно и гордо, словно представляясь президентом Королевского колледжа хирургов или архиепископом Кентерберийским.
– Никогда раньше не слышал этого слова, – сказал я. – Вы сами его придумали?
– Конечно, нет, – ответил он, – Так называют тех, кто достиг большого мастерства в своем деле. Вы, например, слышали о золотых и серебряных дел мастерах. Это мастера по серебру и золоту. А я мастерски владею своими пальцами, так что я ручных дел мастер.
– Интересная, должно быть, работа.
– Чудесная, – ответил он. – Замечательная.
– Вот зачем вы едете на скачки.
– В толпе – самая легкая добыча, – продолжал он. – Стоите себе, высматриваете счастливчиков в очереди за выигрышем. И когда увидите, что кто-то забирает большую пачку денег, просто идете за ним и берете деньги. Поймите меня правильно, шеф. Я никогда ничего не беру у проигравших. И у бедных тоже. Я беру только у тех, кто и без этого обойдется, у выигравших и у богатых.
– Весьма гуманно с вашей стороны, – сказал я. – И как часто вы попадаетесь?
– Попадаюсь? – возмутился он. – Я – попадаюсь? Только карманники попадаются. Мастера – никогда. Послушайте, я бы мог вытащить у вас изо рта вставную челюсть, если бы захотел, и вы бы меня не поймали!
– У меня нет вставной челюсти, – сказал я.
– Я знаю, – ответил он. – Иначе я давно бы ее вытащил!
Я поверил ему. Похоже, его длинные, тонкие пальцы умели все.
Мы проехали еще немного молча.
– Этот полицейский устроит вам тщательную проверку, – сказал я. – Это вас не беспокоит?
– Никто меня проверять не станет, – сказал он.
– Конечно, станет. Ведь ваше имя и адрес записаны у него в черной книжечке.
Мой попутчик снова улыбнулся хитрой, крысиной улыбочкой.
– Ах вот вы о чем, – сказал он. – Но готов спорить, что у себя в памяти он ничего не записал. Еще не встречал ни одного полицейского с приличной памятью. Некоторые из них и собственного-то имени не помнят.
– А при чем здесь память? – сказал я. – Ведь он все записал в книжечку.
– Записал. Но вот беда: книжечку-то он потерял. Он потерял обе книжечки: и ту, где записано мое имя, и ту, где записано ваше.
В длинных, тонких пальцах правой руки он, торжествуя, держал обе книжки.
– Легче легкого, – гордо объявил он.
От радости я чуть было не врезался в цистерну с молоком.
– Теперь у этого полицейского ничего нет на нас обоих, – сказал он.
– Вы гений! – вскричал я.
– Ни наших имен, ни адресов, ни номера машины – ничего, – сказал он.
– Здорово!
– Вам лучше поскорее съехать с дороги. Давайте разведем небольшой костер и сожжем эти книжки.
– Ну вы и молодец! – воскликнул я.
– Спасибо, шеф, – сказал он. – Приятно, когда тебя ценят.
НЕЧАЯННАЯ УДАЧА. КАК Я СТАЛ ПИСАТЕЛЕМ
Писателем называется человек, который выдумывает разные истории.
Но как устраиваются на такую работу? Как стать профессиональным прозаиком, который не делает никакой другой работы, а только сочиняет?
У Чарльза Диккенса все вышло очень легко. Когда ему исполнилось двадцать четыре года, он просто сел и написал „Записки Пиквикского клуба“, а эта книга сразу же стала бестселлером. Но Диккенс был гением, а гении – они ведь не такие, как мы, то есть все остальные.
В этом столетии (в прошлом веке не всегда так было) чуть ли не всякий писатель из тех, кому, в конце концов, удавалось добиться успеха в литературе, начинал с какой-нибудь другой работы – в школе детей учил, к примеру, или врачом был, или журналистом, или юристом. („Алису в Стране чудес“ написал математик Льюис Кэрролл, а „Ветер в ивах“ – государственный служащий Кеннет Грэм.) Значит, ради первых проб пера всегда приходится жертвовать досугом, и обычно начинающие сочинители пишут по ночам.
Почему оно так, понятно. Когда человек становится взрослым, ему надо зарабатывать себе на жизнь. Чтобы зарабатывать себе на жизнь, надо найти работу. Желательно, чтобы за работу платили как можно больше. Но как бы ты ни хотел сделать карьеру писателя, будет бессмысленно явиться к издателю и сказать ему: „Я хочу работать у вас писателем“. Тот, скорее всего, попросит не морочить ему голову и посоветует сначала что-нибудь написать. И даже если принести ему готовую книжку, и она придется ему более-менее по вкусу, и он ее напечатает, все равно трудоустраивать писателя он не станет. Самое большее, он предложит аванс, фунтов, скажем, пятьсот, которые он потом вернет себе, вычитая эти деньги из авторского вознаграждения. Его еще называют роялти – это деньги, которые издатель выплачивает писателю за каждый проданный экземпляр книги. В среднем это десять процентов от той цены, за которую можно купить книгу в книжном магазине. Если книга стоит четыре фунта, писатель получает сорок пенсов. А если книга продается за пятьдесят пенсов, потому что она не в переплете, а только в бумажной обложке, то писателю причитается пять пенсов.
Сплошь и рядом бывает так, что поверивший в себя писатель тратит все свое свободное время на сочинение, а когда, года через два, рукопись наконец готова, никто не хочет ее печатать. И писатель не получает за свои труды ничего. Кроме разочарования.
Если же ему так повезло, что какой-нибудь издатель согласился опубликовать его сочинение, то шансы таковы: раз эта книга – первый роман начинающего автора, то, в конце концов, продастся около трех тысяч экземпляров. Соответственно, писателю заплатят около тысячи фунтов. Быстрее, чем за год, как правило, роман написать не удается, а на тысячу фунтов в наше время целый год не проживешь. Теперь понятно, почему начинающему сочинителю приходится первым делом искать себе не литературную, а какую-то другую работу. Иначе он почти наверняка умрет с голоду.
Вот кое-какие из тех качеств, которые должны быть у вас или которыми вам стоит обзавестись, коль уж вы пожелали стать прозаиком:
1. Живое воображение.
2. Надо уметь писать. Я имею в виду способность придумать какой-нибудь случай и так описать его, что он как бы сам собой живо отобразится в мозгу читателя. Не всякому это под силу. Это – дар, и он или есть, или его нет.
3. Надо иметь терпение. Иными словами, коль уж вы взялись за писание, то нечего отлынивать. Дело непременно надо довести до конца, то есть писать, писать, писать, – час за часом, день за днем, неделю за неделей, из месяца в месяц.
4. Надо добиваться совершенства. Это значит, что никогда нельзя, почивать на лаврах, довольствуясь достигнутым. Все написанное должно переписываться по многу раз, снова и снова. Надо стараться выжать из себя все, на что способен.
5. Нужны самообладание, несгибаемая самодисциплина и сила воли. Вы работаете в одиночку. За безделье с работы не выгонят – некому. За нерадивость, тем более, никто попрекать не будет.
6. Очень не помешает чувство юмора. Если писать для взрослых, то еще как-то можно и без него, но детскому писателю без юмора никак нельзя.
7. Нужно иметь хоть немного скромности. Писатель, который пребывает в вечном восторге от своего творения, рискует нарваться на неприятности. Он почти обречен.
Вот послушайте, как мне самому удалось протыриться с черного хода и оказаться в литературной среде.
Когда мне исполнилось восемь лет, а было это в 1924 году, меня отослали в частную закрытую школу. Школа находилась в городке Уэстон-сьюпер-Мер, на юго-восточном побережье Англии. Жуткое время настало: дисциплина лютая, разговаривать в спальнях не положено, по коридорам бегать нельзя, и никак и ни в чем никаких поблажек, и только правила, и еще раз правила, которые надо соблюдать.
И над всеми нами постоянно висит ужас карающей трости – как страх смерти.
– Директор велел вам явиться к нему в кабинет.
Роковые слова. Мурашки пошли по спине, и в желудке свело. Но ты идешь, а лет тебе, наверное, девять. Идешь по длинным мрачным коридорам и доходишь до личных владений директора, где случается только гнусное и отвратительное, а воздух пропитан табачным дымом. Стоишь у страшной черной двери и не смеешь даже постучать. Глубоко вздыхаешь. Если бы здесь была мама, говоришь себе, уж она-то этого не допустила бы. Да нет ее здесь. Не на кого тебе надеяться. Ты один. Вытягиваешь руку и еле слышно стучишься, только один раз.
– Прошу! А, ну да, это Даль. Так вот, Даль, мне доложили, что вчера вечером вы болтали, готовя домашние задания.
– Но, сэр, простите, сэр, у меня сломалось перо, и я только спросил у Дженкинса, нет ли у него запасного.
– Я не потерплю болтовни за уроками. И вам об этом очень хорошо известно.
И вот уже этот дядька пересек комнату и оказался в углу, у высокого шкафа, на верху которого он держит свои трости.
– Мальчики, нарушающие правила, должны быть наказаны.
– Сэр… я… у меня перышко сломалось… я…
– Это не оправдание. Сейчас убедитесь, Даль, что за разговоры во время подготовки домашних заданий по головке не гладят.
Он достал трость. Это была палка примерно метр длиной, с небольшой закругленной рукояткой на одном конце. Тонкая, белая и очень гибкая.
– Нагнитесь и коснитесь пальцев на ногах. Встаньте там, у окна.
– Но сэр…
– Не препираться, Даль. Делайте, что велено.
Я наклонился. И ждал. Он всегда заставлял дожидаться, секунд десять, пока у жертвы не задрожат коленки.
– Ниже, мальчик! Ладони на пальцах ног.
Я уставился на носки своих черных ботинок и думал: вот сейчас этот человек так ударит меня палкой, что весь зад покраснеет. А у меня и так уже было два длинных рубца на ягодицах. Иссиня-черные, на кромках они горели багрянцем, и если осторожно провести по ним пальцами, то почувствуешь, какие они неровные.
Ссфии-и-y! Трах!
Потом пришла боль. Невообразимая, непереносимая, терзающая. Словно добела раскаленную кочергу положили на задницу, да еще и придавили ее чем-то сверху.
Второй удар долго ждать себя не заставил – паузы должно хватить разве лишь на подавление желания выставить руки навстречу орудию пытки. Это непроизвольный рефлекс. Но если ему не воспротивиться, палка покалечит тебе пальцы.
Ссфии-и-y! Трах!
Второй удар пришелся рядом с первым, и горячая кочерга еще глубже погрузилась в кожу.
Ссфии-и-y! Трах!
Третий удар пришелся туда, где боль уже дошла до предела. Все. Хуже быть уже не может. Новые, последующие удары лишь не давали боли пройти… Стараешься не разреветься. Иногда это не получается. Но молчишь ты или рыдаешь – слезы сдержать невозможно. Они стекают ручейками по щекам и капают на ковер.
Ни в коем случае нельзя дергаться и тем более пробовать выпрямиться в тот момент, когда трость врезается в тело. Сделаешь так – получишь еще.
Нарочито медлительно, как бы нехотя, директор ударил еще три раза. Всего шесть.
– Можете идти.
Голос шел издалека и снизу, как будто из какой-то глубокой пещеры, удаленной на многие километры, а ты медленно и страдальчески-мучительно выпрямляешься, охватываешь ладонями свои пылающие ягодицы – как можно плотнее и бережнее, словно боишься, что они сейчас отвалятся – и выскакиваешь из кабинета на носочках.
Зта жестокая трость правила нашими жизнями. Нас били, если мы болтали в классе и спальне после того, как выключали свет, если „не проявили должной старательности“, если вырезали свои инициалы на партах, если лазили через забор, если выглядели неряшливо, если запускали бумажные самолетики, если после уроков не меняли обувь на домашнюю, если после прогулок забывали, что полагалось аккуратно развесить одежду на плечиках… но прежде всего и больше всего нам влетало за любое неповиновение любому наставнику (учителями их тогда не называли). Иначе говоря, нас карали за все то, что естественно для всех мальчишек.
Так что мы были осмотрительны в словах. И в делах.
Господи Боже мой, как же мы осторожничали! Какой немыслимой, невероятной, невообразимой стала наша бдительность. Куда бы и когда бы мы ни шли, шаги наши оставались неслышными, ушки на макушке, и сами всегда начеку, в постоянной готовности к опасности, словно дикий зверь, продирающийся через чащу.
Боялись мы не одних только наставников. В школе был еще один ужасный тип. Звали его мистер Поупл. Этот Поупл был знаменит своим жирным пузом и багровой физиономией. Он прислуживал в гардеробе, надзирал за котельной и вообще смотрел за хозяйством. Власть его порождалась тем обстоятельством, что он мог (и, как правило, этой возможности не упускал) доносить на нас директору по любому надуманному поводу. Час славы наступал для Поупла ежеутренне, ровно в семь тридцать, когда он появлялся в конце длинного главного коридора и „звонил в колокольчик“. Вообще-то этот колокольчик представлял собой настоящий медный колокол на толстой деревянной ручке, и Поупл размахивал им так, что раздавалось „дилинь-динь-динь, дилинь-динь-динь, дилинь-динь-динь“. Услыхав эти звуки, все ученики, а было нас сто восемьдесят душ, должны были живо мчаться в коридор, выстраиваться вдоль обеих стен и вытягиваться по стойке смирно, дожидаясь директора.
Но тот появлялся минут через десять, не раньше, а пока его не было, Поупл исполнял свой оригинальный обряд. В школе насчитывалось шесть уборных, все они были пронумерованы, и цифры от единицы до шестерки красовались на дверях. Поупл, стоя в конце коридора, держал в руке шесть медных кружков, с цифрой на каждом, тоже от единицы до шестерки. В полнейшей тишине он медленно скользил взглядом вдоль двух шеренг застывших в оцепенении мальчиков. А потом он рявкал:
– Аркл!
Арклу надлежало выйти из строя и поспешно зашагать к мистеру Поуплу, который вручал ему медный кружок, что-то вроде номерка. Тогда Аркл маршировал назад вдоль всего строя и поворачивал налево – уборные находились там, в противоположном конце коридора. Только там ему разрешалось взглянуть на свой кружок и узнать номер предназначенной ему уборной.
– Хайтон! – рявкал Поупл, и теперь Хайтон торопился получить свой номерок на посещение туалета.
– Эйнджел!..
– Уильямсон!..
– Гонт!..
– Прайс!..
Вот так шестеро мальчиков, отобранных прихотью мистера Поупла, отправлялись в уборные. Никто у них не спрашивал, хочется им или не хочется сходить по-большому или по-маленькому в полвосьмого утра, да еще до завтрака. Им было велено, и они должны были делать то, что им велено, вот и весь разговор. Попасть в первую шестерку считалось у нас большой привилегией, – ведь пока все прочие, кто остался в строю, сначала дожидались директора, а потом трепетали, выдерживая его придирчивую проверку, эти счастливчики посиживали себе спокойненько в благословенном уединении.
Наконец из своих личных апартаментов появлялся директор и перенимал бразды правления у мистера Поупла. Директор медленно двигался вдоль строя, пристально разглядывая каждого мальчика. Утренняя проверка было дело нешуточное; и мы страшно боялись его придирчивого взгляда из-под кустистых бровей и нетерпеливо дожидались, пока этот взгляд не перестанет скользить вверх-вниз вдоль наших тщедушных мальчишеских тел.
– Идите к себе и причешитесь, как следует. И если это еще раз повторится, пеняйте на себя.
– Руки перед собой. Почему ладони в чернилах? Вы что, вчера не умывались?
– Галстук повязан криво. Выйдите из строя и завяжите его еще раз. И чтобы на этот раз повода к замечаниям не было.
– По-моему, у вас грязь на ботинке. Или на той неделе я не говорил вам о том же? После завтрака попрошу зайти ко мне в кабинет.
И далее все в том же духе – свирепая проверка на линейке каждое утро. Когда же она наконец завершалась и директор удалялся, а Поупл строем вел нас в столовую, у очень многих из нас уже не было никакого аппетита, тем более что на завтрак полагалась непременная овсянка.
Я до сих пор храню все мои школьные бумаги, хотя с того времени минуло более полувека, и тщательно изучил все эти дневники и табели, один за другим, пытаясь отыскать в них хоть какой-то намек на свою будущую писательскую карьеру. Главное, что я изучал, это, разумеется, мои сочинения по английскому. Но все они были какие-то плоские и казались не по делу, – за исключением одного документа. Тот что привлек мое внимание, помечен Рождественской четвертью 1928 года. Было мне тогда двенадцать, а английскому меня учил мистер Виктор Коррадо. Я прекрасно его помню: высокий, хорошо сложенный, мускулистый, с вьющейся черной шевелюрой и римским носом. (Потом, однажды вечером, он пропал, и тогда же исчезла и наша экономка, мисс Дейвис, и после мы эту пару больше никогда не видали.) Как бы оно там ни было, но вышло так, что мистер Коррадо учил нас не только английской грамматике, но и боксу: и в этом самом учительском отчете, о котором идет речь, в графе „Английский язык“ значится: „См. „Бокс“ – там те же замечания“. А в графе „Бокс“ я читаю: „Вяло и тяжеловато. Удары плохо рассчитаны по времени и легко предсказуемы“.
И все же раз в неделю, по утрам в субботу, все ужасы этой школы, от которых кровь в жилах стыла, испарялись, и в течение двух часов я бывал счастлив.
Не только я, а и другие мальчики, кому уже исполнилось десять лет… Но это неважно. Лучше я расскажу, как это происходило.
Ровно в десять тридцать утра каждую субботу начинал заливаться проклятый колокол мистера Поупла: „дилинь-динь-динь“.
Тогда все мальчики в возрасте до десяти лет (таких насчитывалось человек семьдесят) должны были сразу же собраться во дворе, на большой игровой площадке, позади главного здания. Там их ожидала, расставив ноги на ширину плеч и скрестив руки на огромной груди, мисс Дейвис, экономка. Если шел дождь, мальчики должны были являться на площадку в плащах. Если шел снег или мела метель – в пальто. И, конечно, обязательно в школьных фуражках – серых с алым околышем спереди. Никакое стихийное бедствие – хотя и ведомо, что творятся они волею Божией, будь то смерч, ураган или извержение вулкана – не могло воспрепятствовать этому тягостному двухчасовому утреннему моциону; и каждую субботу мальчики семи, восьми и девяти лет брели по продуваемым ветрами прогулочным местам Уэстон-сьюпер-Мэра. Они становились по двое, пара за парой, а мисс Дейвис сопровождала их строй, держась немного сбоку, словно бы выгуливая медленно ползущего вперед огромного крокодила. Она широко шагала в своей твидовой юбке, шерстяных чулках и фетровой шляпке, которую наверняка погрызли крысы.
А еще, после того, как в субботу утром раздавался колокольчик мистера Поупла, все остальные мальчики (те, кому уже исполнилось десять лет и старше, „всего около сотни), обязаны были незамедлительно явиться в главный школьный зал и там рассесться. Потом туда являлся младший наставник С. К. Джопп. Едва просунув голову в дверной проем, он начинал орал на нас так яростно, что изо рта у него пулями вылетали капельки слюны и разбивались об оконные стекла, покрывая их изморосью.
– Отлично! – орал он. – Не разговаривать! Не шевелиться! Смотреть перед собой, руки на стол!
Потом он пропадал, чтобы, миг спустя, появиться снова.
Мы тихо сидели и ждали. Ждали того прекрасного момента, который, как нам было известно, вот-вот настанет. С улицы, со стороны площади, в зал доносились звуки заводившихся автомобильных двигателей. Машины были старые, заводились вручную: надо было крутить рукоятку. (Я ведь описываю, напомню, 1927/28 учебный год.) Без этого ритуала не обходилось ни одно субботнее утро. Итак, было в общей сложности пять автомобилей, и в них втискивался весь школьный штат из четырнадцати наставников, включая не только директора собственной персоной, но и красномордого пузатого мистера Поупла. И они удалялись, в реве моторов и в клубах сизого дыма, и ехали „отдохнуть“. Отдыхали они в пивной, которая называлась, если мне память не изменяет, „Загулявший граф“. Там они оставались до ланча, поглощая, пинту за пинтой, крепкий темный эль. Спустя два с половиной часа они возвращались, кряхтя вылезали из машин и осторожной поступью брели в столовую, где их ждал ланч.
Но довольно про наставников. А с нами-то что? Ведь мы – это толпа десяти-, одиннадцати– и двенадцатилетних мальчишек, рассевшихся за столами Зала Собраний, в школе, в которой вдруг не осталось ни единого взрослого…
Мы, конечно, точно знали, что произойдет дальше. Как только наставники уберутся, вновь откроется дверь главного входа, застучат каблучки – сначала на ступеньках, потом все ближе и ближе – и, наконец, вихрем из развевающихся одежд, позвякивающих браслетов и распущенных волос в зал ворвется дама и закричит: „Всем приветик! Выше голову! Веселей! Вы не на похоронах!“ или что-то вроде. И это будет миссис О'Коннор.
Благослови, Господи, великолепную миссис О'Коннор в ее сногсшибательных нарядах и с седыми волосами, разлетающимися во все стороны. Ей было около пятидесяти, лицо ее, с длинными желтыми зубами, было похоже на лошадиное, но нам она казалось прекрасной. В штате школы она не состояла. Ее отыскали где-то в городе и наняли, чтобы каждую субботу она приходила по утрам в школу и присматривала за нами. Словом, ей отводилась роль этакой няньки, которая должна утихомиривать нас в течение тех двух с половиной часов, когда в школе нет ни одного взрослого, потому что все наставники расслабляются в пивной.
Но никакой нянькой миссис О'Коннор не была. На самом деле она была по-настоящему великим, одаренным знатоком, влюбленным в английскую литературу. Три года подряд мы проводили с нею каждое субботнее утро и за это время успели изучить с нею всю историю английской литературы за почти полторы тысячи лет, с 597 года от Рождества Христова до середины девятнадцатого века.
Каждому новичку выдавалась тоненькая синенькая книжица под названием „Хронология“. В книжке было всего шесть страниц, и они содержали длинный перечень великих и не очень великих событий в истории английской литературы, с указанием даты. Миссис О'Коннор выбрала оттуда ровно сотню дат, мы пометили их в своих книжечках и выучили наизусть. Некоторые я помню до сих пор:
597. Св. Августин высадился в Британии и стал проповедовать христианство.
731. „Церковная история“ Беды Достопочтенного.
1215. Великая Хартия вольностей.
1399. Ленгланд, „Видение о Петре Пахаре“.
1476. Кэкстон устанавливает первый печатный станок в Вестминстере.
1478. Чосер, „Кентерберийские рассказы“.
1485. Мэлори, „Смерть Артура“.
1590. Спенсер, „Королева фей“.
1623. Первое „издание“ Шекспира.
1667. Мильтон, „Потерянный рай“.
1668. Драйден, „Опыты“.
1678. Беньян, „Путь паломника“.
1711. Аддисон, „Наблюдатель“.
1719. Дефо, „Робинзон Крузо“.
1726. Свифт, „Путешествия Гулливера“.
1733. Поуп, „Опыт о человеке“.
1755. Джонсон, „Словарь“.
1791. Бозуэлл, „Жизнь Джонсона“.
1833. Карлайл, „Сартор Ресартус“.
1859. Дарвин, „Происхождение видов“.
Г-жа О'Коннор выбирала очередную тему и посвящала ей одно субботнее утро. Так что к концу третьего года, считая, что за учебный год бывает около тридцати трех суббот, она охватывала сотню выбранных тем.
Это было ужасно интересно! У нее был великий дар учителя: все, о чем она говорила, тут же оживало перед нашими глазами. За два с половиной часа мы дорастали до любви к Ленгланду и его Петру Пахарю. Через неделю являлся Чосер, и его мы тоже успевали полюбить за то же время. Даже такие не очень понятные типы, как Мильтон, Драйден или Поуп, – мы и за них начинали переживать и даже сочувствовать им, стоило миссис О'Коннор рассказать про них и прочесть умело подобранные отрывки из их сочинений. И результат – по крайней мере, для меня, – был таким, что к тринадцати годам я очень четко осознавал величие огромного литературного наследия, накопленного Англией за века. И еще: я стал жадным и ненасытным читателем серьезной литературы.
Милая, несравненная, незабвенная миссис О'Коннор! Стоило, наверное, мучиться в этой отвратительной школе ради счастья и удовольствия, которое я испытывал на ее субботних уроках.
В тринадцать лет, после окончания начальной школы, меня отправили в другую, тоже закрытую. Называлась она Рептон, находилась в графстве Дербишир, а директорствовал в ней в то время священник Джоффри Фишер, ставший впоследствии епископом Честерским, потом епископом Лондонским и, наконец, архиепископом Кентерберийским. Кстати, именно он, став архиепископом, короновал королеву Елизавету Вторую в Вестминстерском аббатстве.
Одежды, которые полагалось носить в этой школе, придавали ученикам сходство с приказчиками похоронного бюро. Черный сюртук, приталенный спереди и с длинными фалдами сзади, болтался где-то под коленками. Черные брюки с узеньким серым шевроном. Черные ботинки. И черная жилетка с одиннадцатью пуговицами, которые надо было застегивать каждое утро. Галстук черный. И еще жесткий накрахмаленный воротничок, с отогнутыми назад, на манер бабочки, уголками. И только сорочка белая.
А на голове, чтобы уж совсем завершить и без того нелепый облик – соломенная шляпа, без которой ни при каких условиях нельзя было выходить на улицу. Снимать ее можно было только во время спортивных занятий на открытом воздухе. Поскольку шляпа под дождем намокала, то в плохую погоду приходилось таскать с собой зонтик.
Естественно, у меня была надежда, что мой много и долго страдавший зад наконец передохнет, когда я попаду в новую, более взрослую школу. Но не тут-то было. Били в Рептоне чаще и яростнее, чем в младшей школе. И не подумайте, хотя бы на секунду, что будущий архиепископ Кентерберийский осуждал эту дикую практику. Он лично закатывал рукава и предавался ей с великой охотою. Его упражнения в этом занятии запомнились особенно, да, это были самые скверные, по-настоящему жуткие случаи. Жуткие экзекуции устраивал этот Божий человек. Будущий Предстоятель Церкви Англии действовал с чрезвычайной, можно сказать, зверской жестокостью. Да еще требовал готовить сосуд с водой, губку и полотенце, чтобы жертва могла смыть кровь по завершении экзекуции.
Это не шутки, а тени испанской инквизиции.
Но противней всего, по-моему, было то, что старосты могли вволю и от души лупить своих однокашников. Такое случалось ежедневно. Большие ребята (17 и 18 лет) вечно измывались над мальчиками поменьше (13, 14, 15 лет). Особенно вечером, в спальнях, перед сном, когда уже надеты пижамы.
– Эй, Даль, тебя зовут вниз, в раздевалку. Ладони сразу же тяжелеют и перестают слушаться, но все же накидываешь халат, снова надеваешь домашние туфли. Потом плетешься по ступенькам вниз и входишь в просторное помещение с грубым дощатым полом, где по стенам развешан спортивный инвентарь. С потолка свисает одна-единственная электрическая лампочка, голая, без всякого абажура. Старшеклассник, надутый и очень страшный, дожидается в самой середине комнаты. В руках у него длинная трость, и обыкновенно он поигрывает ею, то заводя за спину, то стремительно выталкивая ее вперед, а жертва тем временем медленно приближается.
– Ты, наверное, уже догадался, Даль, зачем тебя позвали, – говорил он.
– Ну, я…
– Второй день кряду мой тост у тебя подгорает.
Надо, наверное, объяснить этот нелепый упрек. В школе вы считаетесь подручным вот этого самого верзилы, старосты или просто старшеклассника. Вы его слуга, и среди множества ваших обязанностей есть и такая, как ежедневное поджаривание для него хлеба к чаю. Делается это с помощью похожей на трезубец длинной вилки. Хлеб нанизывался на зубцы этой вилки, а потом обжаривался, сначала с одной, потом с другой стороны, на открытом огне. Тосты разрешалось готовить только на огне камина в библиотеке, и, когда наступало время пить чай, там толпилось не менее десятка „слуг“, пытавшихся просунуть свои вилки с хлебом через каминную решетку. У меня эта кулинария получалась не ахти как здорово. Обыкновенно я подносил хлеб слишком близко к огню, и тост подгорал. Но второго ломтика хлеба не выдавали, да и еще раз пробиться к камину тоже вряд ли удалось бы, так что оставался единственный выход – соскребать нагар ножом. Однако ничего хорошего из этого, как правило, не выходило. Старшеклассники превосходно разбирались в тостах. Вот он, ваш мучитель, сидит себе и вертит в руках обжаренный ломтик хлеба, изучая его с такой тщательностью, словно это драгоценная миниатюра или еще какое-то ценное произведение искусства. Результаты изучения редко его удовлетворяют, – и на этот раз он насупился, и сразу же понимаешь, почему.





