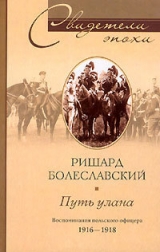
Текст книги "Путь улана. Воспоминания польского офицера. 1916-1918"
Автор книги: Ришард Болеславский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 10
ВЕНСКИЙ СКРИПАЧ
На следующее утро я держал в руке требование с резолюцией, стоившей человеческой жизни, – лист бумаги, дающий право на получение нескольких тонн сена. Я должен был продолжить работу, начатую капитаном Рафом.
Весь вечер и большую часть ночи мы с корнетом Шмилем обсуждали самоубийство. Под утро я лег, но так и не смог заснуть. Зачем слепая судьба спасла Рафа, когда он был ранен? Почему пуля, попавшая ему в голову, не прошла чуть левее и не убила его? Насколько это было бы милосерднее! Он избежал бы сумеречной жизни – между болью и безумием. И ему не пришлось бы исправлять не законченную смертью работу собственной рукой. Он навсегда остался в моей памяти.
Утром я поднялся с кровати в состоянии необыкновенного нервного возбуждения, которое обычно охватывает человека после бессонной ночи, и, как правило, уже к середине дня он начинает валиться с ног от усталости.
Полковник тоже, судя по всему, провел бессонную ночь. Он был бледнее обычного и очень немногословен. Полковник вручил мне подписанную квартирмейстером заявку, написав на ней название деревни. Я щелкнул каблуками и вышел из кабинета.
Разрешение на сено оттягивало руку, словно я держал не лист бумаги, а камень. Я должен был поехать в деревню и отобрать у крестьян то, что они ценили больше жизни, – сено, корм для их животных. Они могли заупрямиться и не отдать мне сено. Что им какой-то приказ? Но я должен был выполнить распоряжение полковника. Я должен был привезти сено любой ценой, даже ценой жизни, их или моей. Действуя, как действовал капитан Раф, получая резолюцию.
В другое время я с удовольствием выполнил бы подобное поручение, рассматривая его просто как приятную прогулку в деревню. Но в сложившейся ситуации надо было тщательно продумать линию поведения.
По пути в конюшню я встретил Шмиля.
– Задача не из простых, – поделился я с корнетом. – Крестьяне так просто не расстанутся с сеном. Похоже, придется нелегко.
– Я поеду с вами, – загорелся Шмиль.
Он был очень молод, а поход за сеном обещал неожиданные приключения. Он устал отдыхать и мечтал о наступлении, или походном марше, или какой-нибудь поездке. В общем, об активных действиях.
– Отец, у меня есть идея, – подстраиваясь под мой шаг, сказал Шмиль. – Давайте переоденемся. Я уже не помню, когда последний раз надевал парадную форму.
– Не говори глупости, Шмиль. – Я играл роль старшего, умудренного опытом офицера. – Вполне возможно, нам придется провести ночь конюшне. Или в свинарнике. Зачем, скажи на милость, надевать парадную форму?
– Почему бы и нет? Держу пари, мы найдем отличную чистую кровать и прекрасно выспимся. Причем кровать расстелит очаровательная молодая девушка. Ручаюсь, когда она увидит вас в парадной форме, то уложит в наимягчайшую постель, о какой вы не могли и мечтать.
– А как устроишься ты, молодой петушок?
– Меня это не волнует, – весело рассмеялся Шмиль. – Я буду иметь кровать, надену я парадный мундир или нет. Ну, отец, поехали. У нас уже бог знает сколько времени не было никаких поездок. И только одному Богу известно, когда еще появится такой шанс. Может, вообще никогда из-за всей этой ерунды, творящейся вокруг.
Я огляделся. Свежий снег, яркое солнце, белые березы и темно-зеленые сосны в снегу. Небо, высокое, голубое. Какая красота! А главное, веселые, сияющие глаза юноши, корнета Шмиля – романтика и фантазера.
– Черт с тобой! Давай наряжаться.
Я надел темно-синий мундир с пурпурной вставкой на груди, синие бриджи и ярко-красную уланку (фуражку). На подготовку ушло меньше часа. Ординарцы уже поджидали нас с лошадьми.
Стройный как тополь, улыбающийся Шмиль подбежал к нашему дому, не скрывая радости в предвкушении новых впечатлений, и произнес слова, которые на протяжении столетий повторяли польские кавалеристы:
– Бог в помощь, господа уланы!
– Во веки вечные и навсегда, – ответили ординарцы.
Лошади тоже покивали в знак приветствия и получили по куску сахара от меня и Шмиля. Такова была традиция: перед тем как вскочить на лошадь, обязательно дать ей что-нибудь вкусное. Лошади прекрасно знали об этой традиции. Итак, мы вскочили на лошадей и тронулись в путь.
Лошади, моя Зорька, а Шмиля – Звездочка, были в отличной форме. Мы пустили их рысью, и широкий свободный шаг доказывал, что наши лошади любят работать и знают свое дело. Они почувствовали, что предстоит долгая дорога и необходимо беречь силы, но при этом удерживать темп. Это были умные животные. Когда их выводили на тренировочный плац и они часами бегали по кругу, то не видели в этом ничего интересного. И всегда бегали медленно и тяжело. Даже куски сахара не доставляли им особого удовольствия и не стимулировали к старанию. Но сегодня они почувствовали, что предстоит двух-трехчасовая пробежка, и собирались насладиться каждой милей пройденного пути.
Мы быстро проскочили маленький город. Встречные останавливались и провожали глазами несущихся всадников. В основном это были солдаты. Кто-то презрительно оглядывал двух офицеров с ординарцами. Некоторые вслух высказывали восхищение лошадьми. Многие явно недоумевали, откуда появились эти одетые в парадную форму офицеры и что собираются делать. Солдаты, в распахнутых шинелях, в сдвинутых на затылок фуражках, засунув руки в карманы, даже не помышляли о том, чтобы отдавать честь.
Но я не задумывался об этом. Меня не волновало, отдают солдаты честь или нет. Однако Шмиль думал иначе. В очередной раз заметив солдата, не отдавшего честь, он сквозь зубы цедил:
– Сукин сын! Красный! Мятежник!
В этих случаях его лошадь прижимала уши и, скосив на него глаз, словно спрашивала: «Что с вами? Ведь я так хорошо выполняю свою работу». И Шмиль, извиняясь за нервозность, гладил лошадиную шею и нежно шептал ей в ухо: «Не пугайся, Звездочка, все в порядке».
На окраине города располагался учебный плац. Две пехотные роты занимались строевой подготовкой и тренировались в стрельбе из винтовок. Мы решили не объезжать плац, а проехать прямо через него, чтобы внимательно рассмотреть «пыльных пешеходов». Ни мы со Шмилем, ни ординарцы не смогли сдержать смех. Занятия проводили два офицера, каждый со своей ротой. Рядом с офицерами стояли двое штатских, комиссары, в старых, изношенных пальто. Нелепые, жалкие фигуры. Съежившись, обхватив себя руками, они пытались согреться. Комиссары не разбирались в том, что происходило на плацу, и офицерам по ходу занятий приходилось все время давать им пояснения. С какой же целью комиссары присутствовали на плацу? Они следили за тем, чтобы офицеры не применяли неоправданную жестокость по отношению к солдатам и не гоняли их по пустякам. Иногда офицеры были безжалостны, особенно с новобранцами, которые не знали даже, где лево, где право.
Но то, что происходило на плацу, выглядело по меньшей мере нелепо. Офицер отдавал команду; солдаты лениво исполняли. Офицер приказал стрелять с колена. Солдаты медленно опустились на колено, а некоторые, словно герои фарса, расстелив шинели для большего комфорта, опустились на них. Офицеру потребовалось много времени, чтобы объяснить комиссару необходимость этого упражнения.
Мы остановились поблизости, чтобы послушать их разговор.
– Зачем вы заставляете солдат стрелять с колена? – спросил комиссар. – В современной войне солдаты воюют в окопах, где могут стоять в полный рост. В наступление они тоже идут в полный рост или передвигаются ползком. Опытные солдаты сказали мне, что никогда не стреляли с колена… Это бессмысленная тренировка… Толку никакого, а солдаты устают…
Солдатам надоело стоять на одном колене в снегу. Кто-то опустился на оба колена, некоторые сели в снег, а кто-то вообще встал.
– Солдат обязан уметь обращаться с винтовкой в любом положении и в любых обстоятельствах, – начал объяснять офицер. – В военном училище мы…
– Это консервативная точка зрения, товарищ офицер, – перебил его комиссар.
– А как же инструкции?
– Что для вас важнее, люди или правила?
– Люди, которые выполняют правила.
– Нет. Люди, у которых хватает ума, чтобы не придерживаться дурацких правил и инструкций.
Пока длился этот разговор, некоторые солдаты продолжали оставаться на коленях, терпеливо дожидаясь окончания спора. А вот наши лошади стали выражать нетерпение. Прежде чем я понял, что происходит, Шмиль подъехал к комиссару. Корнет явно задумал какую-то шалость.
Он отдал честь комиссару и серьезно сказал:
– Имею честь обратить ваше внимание, что наши лошади ведут себя плохо, роют копытами землю и будет неразумно заставлять драгоценную пехоту маршировать по этой грязи.
После этих слов он пришпорил лошадь и поскакал вперед. Мы следом за ним.
Город остался позади. Мы скакали по холмам и полям, мимо деревень и поселков. Мы наслаждались свежим, чистым воздухом. Нас радовало абсолютно все: быстрая езда, прекрасная погода. Мы улыбались встречным людям, и они останавливались и смотрели нам вслед. На фоне белого снега мы казались им, вероятно, яркими, экзотическими птицами. Я не жалел, что, послушав совета Шмиля, надел парадную форму. Внезапно Шмиль придержал лошадь. Мы последовали его примеру. Перед нами был небольшой хутор. У дверей жилого дома стояли три молодые девушки. Мы замедлили шаг, давая им возможность восхититься бравыми уланами.
– Бог в помощь, – улыбаясь, сказал Шмиль.
– Мы не работаем, так почему же Бог должен нам помогать? – засмеялись девушки.
– Что ж, мы можем заставить вас поработать.
– Нет, не сможете. Мы убежим от вас.
– А мы вас поймаем: у нас быстрые лошади.
– Но вы не сможете поймать нас в доме.
– Но вы же не выгоните нас из дома. Это будет неучтиво с вашей стороны.
– Нет, мы не выгоним вас, но не будем разговаривать.
– А я и не прошу вас разговаривать со мной.
– Что же вам тогда надо?
– Может, только поцелуй.
– Но зачем тогда заходить в дом?
Девушки рассмеялись, довольные своей смелостью.
Шмиль, сидя в седле, наклонился к прелестной черноглазой девушке:
– Отлично, давайте…
Ему не удалось закончить фразу, как девушки упорхнули в дом.
– Никогда не говори с девушками о поцелуях, Шмиль, просто целуй их, и все.
– Да ладно. Не получилось с этими – получится с другими. Поехали.
Мы тронули поводья.
– Подождите! – раздался звонкий крик.
Одна из девушек стояла в открытых дверях и призывно махала нам рукой. Мы повернули обратно. Девушки вышли из дома, держа в руках кувшин с теплым молоком и несколько кусков пирога с капустой.
– Это чтобы вы не думали, что мы незнакомы с законами гостеприимства, – сказала черноглазая.
Мы спешились и вчетвером быстро расправились с молоком и пирогом. Мы разделили с ординарцами все, кроме сладкого. А на сладкое мы вырвали у девушек поцелуи. Перед тем как отъехать, Шмиль спросил у черноглазой:
– Ты так мила со всеми проезжающими мимо незнакомцами?
– О, конечно нет. Вы первые революционные солдаты, появившиеся у нашего дома, и мы не могли не оказать вам должного приема.
– Почему вы решили, что мы революционные солдаты?
– Но на вас же красные фуражки!
Пришла моя очередь смеяться над Шмилем. Даже лошади смеялись над корнетом. Но надо признать, что он сам громче всех смеялся над собой. Мы уже давно отъехали от дома, а Шмиль все никак не мог успокоиться.
Мы быстро проскочили замерзшую речушку и въехали в красивую березовую рощу. Ветер шумел в ветвях, и стволы деревьев, покачиваясь, скрипели, словно переговаривались друг с другом.
Неожиданно сквозь шум деревьев до нас донеслись звуки песен. Разных песен, на незнакомых языках.
В просветах между деревьями мы увидели военнопленных, валивших лес. Три немолодых солдата-резервиста охраняли порядка трехсот человек. Здесь были венгры и австрийцы, тирольцы и хорваты, несколько немцев. Они переговаривались, пели и спорили, взбудораженные политическими новостями, которыми их снабжали крестьяне. Наступил полдень, и я предложил Шмилю немного передохнуть.
Мы спешились. Ординарцы привязали лошадей и задали им корм, а мы из-за деревьев стали наблюдать за работой военнопленных.
Я хорошо видел, насколько разным было выражение их лиц. Бесконечно грустное у тех из них, кто никак не мог поверить, что оказался в плену. Веселое у тех, кто чувствовал себя свободным как птица. Маленького роста кривоногий австриец разливался йодлем [15]15
Йодль – петь с переливами на тирольский лад (нем.), жанр народных песен у альпийских горцев (в Австрии, Швейцарии, Южной Баварии), с рефреном в форме вокализа, который исполняется в своеобразной манере на одних гласных с характерным частым и резким переходом из низкого грудного регистра в головной (фальцет).
[Закрыть].
Пожилые русские солдаты, незнакомые с йодлем, от хохота уже не могли удерживать в руках винтовки и положили их в снег. Каждые пять минут австриец исполнял два куплета на немецком, а затем в полную силу легких пел йодлем, снова и снова, вызывая у русских солдат приступы гомерического хохота. Думаю, что солдаты развлекались таким образом с раннего утра.
Итак, здесь были люди с грустным выражением лица, с веселым, а были и те, кто старался, несмотря ни на что, выполнять порученную работу, пытаясь оправдать свое существование перед лицом катастрофы. Один из них, типичный немецкий учитель, в очках, с бородкой, объяснял военнопленным, как следует рубить деревья и как по виду ветвей можно определить состояние ствола. Меньшинство составляли люди, выглядевшие слабыми и больными, мрачные и молчаливые. Они работали словно роботы, автоматически, крякая с каждым поднятием топора. Военнопленные не обращали на нас никакого внимания, за исключением нескольких, которые что-то пробормотали в отношении нашей формы. Насколько я разобрал, это были весьма саркастические замечания.
Поблизости расположилась полевая кухня. Варились гречневая каша и суп, в котором, судя по запаху, присутствовало большое количество картошки с капустой и незначительное количество мяса. Повар, на каждой руке у него было всего по три пальца, резал хлеб, одновременно следя за готовностью каши и супа. Наблюдая за действиями повара, я решил, что нет ничего странного в том, что у него осталось только шесть пальцев на руках. Он мешал гречку, пробуя ее на вкус, по мере необходимости добавляя соль или воду. И тут же переключался на хлеб, причем ему требовалась в этом деле определенная сноровка: каждому заключенному полагался фунт хлеба, ни больше ни меньше.
Вскоре охрана начала бросать страдальческие взгляды в сторону большого котла. Дело близилось к двум часам дня. Наконец повар ударил поварешкой по пустому котлу – сигнал к обеду. Все медленно, с достоинством прекратили работу. Многие обтерли руки и лица снегом. Размеренными шагами, осознавая важность получасового отдыха, охрана и военнопленные двинулись к кухне. Выстроилась длинная очередь; на каждую пару военнопленных полагался котелок еды.
Люди хранили ложки или за голенищем сапога, или в кармане. В основном деревянные, но можно было заметить и настоящие металлические ложки, захваченные из дома. Ложка была единственной личной вещью, оставшейся у этих бедолаг после того, как они попали в плен. После еды ложку протирали снегом, тщательно, аккуратно, словно лаская пальцами с намертво въевшейся грязью. Ложка оставалась связующим звеном между пленными и домом.
Несколько мужчин не участвовали в общей трапезе. Они бесцельно бродили вокруг, время от времени бросая взгляд на дорогу. Наконец на дороге появились запряженные лошадью сани, в которых сидели две женщины и лежало несколько мешков с зерном.
Спустя несколько минут на дороге появилось еще несколько женщин с бидонами в руках. Они направились к пленным, отказавшимся от обеда. Обнявшись и обменявшись поцелуями, женщины открыли бидоны, в которых принесли еду для австрийцев, хорватов и немцев. Я решил узнать, почему русские женщины приносят еду военнопленным.
Не все из этих женщин были замужем, а замужние не видели своих мужей четыре года. Вполне возможно, что их мужей уже не было в живых, а может, они попали в плен. Молодых мужчин, похожих на их ушедших на войну мужей, поселили к ним в дома. Спустя какое-то время они стали жить как мужья с женами, особенно в тех случаях, когда пленный охотно брал на себя мужскую часть работы по дому. В деревне находились люди, в основном священники, возражавшие против такого образа жизни, но простые люди относились с пониманием к таким парам.
Надо сказать, что среди военнопленных тоже находились противники подобных отношений. «Патриоты», которые за тысячи миль от фронта продолжали войну…
Русские женщины, имея детей от законных мужей, часто рожали детей от военнопленных. «Что же будет, когда вернется муж? Тогда этому придется уйти?» – задавали себе вопрос женщины.
Но пока жизнь продолжалась. Дом был в исправном состоянии. Удавалось вырастить хлеб и овощи. Зимой никто не голодал. Дети рождались в тех же муках, что и от законных мужей, и были не менее дороги, чем законные дети.
Я тайком наблюдал за этими парами. Мужчины, удобно усевшись на стволы поваленных деревьев или пеньки, ели, а перед ними стояли женщины, наблюдая, как едят их временные мужья. Их общение нельзя было назвать разговором. Женщины задавали простые вопросы относительно домашних дел и внимательно выслушивали ответы на ломаном русском языке, глядя на мужчин так, как могут смотреть только влюбленные женщины.
Наблюдая за обедом военнопленных, мы начали испытывать легкое чувство голода. Мы не взяли с собой никакой еды, а куски пирога с капустой, которыми нас угостили очаровательные девушки, вряд ли можно было засчитать за полноценный завтрак. Мы с завистью поглядывали в сторону полевой кухни, и тут в нашу сторону направился высокий сутуловатый мужчина, удивительно напоминавший знаменитого героя Сервантеса Дон Кихота. В одной руке он нес котелок с горячим супом, в другой – с гречневой кашей. На чистом французском языке он поинтересовался, не хотим ли мы пообедать.
На его форме не было никаких знаков различия. Если я не ошибаюсь, он был рядовым, добровольцем. Его безупречный французский произвел на нас огромное впечатление. Мы поблагодарили за обед и пригласили разделить его с нами. Наш новый друг опять сходил на кухню и принес две чистые ложки и три куска хлеба. Втроем мы с удобством расположились на поваленном стволе дерева.
За обедом новый знакомый рассказал нам свою историю. Он был профессором по классу скрипки в Венской консерватории. Перед войной давал концерты в Берлине, Вене, Будапеште, Париже. Был мобилизован, а за несколько месяцев до войны женился. Ему дали трехдневный отпуск, и на Рождество он приехал домой. В первый же день узнал, что жена ему изменяла. Не желая оставаться дома, он провел два оставшихся от отпуска дня в винных кабачках Вены и допился почти до невменяемого состояния. В последнем кабачке он затеял спор и стукнул зажатым в руке стаканом об стол. Стакан разбился, и осколок стекла перерезал сухожилие. Теперь он уже никогда не мог играть на скрипке.
Он не хотел идти домой и вернулся в полк. С тех пор он не желал ничего знать о своей жене. Отказался от отпуска. Отдал скрипку и решил стереть всякую о себе память с лица земли. Как-то ночью он надел белый маскировочный халат, перешел линию фронта и сдался русским, предварительно выкинув свой личный (идентификационный) знак. Таким образом он «исчез», и теперь никто не знал, где он и что с ним.
Не знаю, почему скрипач решил рассказать нам свою историю. Возможно, ему хотелось поделиться своей тайной с совершенно незнакомыми людьми, которых он видит первый и последний раз. Я засыпал его вопросами. Он охотно отвечал, наслаждаясь беседой. Впервые за долгие годы он имел возможность откровенно поведать о своей судьбе. Слегка задумчивая улыбка блуждала по его лицу, когда он рассказывал нам свою трагическую историю. Ни тени страдания или боли. Я решился спросить его о музыке.
– О, музыка всегда со мной. Она звучит во мне, и только теперь я стал настоящим музыкантом.
Я спросил, не нуждается ли он в деньгах и не надо ли ему что-нибудь прислать. Его отказ прозвучал совершенно искренне. Даже на Шмиля этот человек произвел неизгладимое впечатление. На всякий случай, если ему вдруг что-нибудь потребуется, мы оставили свои адреса.
– Такие люди не должны идти на войну. Они не могут быть солдатами, – философски заметил Шмиль, после того как мы попрощались с новым знакомым.
После еды мы почувствовали себя значительно лучше. Лошади, похоже, тоже остались довольны отдыхом. Мы вскочили на лошадей и тронулись в путь. Почему мы спокойно провели час с врагом и он не только накормил нас, но даже поделился своей сердечной тайной? Почему мы испытывали такое дружеское, такое теплое расположение друг к другу? Разве мы не находимся в состоянии войны с этими людьми?
Словно услышав мои мысленные вопросы, Шмиль резко остановил лошадь и сказал:
– Знаете, я бы не мог воевать с этим австрийцем, даже ради спасения собственной жизни. Ответственно заявляю.
Я вопросительно посмотрел на него.
– Поехали, – резко сказал Шмиль и стегнул коня.
Очень долго мы скакали в полном молчании.








