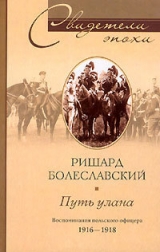
Текст книги "Путь улана. Воспоминания польского офицера. 1916-1918"
Автор книги: Ришард Болеславский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Ну что вы, – глядя на меня круглыми глазами, ответил Вацек, – я отлично чувствую себя за вашей спиной и не понимаю, зачем что-то менять. Вот если подвернется нечто лучшее, тогда посмотрим. Пока я доволен своим хозяином. Еще вопрос, каким будет новый.
Я чувствовал, что ничего не соображаю. Может, я резко поглупел? Тогда я стал прикидывать. Как следует вести себя во время революции? Надо или нет обмениваться рукопожатиями со своим ординарцем? Как будет расценен подобный жест с моей стороны? Я мысленно перебрал всех известных мне французских революционеров, безуспешно пытаясь понять, как мне теперь себя вести, к кому примкнуть.
Честно говоря, я позавидовал ограниченному Вацеку, который так просто сформулировал свою позицию. «Пока я доволен своим хозяином. Еще вопрос, каким будет новый».
Вся проблема заключалась в том, что я не осознавал, что раньше у меня был хозяин, а теперь я не хотел иметь хозяина. В то же время я понимал, что тот, кто не признает хозяина, погибнет в приближающейся катастрофе.
Глава 8
ПРИКАЗ ЗА НОМЕРОМ ОДИН
Позже в то утро погода резко изменилась. Сильный ветер с юга принес дождь со снегом; по дорогам неслись потоки мутной воды. Низкие, тяжелые облака стремительно летели над землей, и казалось, что, пролетая над казармами, они задевают сторожевую башню над главным корпусом, грязно-желтую, под цвет несущихся облаков. Это грязно-желтое здание, мрачное при свете дня и производящее угрожающее впечатление в сумерках, словно пропиталось обрушившимся на него мокрым снегом.
Ветер, как ни странно, теплый, сильный, налетавший порывами, крутил облака, отбрасывая их в основном на север. Правда, наблюдая за небом, вам никогда бы не пришло в голову, что ветер гонит облака на север. Казалось, что ветер то закручивает облака в бесконечном хороводе, то прижимает их к земле и облака, встретившись на полпути к земле с огромной стаей ворон, словно поднятые на крыльях птиц, внезапно взмывают вверх. По опустевшим улицам брели сумрачные тени в серых шинелях, с серыми лицами, и, как и облака, они двигались в одном направлении, в сторону пехотных казарм.
Ветер подталкивал бредущих по улицам людей в спины, и те невольно ускоряли шаг. Временами, поменяв направление, ветер дул в лицо, словно пытаясь остановить их направленное движение. Солдаты поворачивались спиной к ветру и непослушными от холода руками прижимали полы взлетавших шинелей. Неожиданно ветер налетал сбоку, выдавливая солдат с тротуара на проезжую часть, по которой неслись мутные потоки воды. Борьба с ветром отнимала много сил, но промокшие, одуревшие от ветра, дождя и снега люди упорно двигались в намеченном направлении.
Как облака, не обращавшие внимания на изменчивое настроение ветра, стремились на север, так и солдаты медленно и упорно двигались к цели – пехотным казармам.
В огромный зал, вмещавший гарнизон, набилось порядка пяти тысяч человек. Артиллерийская дивизия, два пехотных полка, рядовые инженерных войск, штабные писари, гражданские лица. У казарм стояли толпы людей, наблюдавших за происходящим и обменивающихся новостями.
Наш полк, единственный из всех воинских формирований, прибыл на митинг в боевом порядке. Мы остановились перед входом, полковник развернулся лицом к полку и оглядел уланов. Все застыли по стойке «смирно». Смолкли разговоры, и толпа с интересом смотрела на нас. Неожиданно раздался громкий голос:
– Вы все еще играете в войну, товарищи? Пора бы уже прекратить.
– Уланы! Через левое плечо кругом! – резко, словно удар хлыстом, прозвучала команда полковника.
Полк четко выполнил команду.
– Уланы! Через левое плечо кругом! – после короткой паузы скомандовал полковник.
Мы выполнили команду.
– Благодарю, мальчики.
Двести воинов, объединенные общим чувством понимания своего командира, который всегда шел впереди и был лучшим из них, отдали ему должное, прокричав в едином порыве, и крик этот был как удар молота, как мощный удар грома:
– Рады стараться, господин полковник!
– Разойдись! – скомандовал полковник и твердым шагом направился к входным дверям.
Волны тошнотворного запаха, исходящего от возбужденных человеческих тел, влажных шинелей и гимнастерок, хлынули на нас при входе в зал. Нас встретил нервный, нетерпеливый гул собравшихся на митинг людей.
Вот она, революция. Взрыв. Энергия, вырвавшаяся от удара кулака сумасшедшего.
Все эти усталые люди, прежде вялые и невыразительные, внезапно оказались в середине ревущего потока, прорвавшего плотину. Они не разговаривали; они кричали. И крики эти включали всего три-четыре слова.
В противоположном от входа конце зала находилась импровизированная трибуна. На ней роились представители социалистов. Громко разговаривая, раскладывая бумаги, отдавая распоряжения, они не сводили глаз с угла помещения, где стояла группа офицеров из разных полков. Они стояли вместе, понурые, словно в чем-то виноватые. Как обреченные.
Подсознательно офицеры чувствовали опасность и собирались в одном месте. Они могли бы уйти, но, будто попавшие под гипноз, оставались на месте. Солдаты же, обретя свободу, напротив, прогуливались мимо офицеров с независимым видом. Уже сформировались две фракции: «белоручки» и «мозолистые руки». Глядя друг другу в глаза, они понимали, что только смерть может рассудить их.
Офицеры в основном молчали. Солдаты, стараясь перекричать один другого, помогали себе еще и жестами. Толкались, обнимались за плечи, хватали друг друга за руки, за грудки. Разгоряченные, вспотевшие, в расстегнутых шинелях и гимнастерках, эти солдаты, долгое время сдерживавшие свои эмоции в рамках воинской дисциплины, почувствовали себя свободными.
Да здравствует свобода! Долой дисциплину! Почти все солдаты, в нарушение устава, набросив шинели на плечи и сдвинув фуражки, курили.
Угрожающий шум толпы напоминал рев водного потока, стремящегося пробить выросшую на его пути преграду. Словно океанская волна, налетевшая на волнорез, в бесплодной попытке пытающаяся сокрушить камень.
Но вот на трибуну поднялся солдат. Он возвышался над толпой, но, вероятно, ему показалось этого мало. Он что-то сказал стоящим вокруг него. Солдату передали стул, и теперь он абсолютно главенствовал над толпой.
Он заговорил, но его голос потонул в шуме. Однако его это не остановило. С разинутым ртом, размахивающий руками, красный от напряжения, он напоминал Петрушку из ярмарочного балагана.
– Молчать! Тишина! Поддерживать революционный порядок! Товарищи, сохраняйте дисциплину!
Шум постепенно стихал, и мы стали слышать оратора, утвержденного политическим комиссаром военного округа. Он объяснил, что означает отречение императора. Зачитал первый приказ Временного правительства, подписанный Керенским, приказ, который предоставлял свободу солдатам воюющей армии. Приказ льстил солдатскому самолюбию и умалял офицерское достоинство. А по сути этот приказ уничтожил армию, дал выход личной мести, развязал гражданскую войну.
Приказ номер один преследовал ту же цель, что французская Декларация прав человека и гражданина [13]13
Декларация прав человека и гражданина – программный документ Великой французской революции, провозглашавший ее основные принципы; декларация утверждала свободу личности, свободу совести, слова и печати, право петиций, право собраний и право на восстание против правительства, нарушающего права народа, и т. д.
[Закрыть].
Свобода личности – отлично. Политическая свобода – замечательно. Мир – превосходно. Но первыми последствиями приказа номер один стали расстрелы и убийства офицеров солдатами. Не обращая внимания на военные приказы, воюющая армия прекратила существование.
Правительство Керенского попыталось исправить положение, выпустив дополнение к приказу. Но было уже поздно.
Русские люди, потерявшие все, многое могли простить вождям революции, но никогда не простили тех, кто подписал этот истеричный, неразумный и трусливый документ, приказ за номером один.
Спустя несколько лет Керенский выступал в Нью-Йорке. После выступления к нему подошла женщина с букетом цветов. Глядя в глаза Керенскому, она дала ему сильную пощечину.
– За приказ номер один! – бросив букет на пол, крикнула она.
Одна пощечина за сотни и сотни офицеров русской армии, принявших мученическую смерть.
Итак, комиссар пытался разъяснить этот приказ пятитысячной беспорядочной толпе, собравшейся в зале. Увы, все было тщетно. Эти люди уже сами объяснили его так, как им этого хотелось.
– Долой войну!
– Долой офицеров!
Выступление комиссара затягивалось. Каждый раз, когда он не знал, что сказать, комиссар начинал выкрикивать революционные лозунги:
– Да здравствует народ! Вся власть народу! Долой буржуазию! Долой защитников старого режима!
Толпа отвечала одобрительными воплями. Комиссар был настроен абсолютно радикально. Он выступал не только против императора и аристократии, но и против Временного правительства.
Я впервые слушал выступление коммуниста. Его интерпретация приказа делала этот документ наиболее удобным оружием для осуществления победы коммунистической партии. Придя к власти, коммунисты отменили приказ и установили другой, жестокий порядок.
– Солдат имеет равные гражданские права с офицером, – объяснил оратор и следом выкрикнул: – Солдат имеет право делать все, что захочет, когда не находится при исполнении обязанностей!
Толпа взревела от восторга.
Свобода!
Свобода!
Эти уставшие от войны, измученные, голодные люди однозначно поняли: солдат имеет полное право делать, что пожелает, и никто не может его за это арестовать.
Время было военное, а война является благодатной почвой для развития всех видов человеческих пороков.
Одним махом были уничтожены все препятствия; можно было грабить, насиловать, убивать.
Солдаты уже представляли, как распорядятся предоставленной свободой.
– Долой армию! – неистовствовала возбужденная толпа.
– Конец войне!
– Долой приказы!
Благосклонно выслушав призывные лозунги, комиссар продолжил выступление:
– Будут сформированы солдатские комитеты. Они получат право осуществлять контроль за всеми военными операциями.
Эти слова были встречены бурей восторга.
Солдаты испытывали катастрофическую нехватку боеприпасов и оружия. Бессмысленные переброски войск, которые, вероятно, были частью стратегии, солдаты относили за счет тупости высшего командования. На третьем году войны девяносто процентов армии составляли непрофессионалы. Офицеры отдавали приказ перейти в наступление. Их приказы заставляли солдат страдать. Значит, на совести офицеров раненые и убитые солдаты.
– Долой офицеров!
– Пусть объяснят нам, почему мы должны воевать, ходить в атаку, страдать, погибать. Дайте нам право управлять ими.
– Правильно, товарищи! – закричал комиссар. – Требуйте свои права. Теперь вы можете проверять любой приказ. Вы можете спросить: «Нам действительно нужно нападать на немцев или австрийцев? Нам нужно страдать и умирать? Мы должны заставить их страдать и умирать? Нам действительно это надо или просто кто-то хочет получить очередные награды и звания?»
Толпа пришла в исступление. Потрясая кулаками, солдаты выкрикивали охрипшими голосами проклятия. Кто-то карабкался на спины товарищей, чтобы увидеть офицеров, зажатых толпой в дальний угол зала.
Комиссар был отъявленным демагогом. Когда он закончил выступление, солдаты, находившиеся на грани безумия, устроили ему овацию.
Офицеры, бледные и молчаливые, застыли отдельной группой. Тридцать шесть часов назад на ужине в кадетском корпусе они в состоянии практически такого же психоза выкрикивали: «Да здравствует император!» Почему же они молчали сейчас? Что заставило их побледнеть? Нет, причина заключалась не в страхе или трусости: они не раз встречались со смертью. Дело было не в отсутствии преданности: позже многие из них погибли, не давая «мозолистым рукам» сорвать шевроны.
Это необъяснимая магия революции. Спокойствие людей, пребывающих в нервном возбуждении, которое намного страшнее криков и истерики. Спокойствие, приходящее, когда тело прощается с духом.
После комиссара на трибуну поднялся начальник гарнизона. Этот пожилой человек получил приказ оставаться на посту. Никогда прежде он не выступал перед такого рода аудиторией. Со страхом оглядывая зал, он дрожащим голосом объявил, что в соответствии с приказом из Петербурга гарнизон должен принести присягу новому правительству. Закончив речь, начальник гарнизона отдал честь и спустился с трибуны.
Никто не обратил на него никакого внимания. Его просто не слушали. Теперь солдат не интересовала никакая присяга.
На трибуне появилась новая фигура, артиллерийский капитан, подтянутый, с бритой головой и круглым, добродушным лицом. Он имел обыкновение теребить небольшую бородку, подбирая нужные слова. Человек, безусловно, образованный, обладавший индивидуальностью.
– Не теряйте головы, солдаты, – уверенно заговорил он. – Во времена, подобные этому, лучше всего самым тщательным образом продолжать выполнять свои обязанности и следить за развитием событий.
По толпе прокатился глухой ропот, и кто-то выкрикнул:
– Моя обязанность – следить за тобой, ты, кровопийца!
Капитан повернул голову в направлении крикуна и, резко побледнев, выкрикнул в ответ:
– Я не больший кровопийца, чем ты, подлец!
В адрес капитана раздались угрозы. Поднялся комиссар и, подняв руку, сказал:
– Тихо, товарищи. Дайте представителю буржуазии объясниться. Соблюдайте революционный порядок, товарищи.
– Я не являюсь представителем буржуазии, – категорически заявил капитан. – Я выходец из народа и только себе обязан теперешнему положению. Я знаю вас, солдаты, а вы знаете меня. Мы вместе прожили эти четыре года, и хочу сказать, что вы здравомыслящие люди и отличные солдаты. Вы должны отдать должное своей судьбе, ведь это ваша судьба. Вы оказались участниками великих событий. Тщательно обдумывайте свои действия, чтобы донести до потомков историческое значение этих дней.
Солдаты, изменив отношение к оратору, начали вслушиваться в его слова. Капитан приобрел власть над толпой. Его напевная манера речи, выдававшая москвича, успокаивающе подействовала на солдат. Он являл собой прекрасный пример патриота. Капитан говорил о России, о чести и достоинстве русской армии. Сейчас нельзя закончить войну, заявил капитан, это запятнает честь нашей армии.
Вот тут он совершил ошибку. Толпа с удовольствием слушала о собственном величии и принадлежности к истории, но слова о продолжении войны были встречены бурей возмущения. Раздались крики:
– Офицерские речи!
– Сам воюй, сучий сын!
– Хочешь наград? Мы вручим тебе деревянный крест!
– Долой войну!
– Белоручка!
– Монархист!
– Как только царь сложил полномочия, я перестал быть монархистом, – перекрывая голоса из толпы, крикнул капитан. – Я имею собственное мнение. Меня заботит только честь и величие России, той России, которая теперь принадлежит вам. Поймите, солдаты, Россия, наша любимая родина, теперь принадлежит вам!
Его искренние чувства захватили бурлящую массу. Его опять стали слушать, и он продолжил борьбу.
Один против пяти тысяч.
– Солдаты! – вскричал капитан. – Я прошу, я умоляю вас, оставайтесь такими, какими были до сих пор. Героической русской армией, преданными сыновьями огромной страны, теперь свободными.
Он почти победил, поскольку умел договариваться с солдатами. Когда капитан покинул трибуну, несколько офицеров бросились к нему, приветственно размахивая руками.
Однако у радикалов, стоявших рядом с трибуной, его речь не вызвала одобрения. Несколько одетых в гражданскую одежду мужчин и женщин, по всей видимости члены социалистических организаций, выкрикивали вслед капитану гневные слова. Для них он был и остался «проклятым, кровавым офицером». Они успокоились только тогда, когда капитан смешался в толпе с другими офицерами.
На трибуну поднялся следующий оратор. Сорокапятилетний пехотный унтер-офицер, похожий на Николая II, только выше ростом и шире в плечах. Его грудь украшали Георгиевские кресты всех степеней и много других воинских наград. Белый как мел, он начал свое выступление с предложения, которое навсегда врезалось в мою память.
Его поставленный голос, которым унтер-офицер обычно отдавал команды, перекрыл стоявший в зале шум:
– Офицеры и солдаты! Я дал присягу на верность его императорскому величеству Николаю II. Тридцать лет я служил своему отечеству верой и правдой. Я не отступлю от данной присяги. – Он выдержал паузу и, резко наклонившись вперед, прокричал: – Вы – мерзавцы, трусы, предатели! Бунтовщики, которые должны быть расстреляны без суда и следствия…
Резкий крик пробежал по толпе. Радикалы окружили трибуну, пытаясь стащить с нее оратора. Унтер-офицер отбивался от них словно волк, окруженный стаей собак.
Он должен был выдвинуть обвинения, защитить трехсотлетнюю историю России, объяснить политические репрессии и отчитаться за всех, погибших на войне. Он отчаянно пытался найти слова, а когда не находил их, кричал: «Трусы, предатели!»
Со всех сторон к трибуне стали стекаться радикалы. Они прокладывали путь в толпе, и она раскачивалась вправо, влево, взад, вперед. Так ведут себя собаки, идущие по следу волка.
– Тише! Тише! – размахивая шляпой, закричал господин в гражданском платье, до этого спокойно сидевший на помосте за трибуной.
В заполненном солдатами зале этот человек выглядел довольно нелепо в своем старомодном пальто, под которым виднелась мятая рубашка без пуговиц, и в пенсне. В одной руке сжимая шляпу, а в другой стопку каких-то документов, он нелепо размахивал руками, напоминая огородное чучело на ветру. С бешеной скоростью из его большого рта вылетали односложные предложения. Выкрикнув несколько слов, он замолкал, оглядывая толпу. А затем повторял эти слова снова и снова.
– Этот человек шпион! Этот человек шпион! Шпион! Шпион! Шпион! – твердил он словно в горячечном бреду. Немного помолчав, он быстро и взволнованно заговорил, по нескольку раз повторяя каждую фразу: – У партии есть неоспоримые доказательства! Этот человек шпион! Он работает на полицию! Он доносил на солдат, которые не поддерживали монархистов! По его доносам арестовывали людей! Честных людей приговаривали к каторжным работам! Их отправляли в дисциплинарные батальоны! Он один из тех, кто заставляет страдать Россию!
Постепенно его голос становился тверже. Теперь, уверенный, что услышан толпой, он повернулся к унтер-офицеру и прокричал эти обвинения тому в лицо, словно это была личная ссора.
– Дезертир! Дезертир! – выкрикнул в ответ унтер-офицер.
Вероятно, унтер-офицер решил, что этот одетый в штатское человек был солдатом, а потом дезертировал из армии, скрывался и сейчас открыто появился на митинге.
– Именем революции, приказываю арестовать этого человека, – завизжал гражданский чин. – Требую судить его революционным судом. Он – убийца людей и свободы!
Прокричав эти слова, он протянул руку к плечу унтер-офицера, чтобы сдернуть эполет. Одним ударом унтер-офицер столкнул его с трибуны в толпу. Его тут же подняли и поставили обратно. Со всех сторон на помост полезли солдаты. Скрутив унтер-офицера, они сбросили его с трибуны в ревущую толпу. Он яростно отбивался и кричал. Со всех сторон на него сыпались удары, но он, отбиваясь, продолжал выкрикивать оскорбления.
Унтер-офицер стоял, прижавшись спиной к помосту и отбиваясь от наседавшей на него толпы. С него сдирали награды, пинали, били кулаками по лицу.
Трое с помоста, схватив унтер-офицера под мышки, втянули его на пост. Он уже не мог стоять и упал на колени.
Его лицо было залито кровью. Он бессмысленно поводил поднятыми руками, словно пытался осенить себя крестным знамением. С усилием шевеля губами, он все еще произносил какие-то слова, но они тонули в реве многотысячной толпы. Кровь пузырилась у него на губах. Кто-то сильно толкнул унтер-офицера в спину, он упал навзничь, и его столкнули с помоста. Больше он уже не поднялся с пола. Все было кончено.
Гражданский чин взял себя в руки и продолжил прерванную речь. Сам он не принимал участия в драке и теперь даже не упомянул о человеке, только что растерзанном многотысячной толпой. Он принялся рассказывать о развитии социалистического движения в мире и о способах предотвращения будущих войн. Он говорил о мире и установлении рая на земле.
Полагаю, что в те минуты свершившееся на моих глазах убийство и речь этого оратора сделали из меня белого.
В какой-то момент наш полк постепенно собрался в одном углу зала.
– Мы все же поляки. А это дело русских, – спокойно говорил полковник уланам и офицерам. – Почему мы должны принимать участие в их делах? Мы давали присягу императору. Он передал империю Временному правительству, и наш долг – повиноваться приказам Временного правительства. То, что происходит в этом зале, не может происходить ни по чьему приказу. Я не останусь здесь, и это касается всех уланов.
Мы стали переходить от улана к улану, передавая им слова полковника. Вскоре мы уже стояли все вместе.
– Мы поляки и не хотим иметь никакого отношения к тому, что здесь происходит, – вынесли вердикт уланы.
Пока мы совещались, в зале произошло событие, само по себе несущественное, но оказавшее огромное влияние на решение уланов.
На трибуну поднялась женщина.
Ее голос, платье, еврейский акцент, излишняя нервозность и монотонно-истеричная манера чтения заранее подготовленного доклада – все это произвело на нас странное впечатление. Увидеть женщину здесь, в этом зале, после всего, что произошло, было столь невероятно, что в первый момент я решил, что просто брежу.
Женщина говорила в основном о правящем классе Российской империи и представителях этого класса, офицерах. Теперь уже она объясняла, почему офицеры хотят воевать, а солдаты не хотят этого делать. Она не использовала бранные слова, но ее выступление было пропитано такой ожесточенной ненавистью, какую можно было ощутить только на основании собственного страшного опыта. Она кричала, как ее после ареста подвергали мучительным пыткам и побоям, а в 1905 году отправили в ссылку.
Словно капли яда, ее гневные речи медленно отравляли солдатский мозг. Я увидел, как головы присутствующих постепенно стали разворачиваться в ту сторону, где стояли офицеры. Женщина призывала арестовать и уничтожить всех офицеров. В противном случае война будет продолжаться и истребит всех солдат.
Она разжигала ссору. И без того возбужденные, солдаты были готовы к новому убийству. Снова толпа начала раскачиваться, постепенно сжимаясь и двигаясь, словно змея, изготовившаяся к прыжку, в сторону группы офицеров. Наблюдая за этим страшным зрелищем, каждый из них задавал себе вопрос: «Кто следующий?»
Женщина говорила и говорила. Ее гипнотическое воздействие на толпу, казалось, вдохновляло ее, и уже ничто не могло остановить ее, даже следующее убийство.
Неожиданно Шмиль, наш молодой корнет, подошел к полковнику, щелкнул каблуками, отдал честь и спросил:
– Господин полковник, разрешите отдать команду моему эскадрону?
– Если сможете, – пожал плечами полковник, – отдавайте.
Шмиль выхватил саблю из ножен и закричал звонким голосом:
– Второй эскадрон польских улан, стройся!
Это были первые слова, которые оказали такое же воздействие, как глоток свежего воздуха, как глоток холодной воды на умирающего от жажды. Уланы молниеносно выстроились вдоль стены справа от Шмиля. Его команда подала пример всем польским офицерам: они прокричали команды своим эскадронам.
Полк построился за несколько секунд.
– Сабли из ножен! – скомандовал полковник.
Как один человек, полк выхватил двести пятьдесят сабель из ножен и положил на плечо.
– Полк, по трое налево! Вперед марш!
Чеканя шаг, звеня шпорами, полк: польских улан двинулся к выходу.
Нам надо было пройти через весь зал. Неожиданно я понял, что женщина замолчала. Мы шли в полной тишине под пристальным взглядом грозной толпы. Казалось, одно неверное движение, и обезумевшая толпа набросится на нас. Но каждый из нас понимал, что только собственное спокойствие и уверенность могут спасти нас. Мы прошли к выходу.
В дверях стоял капитан Бас. Он пришел в казарму один и не подходил к уланам во время митинга. Теперь ему не было места в полку.
Он бросил жребий и встал на сторону революции. Полк проходил мимо, и капитан Бас, с бледным, суровым лицом, пристально вглядывался в лица офицеров и уланов. Он ни разу не моргнул.
Когда мимо проходил его бывший эскадрон, лицо капитана исказила гримаса боли. Он стал по стойке «смирно» и медленно поднес руку к козырьку. Уланы шли, не замечая его. Капитан отдавал честь до тех пор, пока последний улан не покинул помещение.








