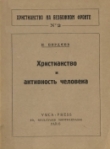Текст книги "Два человека"
Автор книги: Ричи Достян
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
А когда Валька кончил, он взял его за плечо и вместе со скамеечкой придвинул к себе, наклонился к самому уху и шепотом сказал:
– А ты наплюй, слышишь, наплюй на них, и все!
Валька вздохнул.
– А я говорю – наплюй, не век тебе с ними жить… Он помолчал немного, тряхнул Вальку с силой и с каким-то озорством проговорил:
– Дай пусть только весна придет!
Опять помолчав, он продолжал совсем уже веселым голосом:
– …Уедем мы с тобой отсюда – так нас и видели! Слышишь, уедем на Волгу! Ко мне! К бате моему – вот это человек так че-ло-ве-ек! – торжественно и громко сказал Ефим. – А дружки мои, товарищи… Эх, да что там! Сам увидишь, что за народ!
Подавленный собственным рассказом, Валька не принимал всерьез Ефимовых слов, считал, что он просто утешает его, как маленького, поэтому невесело произнес:
– Это ты просто так говоришь, я понимаю…
– Да ей-богу, уедем! – Ефим становился все веселей, тряс без конца Вальку за плечи. – Представляешь, как мы с тобой на рыбалку пойдем?! Да ты что!
Долго бы они просидели так, но во дворе послышалось пьяное пение Гришки. Гришка всегда напивался, когда Ксюша ездила по делам в город.
Ефим вскочил:
– Давай пойдем, походим. – Он в одну минуту нашарил на стене свою куртку, нашел шапку, оделся.
Валька с трудом отыскал в темноте свое пальто.
Когда они вышли на крыльцо, через двор от плетня к плетню мотался Гришка, постепенно приближаясь к дому, да еще гнусным голосом пел:
Наш пароход, вперед лети,
В коммуне остановка…
– Вот стервец! – тихо выругался Ефим и крепко сжал Валькину руку.
Валька и сам понял, что Гришка поет назло Ефиму. Во-первых, в этой песне – «наш паровоз», а не «пароход», а кроме того, раньше Гришка всегда пел: «Одна возлюбленная дама всю ночь гуляла до утра».
– Куда пойдем? – спросил Валька.
– Веди в лес.
Ефим стал угрюмым. Он больше ни слова не сказал про Волгу. А Валька обиделся: для чего говорить неправду? Никуда они не поедут, и будет он всю жизнь пропадать тут.
Метель немного улеглась. Теперь дул острый ветер без снега. Они пошли просекой по санной дороге.
– Дом еще видать? – спросил через некоторое время Ефим.
– Нет.
– Давай постоим. Говори, что видишь.
Валька заволновался и не мог говорить.
– Ну! – требовал Ефим. – Небо чисто или в облаках?
– Чистое.
– Звезды есть?
– Мало, – виноватым голосом отвечал Валька.
– Какие они? Говори…
Слепой стоял, подняв лицо к небу, и в горячей ладони мял Валькину закостеневшую от холода и волнения руку.
– Они, – начал Валька, – неровные… – Он сощурился, подумал и добавил: —Как будто их нацарапали гвоздем.
– Это от морозу звезда брызжется, оттого что небо чисто-синее.
– А ты откуда знаешь?
– Помню покуда, – ответил Ефим и замолчал надолго.
Они прошли еще немного и остановились опять.
– А елки маются? Погляди-ка наверх.
– Маются, – Ефимовым словом ответил Валька, следя за тем, как в синем небе ветер качает черные кресты верхушек, как с белых отягощенных лап то здесь, то там осыпается снежная мука, словно ветви растопыривают пальцы и пропускают лишний снег.
Было глухо и неузнаваемо в знакомом Вальке лесу. Все кругом попряталось, закуталось, даже никому не нужные мертвые сучья.
Валька посмотрел на Ефима, и ему захотелось плакать. Ефим стоял как ствол, неподвижный и ровный, только голова его медленно поворачивалась в ту сторону, откуда доносилось тонкое поскуливание ветра. Он очень странно слушал – всем лицом, и шапкой, и курткой, а ветер все время переносился с места на место, как будто по лесу бегает потерявшийся щенок.
– Мне, братец, лучше, когда ты говоришь.
Валька снова заволновался и начал, лишь бы что-нибудь сказать:
– Тут до нас прошли сани, потому легко идти.
Они пересекали просеки, и Валька говорил про них; они вышли на поляну, и Валька говорил, как хорошо здесь, на лесной поляне, что по ту ее сторону лежит под снегом поваленная береза. В конце концов он увлекся и стал описывать даже то, чего нет.
Ефим присел перед ним на корточки, взял за плечи и сказал:
– Есть в тебе, братец, душа! Эх!
С этой вечерней прогулки по лесу Ефим звал Вальку «братцем», был очень ласков, посылал за ним Ксюшу, если он долго не шел.
Так из возраста, когда необходимо, чтобы тебя погладили по голове, Валька сразу перешел в другой возраст, когда очень нужно, чтобы тебе клали руку на плечо и спрашивали: «О чем это мы давеча говорили с тобой?»
Бабка стала коситься и даже пожаловалась у Кирюшкиных:
– Могла бы Ксюша догадаться: сена козе или другого чего… Парень ходит за слепым, как нанятой.
– Так ведь по своей охоте, – пропела тетя Лиза. – Сердце в нем золотое.
– Ох и золотое! – в тон повторила бабка Варвара, перекрестилась и пошла шевелить губами, а поздним вечером, когда Валька вернулся от Ксюши, спросила, пряча глаза: —Есть будешь?
– Спасибо, я уже поел, мне только чайку хочется.
Старуха вздохнула сердобольно и сказала:
– А ты ба поменьше у них ел: подумают, за труды кормишься.
Валька покраснел, вышел из-за стола и с таким гневом закричал, что бабка перепугалась и тоже встала.
– Это она! Это Пелагея так говорит, да?
Он подошел к бабушке, встал перед ней, по-мужски широко расставив ноги, и выпалил:
– Дура она проклятая!
Бабка стояла не шевелясь. В темных впадинах ее глаз блестели слезы. Валька опустил голову, прижал кулаки к подбородку и сквозь тяжелое пыхтение проговорил:
– Все равно я ее ненавижу!
– Господи, прости меня, грешную, – бормотала старуха, – господи, прости! – Она так и стояла посреди комнаты, не смея подойти к кровати, на которой безутешно плакал внук.
После этого Варвара Ивановна почему-то соединилась в Валькиной душе с Пелагеей, и для него теперь бабушка и тетка стали ОНИ.
Некоторое время он тревожился, как бы они чего не сказали Ефиму или Ксюше. Он решил проверить, просто поговорить с ней о чем-нибудь постороннем, а Ксюша такая, что сразу видно, когда она обижена. Нашел ее Валька в сарайчике, повертелся подле, придумывая, что сказать, и для начала спросил:
– Скажи, пожалуйста, что такое «нехристь»?
Ксюша нахмурилась – все соседи давным-давно знали от самой Варвары Ивановны, что внук у нее некрещеный. Этим она как бы заранее выгораживала себя в глазах людей на случай, если упрекнут ее, что неласкова с сиротой.
Ксюша нахмурилась и не знала, как ответить.
– А тебе зачем? – спросила она.
– Так, – беспечно заявил Валька. – Просто Варвара Ивановна часто мне это говорит. У нее странная привычка. Сначала она громко ругается, а потом долго шевелит губами, а когда я у нее спросил: «Почему вы шевелите губами?» – она как повернется, как посмотрит, ка-ак закричит: «Не твое дело, нехристь!»
Ксюша шлепнула себя по коленям и захохотала:
– Уби-ил! Ой!.. Убил!
Она всегда говорила так, когда ее смешили.
– Ух и парень же ты! Знаешь, это что? Это она перед богом подхалимничает!
Валька и не улыбнулся.
А Ксюша продолжала с удовольствием:
– Это ты правильно подглядел – есть у твоей бабуси такая привычка губами водить; соврет или там зря выбранится, а потом бога уговаривает: прости, мол, меня, грешную! Молитвы бормочет.
Ксюша хохотнула еще разок, представив себе, как видно, Варвару Ивановну, обтерла ребром ладони глаза, один и другой, и сразу стала серьезной.
– Все мы врем, и бог врал про рай небесный, а больше всего попы про бога. Был бы он, неужели же допустил бы такое несчастье – две операции, не шутка ведь, и обе зря.
Она зажала руки между коленей и, покачиваясь, мучительно смотрела в угол, на паутину, которую шевелил ветер…
Долго так просидела Ксюша. Потом как будто вспомнила про Вальку:
– Вот что, парень, я тебе скажу: лучше отдали бы тебя в детдом. Ведь если по правде говорить, у тебя, кроме государства, никого и нет. Бабуся, все знают, от веку скопидомок. В Пелагее злости больше, чем мяса. Ну что ты тут хорошего увидишь?.. А там был бы ты и сыт, и умыт, и товарищей по сердцу бы себе нашел, и, самое главное, человека бы из тебя там сделали. Эх, будь моя воля, не то что у таких бабусь – от живых родителей ребят отымала бы, если родители никудышные. Гришки моего отец кто был? Пьяница непутевая! Вот и воспитал сыночка по своему преподобию!
Валька не слушал Ксюшиных рассуждений насчет воспитания, он думал о детдоме. Сейчас туда почему-то не хотелось, однако про себя он решил: если они очень уж будут надоедать, он возьмет и убежит в детдом.
* * *
Он, как всегда, по утрам выносил золу, приносил дрова, наполнял водой рукомойник. Но если бабка просила о чем-нибудь дополнительно, скажем сбегать в магазин за спичками, Валька очень вежливо отвечал: «Мне некогда, Варвара Ивановна» – и важной походкой направлялся к двери.
Старуха провожала его обиженным взглядом, но попрекать не осмеливалась. Сложные чувства вызывал у нее внук. Так она его и не полюбила, однако все чаще и чаще совестно было ей перед ним, как перед человеком, который лучше тебя, и ты это знаешь, а он, наверно, нет.
* * *
Они сидят, как всегда, перед открытой дверцей печки. В комнате не зажжен свет, хотя давно уже сумерки. За окном метель. Слышно, как она суетится и ноет.
Когда Валька смотрит на огонь, ему всегда приходят в голову хорошие мысли и все на свете кажется возможным.
Тихо. Тепло. Сидят они вдвоем. В такие минуты и Ефиму хорошо, и, если ему и не кажется все на свете возможным, кромешная тоска на время оставляет его.
И он говорит обо всем весело, громко, размахивает руками, даже подмигивает кому-то по привычке.
И видит Валька, как «в астраханском плесе под вечор бакланы неводом рыбу удят…». Видит песчаную отмель, которая «чистое золото», а на отмели – стаю черных кривоклювых птиц. Это бакланы – толковые, хитрые птицы, и вожак у них – голова! Без вожака им бы никак!
Вот он подает сигнал – и стая взлетает в небо, и на лету уже заводит «невод», и делает это очень просто: вожак летит от берега к реке, потом дугой заворачивает обратно к берегу; в воздухе получается петля из птиц. В этот самый момент бакланий вожак опять подает команду, и птицы – раз! – и вниз. «Невод» уже на воде – и тут начинается работа.
Бакланы, оказывается, умеют нырять. Они как свалились с неба, так нырками и продвигаются к отмели, гонят перепуганную рыбу. И все ближе они друг к дружке, все теснее делается петля, а в петле барахтается рыбка. Тут бакланы ее и жрут. Правда, иногда не им она достается. Иногда на бакланью рыбалку слетаются пеликаны. «Дармоедами» на Волге их зовут. Они садятся на песок у самой воды и ничего не делают, дожидаются, а как начнет подскакивать над водой рыбешка, пеликаны ее – хап! – и к себе в мешок под клювом. Хап! – и в мешок.
– А знаешь ты, какая красота весной, – говорит Ефим, притрагиваясь к Валькиному колену. – Ты знаешь, как по распутице, полями да по топкому бережку добираются до затонов матросы? Маменька родная! И ноги промочишь, и с холоду окаменеешь, и умаешься как собака, – э-эх! Не везде ведь – на тебе – железная дорога!
Вот я… В путь ухожу по телеграмме. Так было у нас заведено. Капитан каждую весну присылает телеграмму, просит быть к такому-то дню в затоне. А я только того и дожидаюсь. Как получил – в дорожку! Oт Костромы до Правдинска поездом, а там… пешечком километров этак двадцать пять. Вот и идешь…
Говорит Ефим подробно, с назойливою жадностью слепого смакует краски…
– Вот и идешь… На Волге лед еще, а в полях открываются зеленя, и тут жаворонки сразу! Вчера их еще не было ни одного, а сегодня – небо глохнет от звону. Вот ты идешь, и тоже вроде птицы: весь голос, бывало, дорогой проору. Являюсь в затон, а голосу – ни звука…
Ну, а в затоне, брат, все перебулгачено. Взад-вперед ледокол тискается, ломает лед, потом выводит по одному пароходы и ставит их носами в берег. Тут механики – за дело! Запускают машины, и чудно так бывает: стоит пароход на месте, колесами ввертит. Это зовется, брат, проверка машин на швартовых – чуешь?.. И вот наступает – понимаешь?.. Запросто никто этого выдержать не может – ни капитан, ни матрос… Ну, как тебе объяснить… Первый свисток раздается над Волгой и… Так он тебя по сердцу хватит!..
И представляй себе дальше: отдали мы чалки – и полная воля! Под тобой вода, над тобою одно только небо… да капитан. А если еще капитан хороший? Эх, и как же тут не жить!
И вот идем мы по весенней большой воде – на кой нам фарватер! Идем по кустам… деревья стоят по макушку затоплены, и птицы на них, и птицы, брат, невозможно сказать, что делают! Слушаешь и боишься, как душа в тебе только не захлебнется… А солнца, а блеску, и главное ― берега нет! Если идем горной – луговой стороны нам почти и не видно. Вот она что такое, Волга!.. И будь ты хоть капитан, хоть кто – поглядел на нее и стоишь, как умытый…
* * *
Зима эта была очень снежной. Замело дороги, закутало лес. Ели стоят – и не поймешь, что за деревья это. Дома закутало тоже по самые окна, и кругом такая тишина, как будто на село надели шапку-ушанку.
Когда у Кирюшкиных во дворе лаяла собака, то казалось, что она невероятно далеко. Даже паровозные гудки звучали глухо.
Из широкой доски Ефим выстругал лопату Вальке под рост. Себе он подобрал в сарае самую тяжелую железную, и они каждый день вместе расчищали дорожки – к домам, к колодцам, от Валькиного дома к лесу.
Валька, точно так же как Ксюша за обеденным столом, умел подсказать Ефиму.
– А теперь нам нужно немножко поправее, – говорил он.
Ефим отвечал сначала благодарной улыбкой, а потом уже словом:
– Есть немного поправее!
Валька заметил: чем больше Ефим устанет, тем лучше у него делается настроение. Но хорошее никогда не длится долго, и эта замечательная жизнь кончилась из-за какого-то дурацкого ветра.
Сначала был тихий белобрысый день. Подновив спокойненько дорожки, они с Ефимом набирали воду из колодца, и в это время прямо им на головы свалился ветер, ударился о землю и начал вертеться по двору. Минуты не прошло, как совершенно прозрачный воздух наполнила снежная муть.
– Что делается! – закричал Валька и обернулся к лесу. – А там!.. Вот это да!
Над лесом поднялись дыбом белые волосы, и ветер их рвал и уносил куда-то, и отовсюду шел белый дым, и в этом дыму задыхались черные ели, на которых уже не было снега, и они дергались и вскидывали лапы, как будто хотели вырваться из земли и уйти…
Сразу стало очень холодно и сыро. Валька заторопился домой. Он взглянул на Ефима и оторопел: Ефим повернулся лицом к лесу, зачем-то расстегнул свою куртку, снял с головы шапку и размахивал ею.
– Бросай ведра! – скомандовал он Вальке и сам пошел в ту сторону, откуда доносился шум леса.
«Совсем с ума сошел», – подумал Валька, и Ефим тут же подтвердил это. Он сказал:
– Эх, погода!..
– Какая это погода? – захлебываясь мутным от снега воздухом, кричал Валька. – Что ты глупости говоришь! Это же настоящая вьюга!
– Нет, братец ты мой, нет! – Он взял Валькину руку, немного наклонился и заговорил таким голосом, как будто сообщал тайну: – Запомни, с этого дня мороз начнет задумываться: то ли быть ему, то ли нет!
Он подставил лицо свое ветру. Оно было мокрым и совершенно счастливым. Оно было и веселое и злое.
– Это весна уже баламутит, это ее работа, – повторял он опять и опять. И рот его был растянут, точно, не кончив смеяться, он собирается плакать.
– Пойдем домой! – взмолился Валька.
– Да ты что?! Ты слушай, слушай, как она орет!..
Они стояли у начала просеки в белых сумерках, в жутком вое. Вальке казалось, что кто-то забрался на самую высокую ель и кричит без конца и передышки: «ааааааа», а рядом в сугробах кто-то другой сквозь стиснутые зубы тянет до ужаса горькое: «ммммммммм».
– Холодно мне, пойдем…
Ефим стоял как чужой, не двигаясь и не отвечая. Валька почувствовал себя таким одиноким, каким никогда еще на этом свете не был. Наконец Ефим сказал:
– Эх, мал ты!..
– Ну и что?
– А то, что сбежали бы мы с тобой отсюда. Тебе тоже нечего тут делать. Не с твоей головой козу пасти. Тебе одна дорога – в капитаны!
Валька сразу забыл про холод.
– …А я бы отца на лодке к бакенам подвозил, – продолжал Ефим. – Для этого мне и глаз не надо.
– Ну так давай! Давай уедем – ты же сам говорил!.
– Говори-и-ил! А думать не надо, куда мы поедем? Я – калека, ты – пацан!
Вечером прибежала Ксюша, вызвала Вальку в сени и зашептала:
– С чего это Юхим, а?.. Просит отцу письмо отписать, домой просится, говорит, не могу больше тут, помру… С чего бы это, а?
– Правда?! – радостно вскрикнул Валька. Но тут же решил, что ей пока говорить ничего не следует, и важно ответил: – Потому что скоро весна.
– Ну весна, ну и что?
– Понимать надо! – произнес он, распираемый радостью и надеждой: значит, Ефим решил, решил!
– Новая беда, – вздохнула в темноте Ксюша, – куда его везти! Отец – старик, сам как дитё, пропадут в грязи оба!
Она вздохнула еще раз и ушла.
Два дня ходил вокруг Ефима Валька и никак не решался спросить, когда же они поедут. Молчал и Ефим, а заговорил неожиданно, темным, пасмурным утром. Они вышли на крыльцо. Ефим понюхал воздух и спросил:
– Какое сегодня число?
– Четвертое марта.
– Вот и считай, – сказал Ефим, – сегодня первый день весны. Найди-ка льду.
– Нету, – сказал Валька, глядя на бурую глыбу замерзших помоев у сарая.
– Неси топор.
Валька в минуту слетал за топором. Ефим подошел к бочке, хватил с маху по ледяной горбушке, нашарил куски, ударил один об другой, послушал звук.
– Точно, – сказал он, – силы в нем больше нету, дён через пять начнет капать… Так-то, братец, а через месяц-полтора, глядишь, и она вскроется и… пой-дет!
– Значит, нам уже пора уезжать?
Вместо ответа Ефим с такой силой швырнул куски льда обратно в бочку, что они даже не брызнули, а просто расквасились в кашу.
– Ты это брось думать, – угрюмо сказал Ефим. – Мало чего я говорил… А теперь говорю – брось… и чтоб больше… Не приставай с этим, говорю!
Вальке ничего не оставалось, как уйти домой. И он ушел. Сел у окна. А за окном была знакомая картина: огород в снегу, похожие на могилы грядки да кривые палки, обвитые черными усиками прошлогоднего гороха..
Не сразу заснул в эту ночь Валька. Он думал. Мечтал о том, что увезет Ефима на Волгу сам. И кто это выдумал, что он мал? Он давным-давно уже вырос, только никто почему-то этого не замечает. Деньги на дорогу лучше всего занять у тети Лизы, она даст. Теперь вопрос: говорить ей правду, на что они, эти деньги? Или что-нибудь соврать? Нехорошо еще то, что тете Лизе нельзя и даже не хочется врать. А потом надо еще придумать, что соврать…
Отмахнувшись от этих кропотливых и неприятных мыслей, Валька уже видел себя в рубке самого большого пассажирского парохода на Волге, и в тот момент, когда там была самая жуткая штормовая ночь. У штурвала сам капитан, – конечно, он, Валька, – стоит и вертит колесо, а рядом, конечно, Ефим. Но стоять так просто Ефим ведь не захочет. И Валька начинал ломать голову над тем, какую работу может делать на пароходе слепой.
Ничего не придумав, он снова и снова возвращался к мечте о том, как после долгих поисков находит наконец знаменитого профессора, который сразу, без всяких мучений, без всякой операции вылечивает Ефима. И тогда?.. Тогда жизнь представлялась такой невыносимо хорошей, что про нее даже страшновато было и думать.
И вот он снова в злой штормовой ночи стоит у штурвала и правит, а ветрище гонит огромные волны. Валька быстро прикидывает, какой все-таки они могли быть величины. Наверное, каждая волна величиной с сарай, а впрочем, такой волны бояться смешно и даже глупо. Конечно же они в десять раз больше… А пароход качает, и кругом ни черта не видно. Но Вальке не страшно, и он улыбается и про себя говорит: «Держись, товарищ капитан, держись!»
Что могло быть дальше, он понятия не имел, поэтому вдруг представил себе, как сильно будет скучать Катька, когда они с Ефимом уедут…
За окном шумит лес. Валька прикрывает глаза и чувствует, как через дом перекатываются тяжелые черные волны… А по осени они ведь злые – шторма… Видимости никакой, и вода тяжелая; берешь ее веслом, а она как земля… «А меня ветром сносит, течением несет…», и так хорошо засыпается под тихое звяканье вьюшки, тревожимой весенним ветром…
* * *
Неожиданно опять пошел снег. Шел день и ночь; сильнее, чем глубокой зимой. И Ефим вдруг успокоился. Просто как будто выздоровел. Опять наступили хорошие вечера. Ксюша сама старалась оставить их вдвоем. Они садились подле печки. У ног лежала на боку Наяночка. Ефим, как прежде, много говорил о Волге: какая она на заре да какая на закате. Но теперь, слушая Ефима, Валька повсюду видел себя с ним. Заговорит Ефим про ледоход, и Валька уже представляет себе, как выводит он за руку Ефима на самый край обрыва. Ефим стоит без шапки; волосы по ветру, лицо счастливое, он всем лицом, руками, весь слушает, как она пошла.
А Валька смотрит вниз и говорит, что видит: вот двинулись под ними ледяные поля со всеми своими торосами и сугробами, с потемневшими санными дорогами, вот поломались эти санные дороги и на глазах превращаются в полосатые льдины, налезают одна на другую. Крошатся, стреляют, грохочут и проходят мимо. Мимо них!
Ефим сидел на низкой табуретке против печки, потирая ладонями колени, точно они у него болели.
У Ефима была привычка: как придет домой, снимет куртку – сразу закатывает рукава рубахи выше локтей… А руки все еще загорелые.
– Да-а… Не понимает ничего Ксюша. Она думает, что в чистой рубахе вся и жизнь.
Он долго сидел молча.
И вдруг неожиданно сказал:
– Я Волгу с багром по льдинам переходил.
* * *
Отошли последние метели. Потянулись тяжелые пасмурные дни с внезапными ветрами, приносившими новые запахи и звуки.
В один из таких дней они с Ефимом отправились в далекую прогулку. Когда у станции сворачивали к лесу, Ефим спросил:
– Сколько отсюда до дому?
– Три километра, – ответил Валька. Столько, наверно, и будет, потому что Пелагея каждый раз ругается, когда Варвара Ивановна просит ее поехать за чем-нибудь в город. «Тащиться, говорит, три километра до станции, а ну тебя!»
– Теперь ты понимаешь, что такое ширина?
– Какая? – вопросом отозвался Валька.
– Волга в низовьях такой ширины – от берега до берега, а в половодье и поболе.
Валька оглянулся на снежную равнину, лежавшую между селом и станцией, на старый косой тополь, который отсюда был не больше бабкиного банного веника. Смотрел, прикидывал и не мог толком себе представить, как по всему этому пространству идет вода. Труднее всего было именно то, что «идет» и, по словам Ефима, силища в ней страшная.
В Москве как-то водили Вальку на Чистые пруды. Там ему понравилось именно то, что вода так тихо лежит и, если в нее не бросать камешков, хорошо видны решетки, деревья, голубой ларек – правда, все вниз головой. Но вот как вода идет, Валька не видел.
Один раз в трамвае переезжал Москву-реку. Постарался вспомнить. Вспомнил. Никуда она не шла, а так, чуть-чуть шевелилась.
В лесу было сыро и гулко.
Елки линяли, как собаки. Снег под ними сплошь усеян рыжими и черными иглами. Сугробы сильно осели, а некоторые выглядели так противно, как будто на них высыпали картофельные очистки. Неприятно стало в лесу и пусто. Летом казалось – ему конца нет, а сейчас – только вошли они с Ефимом, тут же и вышли.
На опушке их нагнал паровозный гудок. Свободно пройдя сквозь поредевший лес, он прозвучал пугающе близко. Ефим остановился и, оскалив зубы, напряженно слушал.
– Ты что, боишься? – спросил Валька.
– Не боюсь, а слышать не могу! Гудок слыхал? Ну, провоз, который сейчас прошел?.. Голос у него в точности «Память Азина».
– А что это такое?
– Пароход местной линии. Углич – Кострома… Пошли домой!
Он всю дорогу промолчал, как будто Валька чем-то его обидел.
С этого времени Ефим снова стал чужим. С сестрой и то почти не разговаривал. Из дому не выходил. Сидел на табуретке часами, точно и не дома он. Гришка с Ксюшей ругаются при нем, а он сидит – то прикроет глаза, то откроет, и ничего, можно подумать, не понимает по-русски.
Если обращались к нему, отзывался хмуро:
– Ну?..
Тут я, мол. Жив, не помер еще…
Но даже и в таком настроении, если, бывало, все уйдут из комнаты, Ефим протягивал руки к Вальке и, когда тот приближался, тревожно говорил все одно и то же: «Скоро она вскроется, слышь?!»
Валька молчал, подавленный. Он знал, что она – это Волга.
И снова ночью шумела метель. «Эта уже наверняка последняя», – думал, засыпая, Валька.
И конечно, наутро все улеглось.
Он выбежал на крыльцо и от неожиданности остановился: не верилось, что за одну ночь может свалиться столько снега. И почему он разлегся волнами? Как будто не падал сверху, а откуда-то прихлынул и застыл. Снежные гребни с одной стороны были розовые от солнца, с другой – совершенно синие. В ясном небе висел аккуратный снежок луны. Он тоже с одной стороны был розовый от утреннего солнца.
Примчавшись к Ефиму, Валька очень торжественно объявил:
– Знаешь, по-моему, на луне тоже всю ночь шел снег!
– Ну и шут с ней! – отозвался Ефим, не шелохиувшись. Он сидел на низеньком чурбачке. Кисти рук, сложенных крест-накрест, безжизненно свисали с колен.
Валька постоял молча. В комнате со свету было до черноты темно.
– Пойдем, – тихо попросил Валька, – пойдем походим. Зачем ты сидишь один?
– Иди сам…
И Валька ушел опечаленный. Но стоило ему выйти во двор, как все горести сразу вылетели у него из головы. Вот это настоящая весна! Что он там видел в городе? Сосульку в щель открытой форточки? Галоши, галоши – без конца помни про галоши и ищи себе места, где бы не воняло нафталином.
В последнее время Ефим часто отказывался идти в лес. И Валька ходил один. Он привык к лесу и уже не мог без него обходиться.
Разве не интересно было поломать голову над тем, почему иногда на стволах только с одной стороны наведены снежные грани? Он не успокоился, пока не выяснил, что это, оказывается, работа ветра.
Недавно Валька увидел на одном сугробе под большой елью очень странную штуку. На этот раз сам разгадал, что это такое.
Через весь сугроб наискось проходила кривая цепочка темных следов. Валька решил, что это кошачьи следы. Примерно такой величины голубоватые овальные ямки в снегу оставляет жирный кирюшкинский кот. Но эти следы были не продавлены, а лежали на поверхности сугроба. Они были из густо собранных в темные пятнышки иголок. Как будто кирюшкинский кот макал в опавшие иглы мокрые лапы, а потом наследил на снегу!
Много сложных опытов проделал Валька, и все без толку. Он даже нюхал снег! Очень недовольный собой, он воткнул в сугроб палку, вытащил, заглянул в ямку, которую проделала палка, и… на дне этой ямки оказалось темное пятно из еловых иголок. Откуда же они там взялись?
Валька вдоль и поперек издырявил сугроб. И в конце концов понял.
Снег прослоен темными поперечными пластами из всякой дряни: из иголок, гнили, из крошек сухой коры. Всю зиму сыплется все это с деревьев, всю зиму идет снег и слой за слоем прикрывает мусор. И так много раз.
Потом, значит, пробежал по сугробу кот – тяжелый жирный кирюшкинский кот, – продавил слоеный снег своими лапами и спрессовал грязь. То же самое делала и Валькина палка.
Сугроб постепенно таял под солнцем, оседал, поэтому ямки и очутились наверху. Валька любовался ими: до чего четки котовы следы – ни иголочки лишней!
Сегодня, войдя в лес после ночной метели, он особенно пожалел, что Ефим отказался идти. В лесу опять было чисто и прибрано, как в лучшие дни зимы.
Валька подошел, постоял у старой ели. Послушал и догадался, кто исклевал под нею сугроб. Сам же снег, тот, что выпал вчера на мокрые иглы, на обледенелые ветки березы, а теперь, пригретый солнцем, летит и летит, на лету превращаясь в острые, колкие капли. От них и идет по всему лесу такое задушевное шуршание. Иногда мягко плюхаются плотные круглые комья снега. Они сидят еще кое-где в изгибах ветвей и ждут, когда оттуда их скинет ветер.
Валька шагал по запорошенной просеке, ощущая под снежным пухом лед; поглядывал по сторонам и думал: «Интересно, а как это получилось, что одни деревья – ели, а другие – березы?»
Ему захотелось постоять в голубой тени старых елей, подле слабенькой березки. Под всеми ее почками, под всеми узелками ветвей – везде, где только можно было удержаться, висели большие матовые шелковистые капли.
Валька постоял еще немножко, и – как будто специально для него – березка вспыхнула. В каждой капле – по огоньку. Валька поднял голову вверх и в узком еловом ущелье увидел широкий луч солнца. Он торчал, как доска, приставленная косо к небу. Но это только так казалось, когда стоишь в тени. На самом деле луч был прозрачный, и что в него ни попадет, сразу делается цветным и новым.
Валька помедлил и вошел в луч. И с ним тоже что-то произошло. Он заорал и помчался, подпрыгивая, по обледенелой дороге. Нашел палку и, размахивая ею, кинулся на елки, бил их по лапам, отплевывался от иголок и воды, летевшей в лицо, протыкал хрустящие сугробы, проваливался в них, хохотал и никак не мог угомониться. Домой его погнал голод. Шел он тем же путем, по широкой, укатанной санями просеке. Но теперь глубокие санные борозды затопило зеленой водой. В лесу лльно пахло свежими огурцами, и это было очень гранно. Скоро послышалось истошное Катькино блеянье.
– Оглохли они там, что ли, не могут скотину выпустить! – выругался Валька и прибавил шагу. Но только вошел во двор, остановился. Снегу здесь как не бывало! По всему двору непривычно и густо чернела земля под блестящими лужами. По лужам вдоль и поперек шлепали чумазые, тощие, счастливые куры.
В конце двора, на обсохшем сером крылечке, стояла Варвара Ивановна и, задрав к небу голову, улыбалась. Раз или два всего и видел Валька, как она улыбается.
Громко хмыкнув, он локтями подтянул портки и, вызывающе глядя на бабку, пошел чесать по воде напрямик через двор, всем видом своим говоря, что имеет право быть счастливым не меньше курицы.
Покуда шел так двором, отбрасывая брызги и, казалось, ничего не замечая, многое, однако, успел он заметить.
На дне луж, по которым он шагал, лежали ржавые гвозди, покрытые мелкими блестящими пузырьками; валялись гнилушки, кусочки разбитой тарелки, но самое главное – там были пока еще желтые и пока еще тупые носики травы, вылезающей из-под этого мусора.
Очень доволен был Валька тем, что Варвара Ивановна не замечает его, занятая облаками, которые вылетали из-за леса белыми клочьями, проносясь над сараем, двором, бабкиным крылечком так низко, что хоть хватай их.
Подойдя поближе, Валька увидел бабушкины глаза. Они смотрели вверх из-под черного клюва косынки с каким-то жадным изумлением.
Не спеша поднимаясь на крылечко, Валька успел еще заметить, как в доме напротив, кидая «зайчики» через огород, болтаются створки открытого окна, а в темном его проеме мелькает белая тряпка.
– Ноги-то при тебе? – ласково спросила бабушка. – Ступай поешь.