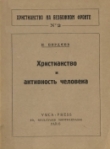Текст книги "Два человека"
Автор книги: Ричи Достян
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
ДВА ЧЕЛОВЕКА
Полгода назад у Вальки неожиданно умерла мать. Скоро в доме появилась высокая старуха в черном – бабушка. Она убрала с широкого, нагретого солнцем подоконника Валькины игрушки и, кучей сложив их в круглую желтую фанерную коробку, увезла вместе с Валькой к себе – в маленький подмосковный поселок.
Первые дни в бабушкином доме Валька просидел у окна, как сидят в поездах, где все равно деваться некуда. Из окна ему виден был огород: длинные сугробы да кривые палки, обвитые усиками прошлогоднего гороха.
За огородом были чьи-то дома. Валька смотрел на них, молчал, ничего не просил. Не прикасался к своим вещам.
Бабушка задвинула желтую коробку под стол, и это было очень неприятно, потому что во время обеда Пелагея – бабушкина дочка – ставила на коробку большие тяжелые ноги.
Прошла неделя. Валька ни разу не заплакал.
Старуха приглядывалась к нему, вздыхала и как-то, не выдержав, стала причитать.
Валька взглянул на бабушку строго и сказал:
– Слезами горю не поможешь.
– Господи, святая сила! – вскрикнула старуха и залилась еще горше.
Приняла она внука без радости. Слишком мал – стало быть, не помощник, – а человеку в семьдесят четыре года пора дать покой. Кроме того, не похож был мальчишка на покойного сына ничем. Весь в невестку, и ко всему – некрещеный. После него бабка воды из кружки не выпьет. И все-таки жалость к сироте могла бы перейти в любовь, но внук «жалеть себя не давал». Покуда молча сидел у окна – понимала его, а как начал привыкать, как начал разговаривать – один страх и горе.
Однажды утром подошел к ней с полотенцем на шее и потребовал:
– Варвара Ивановна, покажите, пожалуйста, мое постоянное место!
Бабка перекрестилась и, уходя из комнаты, сказала:
– Не зови ты меня так, христа ради! Какая я тебе Варвара!
Валька пожал плечами и ответил вежливо:
– Хорошо, Варвара Ивановна, я постараюсь.
В этот день он перенес желтую коробку из-под стола к себе под кровать. Когда очень уж надоедало смотреть в окно, Валька выдвигал ее, открывал, и… стоило ему увидеть плоские металлические катушки от ленты для пишущих машин, которые мама приносила с работы, желание играть пропадало. Тогда он брал лежавшую сверху коробку из-под конфет и вынимал из нее картинки, вырезанные из старых книг и журналов.
Некоторые были особенными: сколько раз ни брал их Валька в руки, они всегда вызывали новые мысли и догадки; например, та, где Чкалов едет в открытой машине по улицам Москвы, а рядом с ним сидит мальчик в матросском костюмчике. Это Игорь – сын Чкалова. Сидит и смотрит, как люди приветствуют его отца. Не сосчитать, сколько людей.
Над фотографией написано крупными буквами: «Великий летчик нашего времени». Валька не совсем ясно понимал, что значит «великий», но чувствовал, что быть великим, наверно, очень приятно.
Смотрел Валька на Игоря и думал: «Он, конечно, не раз катался на самолете – бывают же такие счастливые люди! Интересно, что они делали с отцом после того, как ездили в машине? Наверно, пошли в Кремль. А может, сначала отец купил Игорю настоящее ружье?»
На месте Игоря он попросил бы лучше живого овчара – в точности такого, как в кинокартине «Джульбарс», – и выучил бы его охранять границу. Куда интереснее, чем ружье!..
С тех пор как Валька переехал к бабушке, коллекция его почти не увеличилась. В этот дом не то что книжки – газеты попадали редко, и то лишь в виде кульков.
Как-то Варвара Ивановна принесла сушеные грибы, завернутые в газетный лист. Валька выпросил его, долго разглаживал холодным чугунным утюгом, обрезал все лишнее, прочел надпись: «Дворец Советов». Это был странный дом, поднимавшийся от земли уступами. Чем выше, тем уступы эти были уже, а на самом верху стоял Ленин. Валька сразу его узнал, потому что руку он держит так, как будто стоит на броневике.
Стены у дворца светились изнутри, и Вальке казалось, что там сейчас лето. Он подумал: если забраться на самый верх, туда, где Ленин, то с такой высоты можно, наверно, увидеть всю землю.
Над светящимся дворцом была еще одна надпись: «Памятник эпохи».
Валька думал, думал – не додумался:
– Варвара Ивановна, что такое «памятник эпохи»?
– О господи, хоть бы раз что путное спросил!.. Не до памятников тут.
Бабка злилась. Она зря простояла в очереди за сахаром. Вместо сахара принесла сушеных грибов. Грибы были черные, страшные, и от них воняло, как от старых ботинок, когда их сушат на плите.
Не получив ответа, Валька взял зеленый карандаш, принялся замазывать непонятные слова. Он всегда поступал так – или узнавал, или избавлялся от непонятного. Потом он положил «Дворец Советов» в коробку из-под конфет. И снова стало скучно.
Что это за место такое, где ничего нет: ни детского сада, ни школы. Вальке давно пора было в школу, но бабушка считала, что успеется.
Валька сам искал себе занятие. Нашел в сенях толстую палку, обстругал один конец, подогнал к щетке, но, когда собрался прилаживать, чтобы Варваре Ивановне не приходилось вниз головой подметать комнату, бабка нахмурилась, отняла щетку и сказала:
– Нечего уродство такое делать!
Сначала Валька очень удивился, но потом хорошенько подумал и понял, почему «нечего», – просто этой щеткой в доме бабушки только зубы не чистили. Щеткой обметали диван и печь, мели пол, счищали снег с одежды.
Щетка была из настоящей щетины, поэтому бабушка относилась к ней с почтением – отряхивала ее о ладонь и клала на полку у печки.
Веников в доме не держали. По словам Варвары Ивановны, они быстро сгрызаются. Для сеней были березовые метелки, припасенные на целую зиму.
Зато очень понравилось бабке, когда Валька почистил битым кирпичом медные подсвечники, подпилил ножки табуретке, чтобы не качалась. Освоившись совсем, он стал таскать из сарая дрова, выносил золу по утрам.
Старуха замечала все это, ценила, только язык его недетский донимал и отпугивал. Желая сделать Вальку хоть внешне своим, она сшила ему деревенские портки из чертовой кожи.
Валька надел безобразные портки, походил по комнате вперевалочку, несколько раз присел на корточки, потом дотронулся до бабушкиной руки и сказал:
– Большое спасибо, Варвара Ивановна, очень удобные брюки.
Бабка только вздохнула в ответ. А Валька, дождавшись, когда она уйдет из дому, отправился к соседке – сапожниковой жене Ксюше, с которой у него завязывалась дружба, – попросил у нее сапожный нож, побежал в сарай и там, сняв портки, прорезал на боках длинные щели. С этих пор он только так и ходил – руки в брюки.
Бабка, увидав, ничего не сказала, подрубила дыры, чтобы не лохматились, но карманов не вшила. Она считала, что карманы приучают к воровству.
Хуже у Вальки дело обстояло с теткой. Как только мальчик появился в доме, Пелагея стала есть отдельно. Она привернула кольца к дверкам буфета и повесила на них большой ржавый замок. Валька прекрасно понял зачем: мать и дочь при нем ругались по этому поводу.
Сам Валька возненавидел Пелагею с той минуты, как ее увидел. У Пелагеи было до того узкое лицо, что, как она ни глянет, казалось, будто смотрит боком, и ее выпуклый желтый глаз без ресниц так и говорит: «А я тебя сейчас клюну!»
Кроме того, у нее был противный голос, с треском; говорила она без передышки, даже и тогда, когда из комнаты все ушли, потому что сразу никак не могла остановиться.
Работала она на дровяном складе, домой приходила в разное время. Приходила и прямо с порога кричала: «А на складе работы – дурак и то сбесится!» В первые дни Валька никак не обращался к ней – ни тетя, ни тетя Поля; он не знал, куда деваться от нее. От ее злости, какой-то особенно бесстыдной. Другие люди стараются скрыть это в себе, а Пелагея наоборот – бранится подолгу, с удовольствием.
Как-то погас свет, в тот момент, когда Пелагея вернулась домой. Бабка впотьмах искала свечу. Валька стоял у двери не шевелясь, чтобы чего-нибудь не опрокинуть.
– А где урод лобастый? – спросила Пелагея, войдя.
Бабка проворчала что-то. Валька стоял молча, но сердце его бухало так, что казалось, и они слышат. Он нащупал дверь и тихо выскользнул в сени, постоял немного в темноте, потом выпрямился, плюнул на закрытую дверь и впервые в этом доме заплакал.
Бабка не скоро нашла его в сарае за дровами, продрогшего, без шапки и пальто.
После этого старуха стала с внуком ласковей, а между Валькой и теткой началась настоящая вражда. Теперь и в глаза она называла его «уродом лобастым».
Но и Валька был хорош – он нашел замечательный способ изводить эту злую сорокалетнюю женщину: он все время ее поправлял. Только Пелагея откроет рот, Валька с веселым презрением уставится в этот узкий подвижной рот и начинает:
– Опять ты неправильно говоришь. Надо говорить «дезинфекция», а не «дифинфекция».
Пелагея в бешенстве показывала мальчишке язык и выбегала из комнаты, так сильно хлопнув дверью, что с потолка сыпалась известка, а по полу потом бегали пауки. Бабка в таких случаях была на стороне дочери, но никогда не вмешивалась. Только глянет на внука через плечо, как на нечистую силу, и перекрестится. А Пелагея умолкала надолго, стараясь даже не смотреть в сторону мальчишки, которого ненавидела за то, что был красивый, был умнее и сдержанней ее, но главное – за то, что ей одной говорил «ты».
Детское в Вальке сказывалось редко, и то когда ему нездоровилось.
Сидел он как-то за столом, подперев рукой висок, и грустно смотрел на муху, бегавшую по липкой клеенке, и хотя Вальке казалось, что муха эта катается на коньках, ему не было смешно.
Бабка спросила:
– Что с тобой, родимай?
– Голова болит.
– Отчего ж она у тебя болит?
– Не знаю. Наверно, потому, что я сказал на Гришку «дохлый».
Валька не любил сапожника Гришку, из-за которого жена его, Ксюша, часто плакала. «О господи! – причитала она. – За что ты послал мне гулящего мужика?»
Валька по-своему толковал эти слова. Он связывал их с тем, что Гришка нигде не работает – гуляющий человек– и ходит он такой походкой, как будто отсидел обе ноги.
Валька был уверен, что Ксюша хорошая. Во-первых, она любила, чтобы везде было чисто; потом – была очень сильная, здорово колола дрова: раз тюкнет – и готово! Она работала уборщицей в клубе и дома все делала сама, а Гришка никогда ни в чем ей не помогал. Придет, поест и уйдет.
Ел он по-свински – руками вылавливал мясо из щей, а когда подносил ложку ко рту, зачем-то выкатывал глаза. Вся клеенка после него закапана.
Ксюша, бывало, убирает и ворчит: «Нет моего образа жизни, кругом одна грязина – хоть плачь!» И всхлипнет. Но тут же успокоится, и потом они сидят с Валькой допоздна у печки.
Ксюша топила печь с открытой дверцей, смотрела на огонь, вздыхала. Вальке казалось, что он знает о чем.
Очень редко у нее бывало хорошее настроение, и тогда она много рассказывала о том, как раньше жила у отца. В семье четыре сестры и только один брат. О нем Ксюша говорила с гордостью: и работящий, и веселый, и душевный – отцова надежда. Так и сказал старик: «До тех пор не помру, покуда в капитаны не выйдет». Если б семья не такая большая, Ефим давно бы речной техникум окончил. Из дому пишут, в этот год обязательно поедет учиться. «Хорошо бы, – вздыхала Ксюша. – И у меня на него надежда: думаю, выйдет в люди – и меня вытянет на свет, на дорожку».
Говорилось все это с грустью, но, что бы Ксюша ни рассказывала, Вальке становилось смешно, потому что все слова она произносила так, как один мамин знакомый, когда передразнивал попа. Валька и сам, просидев у нее долго, некоторое время потом нечаянно так говорил, а Варвара Ивановна сердилась: «Пошла окать Кострома!» Валька удивлялся, откуда она знает, что Ксюша рассказывала ему именно про Кострому – Ксюшин родной город. Он очень сердился, подозревая, что бабушка подслушивает за дверью, но молчал: что поделаешь, если ей не стыдно.
Чем дальше, тем охотнее ходил Валька в дом сапожника Гришки. А однажды, услыхав, как ласково Ксюша разговаривает в сарайчике со своей козой, окончательно решил, что сапожникова жена хороший человек. С ней он совсем не чувствовал себя маленьким, а иногда она даже казалась ему глупой. Может, потому, что Валька не понимал как следует Ксюшиного горя и для него «гулящий мужик» означало не больше, чем любое ругательство, скажем «дура березовая», и, конечно, непонятно было, как может Ксюша каждый день возмущаться Гришкой.
Вот он, Валька, понял, что Пелагея «гадина», поплакал один раз из-за нее – и хватит.
* * *
Так прошла первая зима. Валька совсем обжился на новом месте. Он вообще ко всему очень быстро привыкал. С тех пор как помнит себя, он жил в детсадах – мама его все время болела.
Сначала Вальке приходилось плохо. Потом он понял: для того чтобы было хорошо, надо стараться не плакать и, главное, поменьше чего-нибудь хотеть. Скажут: «Мой руки!» – надо в ту же минуту бросать игрушки и мыть руки. Скажут: «Ешь суп!» – и надо суп есть, если даже тебя от него тошнит. Тогда наверняка никто не будет кричать: «Невозможный мальчишка!», «Отвратительный ребенок!» или: «Я кому сказала?!». За это, между прочим, больше всего презирал Валька взрослых. Ведь совершенно ясно, кому было сказано! Чего тут еще спрашивать?
Очень удивляло его и сердило, как это люди, вырастая, забывают, что сами они в детстве вовсе не были дураками. Валька, например, будучи в старшей группе, любил возиться с маленькими и никогда на них не кричал.
* * *
В доме бабушки он с самого начала повел себя, как единственный мужчина в семье.
Когда солнце освещало только крышу сарая, а земля была еще темной и холодной с ночи, Валька выходил на крыльцо и по облакам определял погоду. Потом не спеша спускался во двор. Твердая тропка в траве, обогнув сарай, приводила к узенькому домику, похожему на скворечник, приставленный к старой ели.
На обратном пути иногда заглядывал в Ксюшин двор, останавливался у сарая и подолгу смотрел в щель на козу. Для удобства он упирался руками в колени; продольные дыры на боках, заменявшие карманы, оттопыривались. Туда залезал ветер. Поежившись, Валька возвращался к себе.
С первых теплых дней он стал умываться дождевой водой из бочки, хотя в сенях был умывальник.
Умывшись, он шел в дом с мокрым лицом, вытирался и только тогда говорил:
– Доброе утро, Варвара Ивановна.
Бабку это раздражало, и она отвечала по-разному. Иногда: «Господи, святая сила!», а иногда: «Добро, добро!» Часто и не отзывалась вовсе. В таких случаях Валька спрашивал:
– Вы за что на меня сердитесь?
Уже не скрывая раздражения, старуха отвечала:
– А чего на тебя сердиться? Или ты мне что должен?
– Тогда дайте мне, пожалуйста, селедочки; только я почищу сам.
Встав на коленки подле чурбака, заменявшего в доме скамеечку, Валька чистил селедку на куске бересты – потрошил, вынимал хребет и только потом нарезал аккуратными ломтиками. Не то что бабушка – режет вместе с кишками и чешуей.
– А теперь мне чайку хочется, – говорил Валька.
За чаем, как и положено мужчине, он начинал рассуждать, и это больше всего не любила в нем бабка.
– Кругом дети как дети, – жаловалась она соседям, – а этот, грех и думать, чего другой раз говорит.
После завтрака, тоже как настоящий мужчина, Валька отправлялся по делам.
К лету он перезнакомился с ближними соседями и пришел к выводу, что большинство из тех, кого он знал, – люди странные: ни зимой, ни летом они ничего не делали, просто жили себе так! Ну, копались в огородах, когда вздумается, но это ведь не работа все-таки. С тех пор как Валька начал что-то понимать в жизни, он привык к тому, что все люди каждый день и, главное, рано утром уходят на работу. Даже его мама, пока нe была очень сильно больна, все равно ходила на работу. А его еще затемно вытаскивали из постели, одевали наспех и уводили в детский сад.
А тут не поймешь, в чем дело: Пелагея ходит на свой дровяной склад не утром, а по-разному и прибегает домой, когда хочет.
Валька вполне разделял мнение новой своей знакомой, тети Лизы Кирюшкиной, которая про Пелагею сказала: «Тёла такая, а притворяется, что работает. Откуда только деньги у нее берутся!»
Про семью, которая жила через огород от Ксюши, соседи говорили, что их кормит корова. Они, оказывается, возят в Москву молоко и дорого его там продают. А это что за работа?
Гришка-сапожник совершенно нигде не работает. Дома сапожничает, и то для вида, но, когда кому-нибудь нужны дрова, их спрашивают у Гришки; когда нужно достать сена среди зимы, тоже спрашивают у Гришки. И он достает и дрова и сено за бысстыдную цену, да еще долго ломается при этом.
«Разве Гришка один такой? Сколько таких паразитов сидит на шее у больших городов, – говорила тетя Лиза. – Не крестьяне они и не рабочие».
Валька считал, что она имеет полное право так говорить, потому что все пять тети Лизиных дочерей каждое утро, чуть заря, уезжают в город на работу, а две, кроме того, еще и учатся.
Вообще тетя Лиза сразу понравилась Вальке, потому что со всеми очень хорошо разговаривает, а главное – что ни скажет, всем смешно, и сама над собой же смеется.
Валька терпеть не может, когда люди портят слова, а тетю Лизу поправлять ему не хочется. Наверно, потому, что она больше выдумывает, чем портит слова. Ребята, козлята, цыплята называются у нее одним словом – шишкоеды. Слово «эти» она произносит очень вкусно и смешно – «енти».
Подружился Валька с тетей Лизой просто, после того как однажды вместе с ней пошел собирать грибы.
– Енти, что около нас растут, – учила его тетя Лиза, – енти – вшивочки: их не бери, какие они опята? Гниль! Понял?
Вальке было так смешно, что он не мог вслух сказать – понял, мол.
Тетя Лиза сделала ему замечание, от которого стало еще смешнее:
– Ты чего головой мотаешь, как лошадь в жаркую погоду? Ты меня слушай, я тебя учу.
А сама тоже смеется и вдруг ойкнула и остановилась, сложила руки на животе и стала ласково смотреть на крохотный грибок, похожий на деревянную матрешку;
– Святое дело – лес… Наш отец, бывало, как белый гриб найдет, так его и поцелует…
Грибов набрали много. Конечно, Валька больше, потому что он ближе к ним и ему виднее.
Из леса тетя Лиза повела его к себе перебирать грибы, потом не отпустила.
– У нас заобедаешь, скоро девьки мои прибудут! На поезде люди «прибывают», а не ездют, – пояснила тетя Лиза. Так начальник станции меня учил.
Они сидели, не спеша перебирали грибы; тетя Лиза рассказывала длинную историю про молоденького начальника станции, в котором только и есть должности, что красна шапочка.
Потом тетя Лиза рассказала, как она ездила в город за мануфактурой, ничего не достала и решила хоть мыла хорошего купить, а тут – на тебе, к мылу в придачу, хочешь не хочешь, – пудру бери!
Валька очень удивился: вместо того чтобы ругаться, как делает его бабушка, тетя Лиза рассмеялась.
– А название-то, а название! Как раз для старух – «Букет моей бабушки» называется пудра!
Валька не мог не вспомнить, как зло ругалась Варвара Ивановна, когда в придачу к пшену ей дали пакет сухого лимонада, который называется «Крем-сода». Варвара Ивановна ходила по комнате, все кругом швыряла и кричала, что ее хотят отравить, что сода для мытья, а не для питья!
А тетя Лиза продолжала рассказывать, и чем дальше, тем смешнее.
– Хорошо, что девьки у меня не приучены к перхоти ко всякой к этой. Оно и понятно, когда мать их отродясь, кроме чистой воды, ничего не потребляла. Во всей нашей фамилии только одна франтиха была – господи прости! – все бы ей красивой быть. Купила гдей-то авериановой мази, смешала с йодом, наляпала на лицо – и что у нее получилось? Получилась егзема!
Вальке было приятно, что тетя Лиза говорит с ним обо всем, о чем хочет, не выбирая, как другие, – это для взрослых, а это для маленьких.
Разговаривая с ним, она ни на минуту не переставала заниматься своим делом, ничего не путала, как Варвара Ивановна, и не забывала посолить.
Затопив плиту, тетя Лиза обтерла о фартук руки и пошла к двери. Там на стене подле рукомойника висел плакат, приклеенный прямо к обоям. Валька узнал этот плакат, как только вошел, потому что не раз видел его на улицах Москвы и в коридоре маминого учреждения. Это был даже не плакат, а просто большой лист белой бумаги с надписью в верхней части: «Север взят!», затем уже совсем внизу – в уголке – нарисована маленькая черная палатка с флагом и большими буквами на крыше – «СССР». Рядом с этой палаткой четыре одинаковых человека стоят, подняв руки к воображаемому небу. Но Валька отлично знал, который из этих человечков Папанин, который Ширшов, который Кренкель и который Федоров.
Подойдя с тетей Лизой к плакату, он увидел, что вся «снежная пустыня» между надписью и палаткой занята расписанием поездов, разделенным на несколько столбцов, чтобы тетя Лиза могла знать, каким поездом приезжает каждая из дочерей.
– Сегодня раньше всех приедет Клавдия, – сказала тетя Лиза и принялась раздувать огонь в плите. – С ентими грибами всегда не поспевается…
После этого и Валька стал прислушиваться к паровозным гудкам; но ждал он не Клавдию, а Надю. Интересно, узнает он ее или нет? Валька ждал, что откроется дверь и он увидит нечто необыкновенное. Для этого были основания: заговорив о «средненькой» своей дочери, тетя Лиза скомандовала ему:
– Возьми стул, поставь вон туда – там на комоде под стеклом, крайняя слева.
Валька приставил стул к высокому старинному комоду. Под толстым зеленым стеклом увидел фотографию, вырезанную из газеты: две девушки с какими-то железными штуками на плечах, похожими на огромные отвертки, и рядом парень в кепке.
– Вы ошиблись, – сказал Валька, – она, наверно, которая первая справа, потому что слева – это рабочий.
– Она и есть.
– Этот в кепке?
– Она!
Валька не поверил и прочитал надпись: «Лучшие чеканщицы шахты № 55 Покровского радиуса. Слева направо – Н. Кирюшкина, В. Винокурова и Т. Андреева».
– А почему она кепку надела?
– Поди спроси!..
Первой действительно приехала Клава. Про нее Валька кое-что уже знал. Например, что она самая старшая из сестер, потом, что она у себя на заводе активистка. И входит в какой-то треугольник, и все уважают ее.
Сам Валька пока не мог решить, хороший Клава человек или нет, потому что она больше молчала, чем говорила.
Через полчаса после приезда Клавы внезапно открылась дверь, и в комнату вошла девушка в сером шерстяном платке, очень похожая на Клаву. Это и была Надя.
С ее появлением стало шумно. Начались разговоры о метро.
Тетя Лиза внимательно слушала городские новости, но в заключение сказала, что, по ее мнению, города нужны только для учения, а так хоть бы их и не было совсем – меньше жуликов будет…
– Ска-а-жешь, – протянул чей-то незнакомый Вальке, насмешливый голос. На пороге стояла самая младшая дочь тети Лизы – Ленка. Она с ходу включилась в разговор и пошла: – Города – это прежде всего индустрия! Это очаги социалистического быта… это центры…
– Конечно, конечно, а ты все-таки дура, – спокойно отозвалась Клава, наклонилась и поцеловала мать.
Ленка сердито скинула пальто, и Валька увидел, какая она худая, длиннорукая и сутулая. А тетя Лиза про нее с гордостью говорила ему: «Хоть одна в отца удалась!»
– Ругаться нечего, – примирительно запела тетя Лиза. – А я что говорю? Я и говорю: метро – ой и хорошо же! Вот где тебя за человека считают! И чисто, и удобно, и глазам весело!
Глядя на сестер, Валька не мог догадаться, кто старше, кто младше. Все они, кроме Ленки, похожи на мать – приземистые, плотные, каждая по-своему некрасива и все одинаково славные и говорят тети Лизиным голосом – даже странно.
Когда вся семья была в сборе, сразу начался обед. Целый день им занималась тетя Лиза, а приготовила только зеленые щи и на второе – жареные грибы с картошкой.
Сестры умылись и сели к столу. Посадила тетя Лиза и Вальку. Посадила так, как будто он всегда тут был.
– Мам, – позвала Клава, – пойдешь с нами завтра в культпоход?
– На кого?
– На «Чужого ребенка».
– Ой, пойду! Меня ж хлебом не корми – дай посмеяться, – обрадовалась тетя Лиза. – Два раза была, пойду и в третий.
После щей на столе появилась огромная сковорода с жареными грибами и глубокая миска крупной, пушистой вареной картошки. Валька смотрел на белую гору с восхищением: там, как в снегу, что-то вспыхивало и голубовато светилось. Пар от картошки шел какой-то праздничный, и всем поровну досталось этого пара, он подплывал под нос и обдавал лицо сильным грибным ароматом. Было весело и горячо. А тетя Лиза не переставала подкладывать в тарелки глубокой деревянной ложкой, ловко и щедро. А когда Ленка взяла подсолнечного масла и стала лить из бутылки в ложку, тетя Лиза нахмурилась и сказала:
– Лей прямо в тарелку, а то всю жизнь с ложки побираться будешь!
Валька подумал: у тети Лизы даже замечания хорошие, не то что у Варвары Ивановны: «Доедай кашу, а то морду болячками обкидает!»
И разговоры в этом доме другие. У всех хорошее настроение, особенно у тети Лизы. Хлопочет она и то весело. Дочери просят:
– Ты, мама, сядь, сядь!
– Ой нет! – отвечает тетя Лиза. – Я как остановлюсь, так и кровь во мне останавливается; начну работать – и она за работу. Без дела человек куда раньше помрет, а мне еще пожить охота.
Как только отобедали, разом грохнули стулья, сестры поднялись, и в минуту грязной посуды уже и в помине не было. На столе появилась холстяная скатерть. Клава развернула на ней газету, чтобы чернилами не закапать, разложила на газете книги, тетради и хотела сесть, но подбежала Ленка, сказала: «Подождут твои конспекты!» – навалилась на стол и угнала его к подоконнику.
Тетя Лиза вопросительно посмотрела на Ленку, подошла к плите, взяла в каждую руку по чугунному утюгу. «Куда прикладывать прикажешь?»
Ленка вместо ответа сунула матери под мышку рулон обоев, подмела пол от плиты до двери – и через всю комнату, на ходу разворачиваясь, легла зеленая дорожка.
Ленка перевернула обои на левую, белую сторону, прижала оба конца утюгами и принялась размечать слова. Она ходила вдоль белой полосы с карандашом и резинкой, от плиты до двери и обратно, нагибалась, черкала что-то, ошибалась, стирала резинкой и начинала снова.
Тетя Лиза стояла тут же, сложа руки на животе, и добродушно посмеивалась:
– Поди, не одну версту уже исписала… – Очень нравилось тете Лизе, что у младшей дочери никогда не кончаются «нагрузки», потому что она хорошо рисует. И какая еще молодчина – за вечер два лозунга может написать! Один начнет словом «Даешь», другой – словом «Долой» – и оба нужные.
– Никак не влезает «лизм», придется все буквы ýже делать, – озабоченно сказала Ленка.
– А что это за слово новое такое?
– Никакое не новое. Ты что, «капитализма» не знаешь?
Уместив наконец все слова, Ленка вымыла кошачье блюдце, налила в него красных чернил и принялась писать широкой плоской кисточкой. У Вальки даже дух захватывало – так красиво, легко и быстро получались буквы. Он сидел на полу по другую сторону лозунга и вместе с Ленкой подвигался от плиты к двери.
Надя стирала в сторонке, чтобы не набрызгать. Клава писала свои конспекты. Сима уткнулась в угол дивана с книжкой. Вера в другой угол – тоже с книжкой. Тетя Лиза подсела к столу, напротив Клавы, и разложила свое вязанье.
– Девьки, почитали бы чего в голос, а то я плоха глазами стала, только и могу, что наобум вязать.
– А чего тебе хочется? – спросила Сима.
– А все того же, про то, как люди на земле живут…
Валька сидит, слушает, со всеми задумывается, со всеми громко смеется, как будто все ему понятно, а если не до конца понятно – какая разница: ему тоже весело и хорошо в этом доме.
Была еще одна причина, по которой повадился к Кирюшкиным Валька. Какой бы он умный и взрослый ни был, а ему все равно хотелось, чтобы хоть иногда погладили его по голове или что-нибудь у него спросили, ну вроде: «Как живешь?» или: «Отчего такой невеселый?» Все это так хорошо получалось у тети Лизы, что Валька думал не раз: почему не она его бабушка?
* * *
Варвара Ивановна делала вид, что не вмешивается в дела внука, а сама ревниво и зорко следила за ним, всегда знала, куда он пошел.
Она заметила, что Валька часами пропадает где-то, и выследила его.
Он играл во дворе и вдруг вскочил, к чему-то прислушиваясь, потом сорвался с места и побежал напрямки через двор, через соседние огороды к дому «шалавой вдовы», о которой Пелагея говорила гадости. Бабка припустилась за внуком..
Валька перескочил высокий порог и кинулся к детской кроватке, стоявшей в дальнем углу полупустой, давно не метенной комнаты. Поверх кроватки накинута была простыня, прикрепленная со всех сторон бельевыми прищепками. Отчаянно плакавший ребенок тыкался головкой в натянутую простыню. В другом углу, на грязном столе, сидела девчонка лет шести и тоже ревела.
Срывая прищепки, Валька ругался:
– Дура березовая!
Бабка отпрянула от двери и фыркнула – это она так честит Пелагею.
Валька вынул двухлетнего мальчишку из кроватки и, весь красный от натуги, потащил его к столу, усадил, обтер ему ладонями мокрое лицо и строгим голосом скомандовал девчонке:
– Держи брата, а то на пол брякнется!
После этого он подошел к кроватке и, сунув руки глубоко в «карманы», долго смотрел, укоризненно покачивая головой.
– Шляться с утра до ночи время есть, а чтоб за дитем присмотреть, так нету!
Старуха снова хмыкнула в платок, узнав на этот раз Пелагеины слова.
Валька громко вздохнул и полез в кроватку. Он долго топтался в ней, пока смог перевернуть на другую сторону мокрый матрасик. Застлал его простыней, из которой мать делала мальчонке клетку, чтобы тот не выпал.
После этого, степенно шагая по комнате, Валька вернулся к столу, влез на него и, втиснувшись между ребятами, улыбнулся сначала одному, потом другому. Потом сунул руку за пазуху и выудил оттуда кусок колотого сахара. Откусил и дал сперва девчонке, но не в руку, а прямо в рот:
– Убери грязные лапы!.. А теперь закрой рот и соси.
Малышу тоже сам положил в рот «конфетку», потом наклонил его вперед, и, пока тот сосал, Валька, придерживал его в такой позе, чтобы мальчонка не поперхнулся.
Назад бабка, шла медленно и вытирала глаза. Она пошла к Ксюше и объявила, что внук в ней сердце кверху донышком перевернул и что пусть у нее руки отсохнут, если она его когда пальцем тронет или возьмется ругать за то, что он кудысь таскает еду!
На этой же неделе, никому ничего не говоря, Варвара Ивановна купила козу. Оттого, что выбирала долго, дотошно торгуясь, коза попалась никудышная. Но Вальке она сразу понравилась, потому что бабушка сказала:
– Твоя будя!
Коза была старая, с плешивой шеей, грязно-белого цвета; все это не имело никакого значения. Плохо другое. Козу купили с именем. Ее звали Катькой. Переименовывать нельзя – Валька понимал это: она уже давно привыкла. И очень жаль! А как хорошо бы звать Джулькой. А попался бы козел, Валька непременно назвал бы его Джульбарсом.