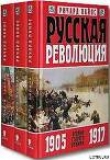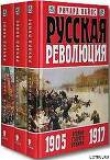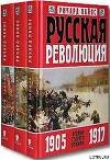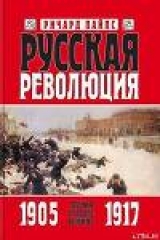
Текст книги "Русская революция. Книга 1. Агония старого режима. 1905 — 1917"
Автор книги: Ричард Пайпс
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 37 страниц)
Полковник А.П.Мартынов, знаменитый начальник московской охранки, передавая по инстанции начальству информацию о кадетской конференции, почерпнутую из донесений своих агентов, снабдил ее собственным комментарием. По его мнению, суть кадетской стратегии выражена в резолюции, в которой говорится о необходимости «поддержания связи с широкими слоями населения и организации демократических элементов страны для противодействия общей опасности». Перспектива революции, добавлял он, – разразится ли она сейчас или после войны, когда страна столкнется с проблемами, которые правительство будет не в состоянии решить, – одинаково пугает кадетов65.
Чтобы заставить правительство сдаться, кадеты избрали весьма рискованную и столь не приличествующую партии, всегда гордившейся законными методами борьбы и уважением к закону, линию поведения, что это можно объяснить лишь охватившей кадетов паникой. Кадеты публично приняли решение предъявить премьер-министру обвинение в измене. Не было ни малейших оснований для такого обвинения, и кадеты это вполне сознавали. Штюрмер был, конечно, бюрократом и реакционером, не годящимся на роль главы российского правительства, но ничего даже отдаленно смахивающего на измену он не совершал. Однако слухи об измене были так живучи в тылу и на фронте, что кадеты решили воспользоваться ими, обыграв немецкое происхождение фамилии главы кабинета министров. [Черменский Е.Д. IV Государственная дума и свержение царизма в России. М., 1976. С. 204–206; Дякин. Русская буржуазия. С. 241. О непопулярности Штюрмера из-за немецкого звучания его фамилии см.: ИА. 1960. № 1. С. 207. Не будь столь удобного предлога, обрушились бы на Протопопова, придравшись к его беседе с германским представителем в Стокгольме.].
Кадеты согласовали свои действия с другими партиями Прогрессивного блока. 25 октября блок принял общую платформу: требовать отставки Штюрмера, добиваться отмены законов, принятых по статье 87, и «акцентировать внимание на слухах о стремлении правых заключить сепаратный мир с Германией»66.
Тем самым лидеры оппозиции вступили на путь, с которого им уже нельзя было свернуть – путь этот вел к революционному столкновению с престолом.
Штюрмер, посвященный полицией в курс этих событий, был, естественно, взбешен. Он предупредил царя, что на заседании Думы оппозиция собирается обвинить министров в коварной измене67. Использование таких приемов в военное время едва ли не преступно и было невообразимо ни в одной другой из воюющих стран. А в качестве первого шага Штюрмер предлагал лишить депутатов денежного содержания, а депутатам призывного возраста пригрозить отправкой в действующую армию. Кроме того, он испрашивал полномочий, если того потребуют обстоятельства, распустить обе палаты и назначить новые выборы. Николай уклонился от решительных действий – он желал, если это только возможно, избежать столкновений и позволил Штюрмеру распустить Думу, как он выразился, лишь в «крайнем случае»68. Власть как будто ускользала из рук царя, и у него не было сил ее удержать. Крайне измученный бессонницей и совершенно обескураженный, он потерял интерес даже к ежедневной прессе, и единственным его чтением стал «Русский инвалид» – патриотическая ежедневная газета, издаваемая военным министерством69.
Не получив искомых полномочий, Штюрмер счел себя вправе в частном порядке сообщить думским лидерам, что, если они осмелятся обвинить правительство в предательстве, Дума будет тотчас же закрыта, а возможно, и вообще распущена70.
Это предостережение расстроило ряды Прогрессивного блока, отколов его радикальное крыло, представленное левыми кадетами и прогрессистами, от более умеренного блока, который составляли основная масса кадетов, октябристы и отдельные консерваторы. Кадеты, связанные резолюцией партийной конференции, предупредили консервативно настроенных соратников, что, если они их не поддержат, кадеты примут еще более резкую резолюцию71. В.В.Шульгин и другие националисты выразили недовольство предложениями кадетов, полагая, что публичное обвинение в предательстве повлечет за собой катастрофические последствия. Стремясь не потерять поддержки консерваторов, кадеты согласились принять резолюцию блока, из которой слово «предательство» будет изъято72. Прогрессивная партия, недовольная этим компромиссом, вышла из блока. Левые кадеты тоже угрожали уходом, однако Милюкову удалось переубедить их, пообещав направить «резкий» адрес в Думу73.
* * *
Заседания Думы открылись 1 ноября в 2.30 пополудни в атмосфере необычайно напряженной.
Председательствующий Родзянко начал с короткого патриотического обращения. Едва он закончил, все министры, предводительствуемые Штюрмером и Протопоповым, поднялись с мест и покинули зал, следом за ними ушли иностранные послы. [По словам французского посла, это было сделано по требованию Штюрмера (см.: Paleologue M. La Russie des Tsars pendant la Grande Guerre. P., 1922. V. 3. P. 86–87).]. Социалисты реагировали криками и шумом. С.И.Шидловский, лидер октябристов и оратор Прогрессивного блока, зачитал основное обращение. Он критиковал правительство за то, что оно, с целью проводить законы по статье 87, оттягивало созыв Думы, за небрежение проблемами продовольствия и использование военной цензуры ради охраны своего «несуществующего престижа». Он предупредил, что над Россией нависла серьезнейшая опасность. Стране нужно правительство народного доверия, и Прогрессивный блок будет стремиться к достижению этой цели «всеми доступными нам законными способами»74.
Керенский разразился истерической речью, уснащенной столь резкой бранью, какую еще не доводилось слышать под сводами этого зала75. Он обвинил «командующие классы» Европы в том, что они ввергли «демократию» в кровавый вихрь войны. Русское правительство он обвинил в том, что оно установило в стране режим «настоящего белого террора» и заполнило тюрьмы рабочими. И за всем этим стоит «Гришка Распутин». Возбуждаемый звуками собственного голоса, он воскликнул риторически: «Неужели, господа, все, что мы переживаем, не заставит нас единодушно сказать: главный и величайший враг страны не на фронте, он находится здесь, между нами, и нет спасенья стране, прежде чем мы единодушным и единым усилием не заставим уйти тех, кто губит, презирает и издевается над страной».
Сравнив министров с «наемными убийцами» и указав на оставленные ими места, он гремел: «Где они, эти люди, в предательстве подозреваемые, братоубийцы и трусы?»
Не обращая внимания на замечания председательствующего, Керенский продолжал свою диатрибу в том же духе, предостерегая, что Россия «находится на краю величайших испытаний, не бывавших в русской истории» и грозящих анархией и разрухой. Настоящие враги России те, кто ставит личные интересы выше интересов страны: «Вы должны уничтожить власть тех, кто не сознает своего долга. Они [указывая на пустые места правительства] должны уйти, они являются предателями интересов страны».
На этих словах председательствующий попросил Керенского сойти с трибуны.
Левые бурно приветствовали его, но у большинства Думы, уже привыкшего к риторическим эскападам Керенского, особым уважением он не пользовался. Иное дело, когда на трибуну поднялся Милюков: он снискал репутацию ответственного и благоразумного государственного мужа, и поэтому его речь, лишь немногим уступавшая по резкости выражений тираде Керенского, прозвучала значительно весомей. Следует помнить, что его обращение к Думе было результатом компромисса, достигнутого левой и правой фракциями Прогрессивного блока, и из солидарности с первыми, включавшими в себя значительную часть и его партии, Милюков обвинил правительство в предательстве, но, чтобы успокоить вторых, облек свое обвинение в более обтекаемую форму вопроса.
Милюков припомнил преобразования, произошедшие в России в 1915 году вследствие поражений на фронте, и надежды, которые эти перемены заронили в обществе. Но ныне, по истечении двадцати семи месяцев войны, настроение в стране иное: «Мы потеряли веру в то, что эта власть может нас привести к победе». Все союзные государства создали правительства национального единства, привлекая к военным усилиям самых достойных граждан, невзирая на партийную их принадлежность. А что в России? Здесь все министры, способные получить поддержку парламента, были устранены. Почему? Объяснение этого феномена Милюков стал искать в предательстве, опираясь на сведения, будто бы полученные им во время последней поездки по Европе: «Во французской желтой книге был опубликован германский документ, в котором преподавались правила, как дезорганизовать неприятельскую страну, как создать в ней брожение и беспорядки. Господа, если бы наше правительство хотело намеренно поставить перед собой эту задачу или если бы германцы захотели употребить на это свои средства, средства влияния или средства подкупа, то ничего лучшего они не могли сделать, как поступить так, как поступало русское правительство [Родичев с места: «К сожалению, это так»]»76.
Поведение правительства породило слухи об измене в высших эшелонах власти, распространившиеся по всей стране. И тут Милюков извлек заготовленную «бомбу»: ссылаясь на сообщение «Berliner Tagwacht» от 16 октября, он рассказал о том, что германское посольство еще до войны воспользовалось услугами личного секретаря Штюрмера, некого И.Ф.Манасевича-Мануйлова, журналиста с весьма темным прошлым, для подкупа консервативной газеты «Новое время». Отчего же дело, поначалу возбужденное против этого господина, было вскоре прекращено? Оттого, объяснял Милюков, что, как признал на следствии сам Мануйлов, он передал часть врученной ему немцами суммы премьер-министру Штюрмеру. Далее Милюков привел отзывы австрийской и немецкой прессы, весьма довольной отставкой Сазонова и замещением его на посту министра иностранных дел Штюрмером. Из приведенных свидетельств не может не создаться впечатления, что Штюрмер имел тайные связи с врагом и прилагал усилия для заключения сепаратного мира.
В этом месте из-за возмущения правых, выкрикивавших, что утверждения Милюкова – клевета, ему пришлось прервать выступление. Когда порядок был восстановлен, Милюков сделал несколько туманных, но зловещих намеков о деятельности некоторых симпатизирующих немцам дам за границей и в Петрограде. «Нам нужно судебное следствие, вроде того, какое было произведено над Сухомлиновым. Когда мы обвиняли Сухомлинова, мы ведь тоже не имели тех данных, которые следствие открыло. Мы имели то, что имеем теперь: инстинктивный голос всей страны и ее субъективную уверенность».
Во время пребывания в Париже и Лондоне, продолжал Милюков, ему рассказали, что центральные державы имеют доступ к самым сокровенным государственным тайнам России. Не так обстояло дело, когда за внешнюю политику отвечал Сазонов. Затем Милюков упомянул о встрече Протопопова с немецким бизнесменом в Стокгольме прошлой весной (что вовсе не было секретом и о чем Протопопов лично докладывал царю), вновь и вновь вызывая в сознании аудитории мысли об измене и подготовке почвы к сепаратному миру. Напомнив об уходе Протопопова из Думы в начале заседания, Милюков воскликнул: «Он слышал те возгласы, которыми вы встретили его выход. Будем надеяться вместе с вами, что он сюда больше не вернется».
Вновь обратившись к теме, с которой начал, Милюков заметил, что раньше была возможность взаимодействия Думы и правительства, но сейчас все по-иному. Воспользовавшись пресловутой фразой Шуваева: «Я, быть может, дурак, но я не изменник», Милюков увенчал свою речь изящным риторическим рефреном. «Что это, глупость или измена?» – вопрошал он, – глупость или измена, что Россия была не подготовлена к операции на Балканах после выступления на ее стороне Румынии; что Россия оттягивала предоставление польской автономии, пока к этому не вынудили немцы; что правительство расценивало как подстрекательство к мятежу все попытки Думы организовать внутренний фронт; что департамент полиции подстрекал к забастовкам и устраивал другие «провокации», чтобы иметь предлог для мирных переговоров? И на каждый из этих вопросов аудитория громко отзывалась: «Глупость!», «Измена!», «Одно и то же!» Впрочем, сам ответил на свой вопрос Милюков, это действительно не важно, ибо результат одинаковый. И, уходя с трибуны, он потребовал отставки кабинета министров.
Упомянутая Милюковым «субъективная уверенность» в том, что высшие сановники идут на соглашение с врагом, не имела под собой ни малейших оснований. Грубо говоря, это был чистейший вымысел. Милюков, конечно, прекрасно понимал, что ни Штюрмер, ни кто-либо другой из министров не совершали измены, и каковы бы ни были недостатки премьер-министра, он оставался лояльным российским гражданином. Позднее, в своих мемуарах, Милюков признал это77. И тем не менее он чувствовал за собой моральное право клеветать на невиновного человека и бросать самые тяжкие обвинения в адрес правительства, ибо считал, что в настоящий момент всего важнее кадетской партии получить власть в стране, пока страна еще не погибла78.
На самом деле Милюков способствовал нагнетанию революционных страстей не меньше, чем все действия – или, вернее, бездействие – правительства. Резонанс от его выступления, привлекшего всеобщее внимание благодаря тому, что он говорил от имени самой значительной в России политической партии, еще более укрепила его репутация известного ученого: было невозможно вообразить, чтобы человек его положения в обществе мог выдвинуть столь серьезные обвинения, не имея неопровержимых доказательств. Некоторые даже полагали, что союзники сообщили Милюкову дополнительные уличающие свидетельства, которые он не пожелал огласить из соображений безопасности. Правительство запретило прессе печатать или комментировать речь Милюкова. Но этот запрет только усилил интерес к ней. Перепечатанная на машинке, размноженная на мимеографе и расклеенная по стенам, речь Милюкова распространилась на фронте и в тылу в миллионах копий79. Эффект был разительный: «Упрощавшая молва в народе и в армии гласила: член Думы Милюков доказал, что царица и Штюрмер предают Россию императору Вильгельму»80. И чувства, которым дала волю речь Милюкова, сыграли важнейшую роль в февральской революции81, первоначальным и единственно существенным мотивом которой было озлобление на предательское правительство.
Но и последующие заседания Думы были для властей неутешительными. Шульгин, лидер прогрессивных националистов, заявил, что страна, два года храбро сражавшаяся с врагом, «смертельно боится собственного правительства… Люди, которые бестрепетно смотрели в глаза Гинденбургу, затрепетали перед Штюрмером»82. И левые восторженно аплодировали этому монархисту и антисемиту. Единственным оратором, защищавшим власть, был Н.Е.Марков (известный как Марков Второй), закоренелый реакционер и патологический юдофоб, позднее, в эмиграции, поддерживавший нацистов, а в тот период получавший регулярные субсидии от Протопопова.
Заседания Думы, проходившие с 1 по 5 ноября 1916 года, отмечены нагнетанием революционного психоза: мощно ощущавшегося, необъяснимого стремления к разрушению всего здания российской монархии. Эти чувства, давно уже разделяемые радикальной интеллигенцией, теперь захватили и либеральный центр, и даже просочились в ряды консерваторов. Генерал-адъютант В.Н.Воейков, наблюдавший за происходящим из Ставки в Могилеве, говорил о том, что «массовый психоз проявился во внедрении убеждения о необходимости сломать и уничтожить нечто, тяготившее людей и не дававшее им жить»83. Другой современник писал в декабре 1916 года об «осаде власти, обратившейся в спорт»84.
Эти настроения пронизали все слои общества, о чем говорит поведение даже ближайших родственников царя, великих князей, примкнувших к Прогрессивному блоку. В конце октября, перед созывом Думы царь провел несколько дней в Киеве с матерью и близкими родственниками, предостерегавшими его от влияния жены и Распутина85. 1 ноября он принимал в Ставке вел. кн. Николая Михайловича, который не только был известен в обществе как историк-любитель, но и гордился репутацией самого радикального из Романовых, этакого русского Филиппа-эгалите. Он привез письмо царю, в котором умолял его избавиться от Распутина. Но он пошел дальше, затронув самый щепетильный вопрос о неблагоприятном влиянии императрицы:
«Ты доверяешь Александре Федоровне. Это вполне естественно. Между тем то, что она говорит тебе, не есть правда, она повторяет лишь то, что ей внушили. Если ты не властен отдалить ее от этого влияния, огради по крайней мере себя от постоянных систематических маневров, проводящихся через посредство твоей возлюбленной жены… Когда настанет час – а он уже близок, – с высоты трона ты можешь сам сделать министров ответственными перед тобой и законодательными учреждениями. И сделать это просто, естественно, без давления извне и по-иному, чем достопамятный акт 17 октября 1905 года… Ты стоишь на пороге эры новых волнений, на пороге эры покушений. Поверь мне, если я так настаиваю на твоем освобождении от цепей, которые тебя опутали, то делаю это лишь в надежде спасти тебя и спасти твой трон и нашу любимую родину от непоправимых бед»86.
Царь, не потрудившись прочесть письмо, переслал его жене, которая пришла в невыразимый гнев и потребовала удалить Николая Михайловича из Петрограда87.
7 ноября царь принял вел. кн. Николая Николаевича, командующего Кавказским фронтом, который уговаривал его позволить Думе назначить кабинет министров88.
Невероятно, но даже Объединенное дворянство, эта вернейшая и крепчайшая опора монархии, приняло в Москве и Петрограде резолюцию, поддерживающую Прогрессивный блок89. Действительно, трудно было найти сколь-нибудь значительного политического деятеля или группу, даже самого крайнего консервативного, националистского толка, не присоединившихся к общему требованию фундаментальных перемен в структуре и личном составе правительства.
Штюрмер счел себя вправе, не только из личных соображений, но и из интересов государственной безопасности, потребовать роспуска Думы и ареста Милюкова90. Однако он не нашел поддержки, на которую рассчитывал: царь и министры были скованы страхом. В правительстве его сторону взял один лишь Протопопов. Остальные предпочли избегать резких мер. Царь не хотел идти на окончательный разрыв с Думой и надеялся все уладить, не уступая в критическом вопросе о назначении ответственного министерства. 4 ноября он послал с примирительными обращениями к Думе военного и морского министров91. Александра Федоровна убеждала его держаться твердо, но царь потерял уже всякую волю. И вот, вместо того, чтобы защитить своего премьер-министра от клеветнических обвинений, – истинной мишенью которых был трон, – он решил пожертвовать им и поставить на его место кого-нибудь более угодного Думе. 8 ноября Штюрмер был выведен в отставку. Он так и не мог понять, что произошло, почему его обвинили в измене, в которой он не был повинен, и почему царь не защитил его от ложных наветов. Вскоре французский посол повстречал его на улице: он понуро брел, всецело погруженный в свои мысли и ничего вокруг не замечая92. (Он скончался на следующий год совсем сломленным человеком.)
Думу воодушевила отставка Штюрмера, в которой депутаты видели пример и подтверждение того, что ни один министр, им не угодный, не удержится на своем посту93. И новое назначение на освободившееся место А.Ф.Трепова, возглавлявшего министерство путей сообщения, только углубило их уверенность. Новоназначенный премьер-министр, по стандартам прежнего правительства, которое старческую немощь почитало залогом благонадежности, был человеком еще сравнительно молодым (ему было пятьдесят два года). Происходил он из семьи с давними чиновными традициями. На новом поприще он решился не уступать Столыпину, как и тот, вполне уверенный, что Россия не может долее управляться без содействия парламента. И ради достижения своей цели он готов был пойти на весьма смелые уступки: сформировать приемлемый с точки зрения Думы кабинет, отказаться от практики принятия законов по статье 87, облегчить положение рабочих, а также нацменьшинств – евреев и финнов94. В частных беседах с думскими лидерами во время перерыва в работе Думы (с 6 по 17 ноября) он заручился их поддержкой при условии отставки Протопопова.
В первой половине ноября 1916 года царь практически уступил революционным требованиям; окружающим он казался в те дни подавленным и безразличным95. И если бы русские либеральные политики могли трезво оценить положение, они бы убедились, что – по сути, если и не по форме, – они в общем-то получили то, чего добивались. Изгнав без достаточных оснований Штюрмера, заменив его премьер-министром, сочувствующим программе Прогрессивного блока, не распустив мятежную Думу, а предоставив ей возможность работать, царь сдался перед оппозицией. Но оппозиции, уже почуявшей запах крови, этого было недостаточно.
Несмотря на все свои благие намерения, Трепов мало преуспел. 19 ноября, когда возобновились заседания Думы, он обратился к ней с программной речью. Левые, предводительствуемые Керенским и Чхеидзе, встретили его оскорбительными выкриками, и в течение сорока минут он не мог промолвить ни слова. [Дякин. Русская буржуазия. С. 251. Самых крикливых, и среди них Керенского и Чхеидзе, Родзянко на пятнадцать дней отстранил от работы в Думе.]. Когда порядок наконец был восстановлен, он произнес примирительную речь, весьма напоминавшую по духу и содержанию столыпинские выступления в Думе. Он обещал положить конец беззаконию. Он просил помощи: «Забудем старые споры, отложим распри… От лица правительства я прямо и открыто заявляю, что оно исходит из желания посвятить свои силы на совместную с законодательными установлениями положительную реальную работу»96.
Обязанность патриотов – не разрушать правительство, но укреплять его. Трепов воспользовался случаем, чтобы сообщить, что союзники пообещали России Константинополь и Черноморские проливы.
Все его усилия были тщетны. Постоянно прерываемый и сбиваемый с толку, Трепов распинался перед аудиторией, не желавшей идти на примирение: получив в жертву Штюрмера, она требовала теперь головы Протопопова. Когда Трепов закончил, слово попросил Пуришкевич. Приветствуемый социалистами, этот крайний монархист потребовал, чтобы правительство «прекратило продавать Россию немцам» и избавилось от Распутина и «распутинщины».
На последующих заседаниях признаков охлаждения страстей тоже не наблюдалось. Радикальные депутаты, не сдерживаемые теперь уже почти никакими запретами, открыто призывали страну к бунту. Меньшевики и другие социалисты покинули Думу 2 декабря, когда Прогрессивный блок единодушно одобрил отказ правительства принять предложение Германии о заключении сепаратного мира. Две недели спустя Керенский призвал население не подчиняться правительству97.
Не получил Трепов поддержки и при дворе. Императрица, боясь потерять свое влияние, интриговала против него. В письмах мужу она называла его не иначе, как лжецом, заслуживающим виселицы98. Николай на сей раз не внял советам жены и согласился с Треповым, что Протопопов должен уйти. 11 ноября он сообщал, что Протопопов не хорош и будет замещен, и просил при этом не вовлекать в это дело Распутина, целиком принимая на себя ответственность за это решение. Весьма обеспокоившись, Александра Федоровна телеграфировала мужу просьбу не предпринимать ничего до их встречи и на следующий день вместе с детьми отправилась в Могилев. На месте ей быстро удалось переубедить Николая. Когда Трепов прибыл в Могилев получить одобрение кандидатуры преемника Протопопова, царь осадил его, заявив, что Протопопов все-таки останется. Даже угроза Трепова подать в отставку не заставила его смягчиться. А.И.Спиридович приводит этот эпизод как ярчайший пример влияния Распутина99.
* * *
К концу 1916 года все политические партии и группировки объединились в оппозицию к монархии. Впрочем, это было их единственной точкой соприкосновения – ни в чем другом они не сходились. Крайне левых не устраивало что-либо меньшее, чем радикальное преобразование политического, социального и экономического устройства России. Либералы и либерал-консерваторы удовольствовались бы парламентской демократией. И те и другие, при всем их различии, вели речь об институтах власти. Крайне правые, теперь тоже примкнувшие к оппозиции, напротив, сосредоточили внимание на личностях политических деятелей. По их мнению, в российском кризисе повинен был не сам режим, а люди, стоявшие у кормила власти, а именно императрица-немка и Распутин. И стоит убрать их с политической арены, считали они, как все пойдет хорошо. Добраться непосредственно до императрицы было невозможно, ибо это означало дворцовый переворот, но некоторые монархисты полагали, что той же цели можно достичь, изолировав ее от Распутина. Зная страстную привязанность Александры Федоровны к «старцу», легко было предположить, что разлука с ним сломит ее физически. А избавленный от пагубного влияния жены, царь примет здравое решение и уступит власть Думе. Если же он не пойдет на это, можно будет назначить регента – кого-нибудь из великих князей, всего вероятнее Николая Николаевича. Такие разговоры в ноябре и декабре 1916 года велись повсеместно в высших кругах: в яхт-клубе, посещаемом великими князьями, в кулуарах Думы и Госсовета, среди монархистов, в аристократических салонах, даже в Ставке в Могилеве. Повторялась ситуация марта 1801 года, когда заговор против Павла I, обернувшийся его убийством, был на устах всего петербургского общества.
Распутин стал естественной мишенью для правых потому, что влияние на царствующую чету открывало ему доступ к министерским назначениям. Штюрмер, Протопопов и Шуваев, занимавшие ключевые посты в российской администрации, обязаны были своим возвышением именно Распутину. Правда, его протеже Штюрмер был заменен врагом – Треповым, но при этом все понимали, что перебежавший дорогу «старцу» на удачную карьеру надеяться не может. Поговаривали даже, что Распутин вмешивается и в военные дела. Действительно, в ноябре 1915 года Распутин давал, через императрицу, стратегические советы Ставке. «Теперь, чтоб не забыть, – писала Александра Федоровна мужу 15 ноября 1915 года, – я должна передать тебе поручение от нашего друга, вызванное его ночным видением. Он просит тебя приказать начать наступление возле Риги, говорит, что это необходимо, а то германцы там твердо засядут на всю зиму, что будет стоить много крови, и трудно будет заставить их уйти»100. Ни Николай, ни генералы не обращали внимания на подобные советы. Распутину строго запрещалось появляться в Ставке. И все же тот факт, что малограмотный крестьянин свободно давал советы в военных вопросах, не мог не задевать за живое консерваторов.
В Царском Селе его слово было законом. Распутин часто предрекал, что, если с ним что-нибудь случится, Россию ждут новые смутные времена. Его посещали видения потоков крови, пламени и дыма – темные, никак разумно не объясняемые предзнаменования несчастий, действительно вскоре оправдавшиеся101. Его предсказания беспокоили императрицу, заставляли еще ревностней защищать его от врагов, которые были, в ее глазах, врагами и династии, и России.
Распутин упивался своим могуществом. Его пьяные оргии, бахвальство и бесцеремонность становились с каждым днем все более вызывающими. Дам из высшего общества завораживали его грубая мощь, гипнотический взор и дар прорицателя. Распутин принадлежал к секте хлыстов, которые учили, что, согрешая, человек уменьшает количество греха в мире. В его доме с вечными цыганами вино текло рекой. Впрочем, любовные подвиги, приписываемые ему молвой, были более чем сомнительны. Врач Р.Р.Вреден, осматривавший Распутина в 1914 году, когда того ранила ножом ревнивая подруга, нашел детородные органы пациента в состоянии, которое наблюдается у весьма пожилых людей, что заставило врача усомниться в его способности вообще вести половую жизнь, и он приписал это действию алкоголя и последствиям сифилиса. [Архив С.Е.Крыжановского Box 5. File «Распутин» (Бахметьевский архив. Колумбийский ун-т, Нью-Йорк). Вырубова отрицала слухи о половой распущенности, утверждая, что он был совершенно равнодушен к женщинам и что она не знает ни одной, имевшей с ним интимной связи (Viroubova A. Souvenirs de ma vie. P., 1927. P. 115)].
Поведение Распутина было столь вызывающим, потому что он ощущал себя стоящим над законом. В марте 1915 года шеф корпуса жандармов В.Ф.Джунковский осмелился доложить царю о том, что его агенты подслушали, как во время обеда в московском ресторане «Прага» Распутин хвастался, будто «может сделать, что захочет», с императрицей. В «благодарность» Джунковский был снят с должности и отправлен на фронт. После этого случая в полиции сочли более благоразумным держать порочащую Распутина информацию при себе. Льстецы и карьеристы, ищущие повышений по должности, стлались перед ним, честным патриотам грозила немилость, если они вызывали его недовольство. Гучкова и Поливанова, столько сделавших для возрождения русских военных усилий после разгрома 19.15 года, держали от двора на безопасном расстоянии, а Поливанову неприязнь Распутина стоила в конце концов должности. И то, что бразды правления всей страны оказались в руках такого шарлатана, более всего оскорбляло чувства монархистов.
Отношение царя к Распутину было двойственным. Он говорил Протопопову, что если сначала не принимал его во внимание, то со временем «привык» к нему102. Впрочем, Николай редко виделся со «старцем», предоставляя его императрице, которая принимала Распутина чаще всего в обществе Вырубовой. Коковцову в 1912 году царь говорил, что «лично почти не знает «этого мужичка» и видел его мельком, кажется, не более двух-трех раз, и притом на очень больших расстояниях времени»103. И все же царь не желал выслушивать никакой критики в адрес Распутина, считая это «делом семейным» (une affaire de famille), как он заявил однажды Столыпину, запрещая когда-либо впредь касаться этой темы104. «Семейным» это дело было в том смысле, что Распутин будто бы обладал уникальной способностью затворять кровь и облегчать страдания наследника, болезнь которого оставалась вечной и неизбывной болью родителей. Дети в царской семье вообще были очень привязаны к «старцу». Однако царь твердо стоял на одном: Распутин не должен касаться политики105.
К концу 1916 года у правящей четы сложилось убеждение, что оппозиция, стремящаяся свергнуть их с престола, нападает на их избранников и друзей исключительно в силу принципа: любой, на ком останавливался царственный выбор, каковы бы ни были его действительные заслуги, обречен подпасть под обстрел оппозиции. Но истинной мишенью была сама царская чета. Что это именно так, царственным супругам пришлось убедиться на примере Протопопова, которого назначили как раз с целью угодить оппозиции, но едва лишь он вступил в должность, как оппозиция набросилась на него. Царица писала мужу: «Помни, что дело не в Протоп. или X, Y, Z. Это – вопрос о монархии и твоем престиже, которые не должны быть поколеблены во время сессии Думы. Не думай, что на этом одном кончится: они по одному удалят всех тех, кто тебе предан, а затем и нас самих»106.